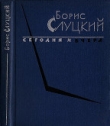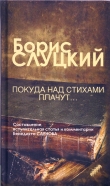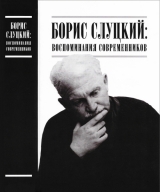
Текст книги "Борис Слуцкий: воспоминания современников"
Автор книги: Илья Эренбург
Соавторы: Бенедикт Сарнов,Евгений Евтушенко,Андрей Вознесенский,Александр Городницкий,Владимир Корнилов,Алексей Симонов,Давид Самойлов,Владимир Огнев,Григорий Бакланов,Семен Липкин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 37 страниц)
Жесткие Биргер, Краснопевцев, скупые на эмоции, сосредоточенные на внутренней неподдаваемости миру, по-своему оттеняли трубные зовы патетичного Сидура. Слуцкий ценил их, чувствуя свою близость их общей эстетике сопротивления действительности, где царили фальшь и ложная красивость, поза, мнимая монументальность.
…Окружение Слуцкого, ближайшее окружение не было ни случайным, ни неожиданным.
Но сам Слуцкий неожиданным бывал.
Зима, точнее – январь 1964 года. Наконец я получаю свой угол. Борис с Таней пришли на новоселье. Мы сидим на газетах (мебели нет) на только что отциклеванном полу, пьем «гурджаани». Закуски нет.
Темнеет. Мы с женой идем провожать Слуцких. В переулке, по пути на Балтийский, какие-то парни останавливают нас. Их шестеро, нас двое.
На Бориса насели четверо. Я едва отбиваюсь от двух. Как он дерется! Приговаривая: «Трое на одного!» Я кричу: «Четверо!» Но он упорно повторяет: «Трое!» Благородство и тут не подводит Слуцкого. Он делит поровну противников, спасая мою гордость.
Слышу крик: «Очкарик Кольку убил!» Оказывается, поскользнулся визави и без моей помощи ушиб голову о край ледяного тротуара. И лежит.
Свист. Все разбегаются.
Потери: огромный фингал у Бориса. Распоротый на спине (просторный на счастье) гуральский кожушок, купленный в Закопане, спас меня – финка задела мышцу у позвоночника.
Дома у Бориса. Слуцкий с интересом смотрит в зеркало: «Самое пикантное – я завтра выступаю по телевидению».
Утром я делюсь с Аркадием Адамовым подробностями происшествия. Тот рвется оповестить милицию.
Звонит Борис: «Перестаньте делать из нас героев». Жестко и сухо. Я перестаю.
Через тридцать лет Юра Болдырев показывает мне ненапечатанное стихотворение Слуцкого «Драка». Что вы думаете, о чем оно? О стыде. Стыдно ощутить в себе это чувство – бить, бить, бить! Бить человека…
…Литва. Светлов, Рождественский, Лев Озеров, Слуцкий и я подымаемся на сцену в Вильнюсе. Телевизионщик подбегает с камерой, направляя ее на Бориса. «Прекратите!» – вдруг кричит Слуцкий, краснея, и закрывает лицо. Все в смущении. Телевизионщик что-то говорит Межелайтису, тот смеется. «О чем он?» – спрашиваю я. Эдуардас не сразу переводит: «Наверное, он был полицаем и боится, что его опознают».
А Борис вдруг успокаивается и просит извинения. Теперь очередь смутиться телевизионщику.
Я писал в воспоминаниях о Пастернаке, как Евтушенко на моих глазах подал Слуцкому «тридцать сребреников» – две пятнашки. За его выступление против Пастернака. Тогда я был поражен неожиданностью поступка Бориса. Теперь я жалею Слуцкого и смущен эффектной жестокостью Евтушенко. Кстати, потом в «Юности» я напечатал статью Слуцкого о Евтушенко – благородную и умную, как все, что выходило из-под пера Слуцкого.
Он оставил статьи и о моем «Югославском дневнике», о фильме «Ночи без ночлега», поставленном на литовской киностудии по моему сценарию. Я горжусь этим. Отзывы Слуцкого честны, непредвзяты, а масштаб его мысли делает честь адресату.
Немало написано о болезни Слуцкого. Почти все писавшие прямо связывают уход Слуцкого из жизни со смертью жены. Да, этот мучительно долго готовившийся удар судьбы Бориса добил. Он знал, что Таня смертельно больна, не один год. И чего ему стоило это знание, можно представить.
Однако первопричиной болезни были: тяжелое черепное ранение на фронте[27]27
Слуцкий был ранен в июле 1941 г. (Осколочное ранение под лопатку), перенес несколько контузий. – Примеч. сост.
[Закрыть], многолетняя бессонница на этой почве, нервное перенапряжение, связанное с крахом идей и борьбой за их сохранение в своей душе.
Это последнее обстоятельство забывать нельзя. Цельная личность не в состоянии приспособиться к эпохальным переменам с легкостью, свойственной умам поверхностным и внушаемым. Увы, трагедия Маяковского, по-своему Есенина – всё прочитывается мелко, на уровне: любила – не любила, пил – не пил. Депрессия Блока и Слуцкого – одного корня. Время рушилось. А болезни только догоняли его.
Мы много говорили с Борисом о Революции. И он, и я не дошли до хулы Великой Надежды. Но видимая всем вершина айсберга не ослепила Слуцкого. Тяжело, мучительно переживал и, главное, передумывал он судьбу идеи, по последствиям и отзвуку – планетарной. «Смена вех» не коснулась поэта. Пройденный путь оставался основой опыта.
Когда ушла из жизни жена, Борису уже не за что было держаться – исчезла последняя связь с действительностью. Только и всего. Татьяна Дашковская была спасательным кругом в ночи, когда тонул «Титаник»…
Девять лет – в это трудно поверить – Слуцкий был выключен из нашей жизни. 1-я Градская, Кунцево, краткое лечение дома, Кащенко. Потом Тула, семья брата.
В Градской он лежал в отдельном боксе, рядом с туалетом, дверь всегда была открыта. За зарешеченным окном – выбитая земля и жалкий кустик. Я приходил один, потом – с Межировым, Руниным, Винокуровым. Не пускали – использовал ключ для вагонов.
Однажды, когда мы остались вдвоем, он, волнуясь, рассказал свой сон. Газета. Рисунок: он в полосатой арестантской пижаме (так он сказал), над ним склонился я с лейкой. Заголовок – черным крупным шрифтом: «Огнев поливает ядовитые цветы». Я пытался превратить все в шутку. Он не принял этого тона. Был серьезен и мрачен. «Я боюсь…» Его не раз преследовали видения ареста. Он говорил мне в больнице в редкие минуты просветления и спокойствия, что его всю жизнь преследовал страх, но просто никто этого не знал. Я говорил, что время сейчас совсем другое, что страхи наши позади. Но он недоверчиво смотрел мне в глаза и спрашивал: «Поклянитесь, что в газетах не было ничего подобного!» Я клялся.
Межиров, которому я рассказал про сон Бориса, ответил: «Он притворяется. И вся болезнь его – притворство. Он нас дурачит. Почему? Потому что подвел черту. Ему неинтересно жить». Межиров же рассказал мне такую историю. Он приехал к Борису и предложил погулять во дворике. Разрешили. Тогда Борис якобы попросил Сашу покатать его по Москве. И прямо в больничной одежде Межиров возил Слуцкого в течение часа, а Борис смотрел в окошко жадно и с интересом. «Вот увидите, скоро его выпишут. Ему самому надоела эта игра». Зная Межирова-мистификатора, я не поверил в то, что Слуцкого катали по Москве. И ни на минуту не подвергал сомнению тяжелую депрессию Бориса, перешедшую в необратимую болезнь. Сюда, в Градскую, принес я маленькую книжку его «Избранного», выпущенного с моим предисловием в Детгизе. Борис взял ее спокойно и медленно прочитал всю. Потом попросил ручку и надписал. Я вздрогнул. Надпись зеркально повторила первый автограф на первой книге: «Владимиру Огневу. – Без Вас, Володя, эта книга не вышла бы. Борис Слуцкий. 21.11.1977».
«Не пишутся стихи. Это главное», – серьезно говорил он. В другой раз, когда мы были с Руниным: «Иногда две-три строчки… И не могу». Стал говорить странные вещи. Когда я начал толковать о его месте в русской поэзии, покачал головой: «Нет, Володя. Если бы я начал сначала, я хотел бы писать как Самойлов, Межиров». Меня это поразило еще и тем, что рядом поставлены были разные художники. Писать так, как они оба, – значило бы не писать никак.
Нет, Слуцкий был Слуцким! Не умаляя значения в нашей поэзии Межирова и Самойлова, я не могу поставить их рядом со Слуцким по одной лишь причине: Слуцкий – большой поэт, и место его в большом ряду вершин русской поэзии. Теперь, кажется, в этом сомневаются немногие из авторитетных литераторов.
Как всякий настоящий поэт, он был как бы и над временем, поскольку знал, что надо всяким временем царят вечные понятия Добра, Справедливости, Чести, Достоинства Человека. Или – не царят.
Скоро мне или не скоро
в мир отправиться иной —
неоконченные споры
не окончатся со мной.
Начаты они задолго,
за столетья до меня,
и продлятся очень долго,
много лет после меня.
И хотя многих вводило в заблуждение то качество его поэзии, которое Симонов назвал «принципиальной достоверностью», а других коробила минутная стрелка на часах его поэзии, оно, это качество, никак не лишало его стихи духовного простора. И хотя Слуцкий говорил, что душа «вещественна», он самой этой вещественностью подчеркнул, что она в центре его поэтической вселенной.
Слуцкий был поэтом-солдатом, а не поэтом-генералом. Он хотел стоять как все. «Кто тут крайний? Кто тут последний?»
«Последнею усталостью устав…» И сегодня, перечитывая его любимое стихотворение о солдате, который лежит в «большой крови», я понимаю, какой масштаб крови виделся поэту, и как молчал Борис последние годы, «последнею усталостью устав», и как он умер…
В том стихотворении была еще одна характерная строка: «А жаловаться ни на что не хочет».
Я думаю, Слуцкий был прежде всего поэтом достоинства и трудного долга. Он знал, что истинно гражданский поэт – это поэт правды и предельного мужества. Он писал о неумении гнуться и предавать:
О вы, кто наши души живые
Хотели купить за похлебку с кашей…
Он верил твердо:
Но все остается – как было, как было! —
Каша с вами, а души с нами.
Он был рыцарем отечественной поэзии. Ее непоказной совестью.
В Кунцеве я не был ни разу. Пропуска заказывать мог только Борис. А он не хотел никого видеть.
Когда он был дома, он отвечал на звонки, сам не звонил. Потом вдруг стал звонить часто, неожиданно обрывая разговор на полуслове.
В Кащенко я бывал уже ежедневно, носил еду. Готовила моя жена специальные блюда, которые он любил. До этого предпочитал еду солдатскую: щи да кашу. Был непривередлив. Но в Кащенко, то ли под влиянием неких препаратов, то ли еще почему-то, вдруг стал капризен в еде и даже… жаден. Съедал принесенное мною, быстро заглатывая пищу, вытирал рот салфеткой и, не прощаясь, молча уходил в палату. Когда я опаздывал – такое случилось дважды, – он говорил ворчливо: «Я умираю от голода!» Все было не так. Не тот становился Слуцкий.
Какое-то время его ужасала бедность. Он твердил, что нет денег, хотя в чем в чем, а в деньгах он нуждался меньше всего.
Как-то он жаловался, что нечем побриться. Но, открыв тумбочку, чтобы положить электробритву, я обнаружил там… четыре других, таких же…
Однажды он позвал меня в палату, попросил поговорить с врачами. Тут он оставаться не может. Хочет в Кунцево (а как торопился оттуда!). Палата в Кащенко была действительно страшная. Огромная казарма с одинаково заправленными кроватями. Днем всех выгоняли в коридор, и они стояли там молча и страшно.
Последний раз я видел его так. Вошел в палату, он был один, лежал с капельницей. Долго смотрел на меня, взял за руку. Потом сказал: «Володя, наклонитесь». Я наклонился. «Поцелуйте меня». Я поцеловал его. Он плакал. Слуцкий плакал!
Я говорил с врачами о переводе. Просил Верченко. Он разводил руками. Чазов отказался вернуть Слуцкого в Кунцево. Наконец удалось договориться, что переведут в домик, вроде отеля, на территории той же Кащенко. Я был там, осмотрел одиночную палату, ковры, вернулся довольный. Но Борис, услышав про ковры, испугался – отказался наотрез. Теперь это был прежний Слуцкий: «Ковры, говорите… Нет. Я хочу быть со всеми». И остался. Потом звонок: «Володя, – говорил Ефим, брат Бориса, – я забираю Борю. Привез теплые вещи. Он больше не может». Я схватил такси. Мы разминулись. Из Тулы часто звонил Ефим. Писал письма. Я писал Борису. По свидетельству брата, он держал их под подушкой и перечитывал. Но согласия на мой приезд не давал. Потом сам попросил, чтобы я приехал. Перед самой смертью. Но я не успел… Вот его последнее письмо мне:
Дорогой Володя!
Спасибо за замечательную книгу. Это первая панорама многих поэзий. Первая попытка уяснить их общие законы. Очень хороши и важны куски об Ийеше, об Исаковском и многое, многое другое. Особое спасибо за страницы обо мне. Так основательно обо мне еще не писали. Целую Надю и Леночку. Брат и его семья кланяются Вам.
Ваш Борис Слуцкий.
Штемпель: получено 25.02.83.
Легко убедиться: письмо психически вполне здорового человека.
Ефим привез тело Бориса в Москву. Остановился на квартире Евгении Самойловны Ласкиной, с которой Борис был дружен.
Холодным ранним утром 27 февраля 1986 года я пошел к врачу рвать зуб. Через час надо было ехать в морг, а оттуда – в крематорий. Мне предстояло вести траурную панихиду. И какой ужас! Заморозка не действовала. Врач всадила мне три шприца подряд. Нервное ожидание похорон друга или что другое – не знаю. Велел рвать, не дожидаясь эффекта заморозки. Но какой страх сковал меня потом… Всю дорогу в крематорий я смотрел в замерзшее окно автобуса, чувствуя, как запоздало немеет челюсть. Я не мог не то что говорить – открыть рта.
Чудо случилось уже в тесном помещении морга, где люди стояли и снаружи, в открытых воротах.
Я шагнул к гробу. И… как говорится, разверзлись уста.
* * *
…Слуцкий любил рекомендовать разных людей. Однажды ко мне пришел Юра Болдырев. Скромный, без претензий, начитанный человек из провинции. Слуцкого – боготворил. Я стал его печатать в «Юности», дал рекомендацию в Союз писателей. После смерти Бориса помог с пропиской в Москве, предложил, с согласия Ефима, поселить «поближе к архиву», в пустующую квартиру Слуцкого. Постепенно энергией и ревнивым упорством Болдырева все хозяйство Бориса перешло под его личную опеку. Можно без преувеличения сказать, что посмертными публикациями поэта, сенсационными открытиями как бы во многом нового Слуцкого мы обязаны ему, Болдыреву, не говоря уже о подвиге кропотливой работы по подготовке и публикациям новых томов изданий Слуцкого.
Для меня лично ничего сенсационного в обнаружении рукописного Слуцкого не было. Не все, но очень многое я знал, к вопросу публикации многих стихов относился сдержанно. Возможно, и потому, что Борис читал мне обычно стихи выборочно, откладывая некоторые, как он говорил, «на потом». А то, что я читал, как правило, требовало либо доводки по качеству, либо какого-то нового идейного фокуса. Мне казалось, и я говорил об этом Борису, что он не решил для себя главного: признает ли наше время то, что оно было рубежом, историческим перевалом, за которым может открыться новая действительность, или будет защищать свои рубежи от грядущих перемен. Мне представлялось, что изображение на полотне Слуцкого двоится, что он в разных стихах противоречит себе, недоговаривает, а для стиха Слуцкого опаснее недоговоренности нет ничего. Отсюда и зыбкость, эскизность острого лишь местами слова.
Теперь мне кажется, что я был не прав. В мощном потоке посмертных публикаций перед читателем явился новый Слуцкий, а путь к иному качеству обозначен именно противоречиями, какие и составляют движущую силу его стиха. Конечно, плохо, что публикатор совершенно не признавал хронологии, как бы спрямив путь поэта к достижениям последних лет. Но таким, каким он предстает в посмертном облике своего творчества, он и останется в памяти поколений.
Состоявшимся поэтом.[28]28
Из книги: В. Огнев. Амнистия таланту. М.: Слово, 2001.
[Закрыть]
Соломон Апт. Годовая стрелка
(О Борисе Слуцком)
«Думаю, что мои сорок лучше, чем будут мои шестьдесят», – сказал он, когда ему и в самом деле было сорок. Мы неторопливо шагали по новым, еще не обжитым, не замызганным проходам-дворам тогдашнего Юго-Запада, который в те дни казался краем света, а теперь считается сравнительно близким к центру районом Москвы.
И без паузы, не дав мне задуматься, сурово и требовательно спросил: «А вы как думаете, ваши шестьдесят будут лучше, чем ваши сорок, или хуже?»
Меня тогда такие сопоставления, каюсь в своем недомыслии, не занимали, мне и сорока-то еще не было, и я чистосердечно ответил, что не знаю. Впрочем, и теперь, уже по размышлении, а главное, уже задним числом, то есть имея опыт обеих дат, я могу только повторить свой тогдашний ответ…
Но речь сейчас не обо мне, я начал свои воспоминания о Слуцком с этой его фразы, потому что в ней непроизвольно выразилась очень важная, как мне кажется, особенность его взгляда на мир. Ход времени, превращения, перемены, неизбежно, к лучшему они или к худшему, уготовляемые нам историей и возрастом, – их приметы он всегда отмечал в людях, в языке, в быте с большой зоркостью. Он, должно быть, с детства, во всяком случае смолоду, как бы кожей чувствовал всю реальность, весь трагизм и комизм гераклитовской истины «все течет», которую обычно принимают бездумно, как правило игры, как общее место, как поговорку.
У больших поэтов существование и творчество, собственная человеческая судьба и стихи, нерв личного бытия и нерв поэзии теснейшим образом связаны, сплетены. С особенной очевидностью это обнаруживается после смерти, когда жизнь и работа закончены и обозримы для заинтересованных глаз. Чуткость Слуцкого к ходу времени – есть еще то, что другой поэт назвал «шумом времени», но я говорю именно о ходе, движении – эта чуткость поистине водила его пером. «До сих пор меня не устали тешить серии „были – стали“», – сказал он однажды стихами, и если сказал неуклюже, то косноязычен он здесь как раз, может быть, потому, что коснулся чего-то очень важного для себя и сокровенного. Самое, пожалуй, выразительное и емкое литературное проявление первостепенности этого нерва для Слуцкого – почти все названия его прижизненных сборников. «Память», «Время», «Сегодня и вчера», «Современные истории», «Годовая стрелка», «Доброта дня», «Продленный полдень», «Неоконченные споры». Каждый заголовок как бы напоминает о движущейся стрелке часов, о сегодняшнем листке календаря, который не был действителен вчера и не будет действителен завтра.
Этот же интерес к «сериям „были – стали“» видится мне и в его упорном обыкновении ходить на похороны писателей, даже лично едва знакомых или совсем незнакомых. Тут не было ни сентиментальности, ни дешевого «светского» любопытства. Он прекрасно знал современную литературу, знал сделанное и самыми маленькими ее творцами, знал их общественное лицо, их биографии. Гражданская панихида в Доме литераторов – довольно верный показатель истинной, не номинальной популярности покойного, искренних или официальных симпатий или антипатий к нему. Это многозначительное завершение его земного пути, последняя встреча его «был» с его «стал». О похоронах самого Бориса Слуцкого – ниже…
Мог ли он думать, предположительно сравнивая тогда разные свои возрасты, что его замечание окажется вещим в таком ужасном смысле? Когда его «годовая стрелка» не остановилась, нет, а споткнулась и побежала, уже спотыкаясь, неравномерно отсчитывая месяцы и недели, шестидесяти ему еще не исполнилось. Вдруг все покатилось, не найду лучшего слова. Новый 1977 год мы тихо, всего впятером, встречали у нас дома с ним и с его женой, а 8 февраля ее хоронили. Потом, в апреле, он еще показывал мне свои новые стихи, а уже в середине лета лежал в психосоматическом отделении 1-й Градской больницы. Те девять лет, что он потом еще прожил, время отсчитывали ему уже такие стрелки, в которых не то что читателям, а и тем, кто знал его и любил, не дано разобраться.
Впервые я увидел его и познакомился с ним весной 1940 года в Харькове. В небольшой аудитории университета выступал Эренбург. Он читал свои стихи об Испании и намеками (иначе после пакта с Риббентропом нельзя было) говорил о предстоящей войне. Он сравнивал наступившую у нас тишину с тишиной между артиллерийской подготовкой и атакой и признавался, что, когда начнутся те бои, которых он ждет, он забросит стихи и прозу и станет военным корреспондентом. Слуцкий держался сурово, как-то одновременно важно и скромно. Он прочел, как и все, кто читал тогда при Эренбурге, только одно свое стихотворение – «Генерал Миаха», но вдобавок и одно стихотворение своего друга Кульчицкого, и уж не помню чем, манерой ли чтения, выражением лица или просто словами, показал, что ставит Кульчицкого выше себя как поэта: я, мол, что, а вот, смотрите, Кульчицкий… Эренбург, делавший по ходу чтения заметки в блокноте, в своем заключительном слове выделил с похвалой их обоих. Слуцкий просиял, но мгновенно принял прежний суровый вид, такой вид, как будто выделяющей похвалы и следовало ожидать и вообще все происходящее здесь несущественно, а существенно что-то другое, что вершится сейчас где-то в другом месте, то ли в Москве, откуда он приехал на несколько дней в родной город, то ли в Испании, где среди развалин, «повинуясь старческой ладони, из темноты рождается кувшин», то ли в океане, где гибнут английские суда от немецких торпед. И толкуя его суровость именно так, я внутренне принимал ее, сочувствовал ей, соглашаясь, что и правда, есть сейчас вещи поважнее, чем это наше чтение.
Какой он поэт, я смог увидеть и понять только через много лет. Он жил тогда одиноко, снимал комнаты у разных квартировладельцев. В тот вечер, когда он позвал к себе в гости, чтобы почитать стихи, кроме меня, еще четырех литераторов, его жилье находилось в переулке у Девичьего поля. Каждому входившему он гостеприимно говорил:
– Если хотите есть, то вот в кастрюле борщ, вот хлеб на доске, вот пила для хлеба, устраивайтесь на подоконнике. А не хотите, так пока все не собрались, садитесь за стол и читайте.
И вытаскивал наугад из растрепанных стопок два-три десятка листков с переписанными на машинке стихами. Меня в этот раз поразила не самобытная их интонация, ее я уже знал и уже различил бы его неподписанные строчки среди любых чужих. Я был поражен, нет, не боюсь сказать, – потрясен широтой его кругозора, смелой прямотой прикосновения к самым, казалось бы, далеким от лирики темам, потрясен его плодовитостью, таким огромным количеством сделанного, таким осязаемым – ворохи, кипы! – выражением спонтанности этой работы. Недавно я услышал от Юрия Болдырева, благодаря которому стихи Слуцкого то и дело публикуются после рокового 1977 года, что пока напечатано приблизительно две пятых написанного, так что щедрость его дара еще удивит многих и многих… Очень хорошо помню, как я тогда, в восторге, не постеснялся сказать ему в лицо: «Боря, вы, оказывается, большой поэт» и как он принял мои слова: в ответ он не произнес ничего, только пожал плечами, спокойно, разве что с крошечной долей скепсиса, но в глазах у него промелькнула веселая искра. Сорока ему тогда еще не было, и от него веяло убежденностью, что главное на его поэтическом пути еще впереди, что лучшее – не эти листки, а то, что он напишет, может быть, завтра же, когда останется снова один. С таким, во всяком случае, ощущением, разделяя эту почувствованную мной убежденность, уходил я от него в ту ночь и до сих пор помню, в каком радостном потрясении пришел домой.
Первый раз в столь большом количестве сразу мне довелось, таким образом, прочесть Слуцкого по рукописям и в присутствии автора. Последний раз я читал его стихи подряд в таком же обилии, тоже по рукописям и тоже при нем и у него дома. В отличие от многих пишущих, он не испытывал, по-видимому, никакого неудобства от того, что его работу кто-то читает, сидя в одной с ним комнате, в двух шагах от него. И даже реплики или вопросы в процессе чтения не вызывали у него раздражения – во всяком случае, в тот первый раз. Последнее мое чтение, как и все четыре часа, вероятно, моей последней с ним встречи до больницы, проходило почти в молчании.
Это было в середине апреля, через два с лишним месяца после смерти его жены. Он позвонил мне по телефону и пригласил прогуляться по Тимирязевскому лесу, очень близкому к нашим домам. В лесу еще не совсем сошел снег, стояла вода, ходить по кочкам, выискивая более или менее сухие места, было довольно трудно, но это облегчало преобладавшее молчание, оправдывало долгие паузы и давало естественный повод обмениваться изредка пустяковыми фразами. Сравнительно скоро он предложил закончить прогулку и зайти к нему, почитать его новые стихи.
Последнее московское жилье Слуцкого было мрачноватой двухкомнатной квартирой на втором этаже унылого, чем-то похожего на барак дома, навсегда сохранившего печать скудости начала тридцатых годов, – да, именно тех лет, хотя не поручусь, что это постройка не послевоенная. Почти рядом проходила железная дорога, и дом принадлежал какому-то железнодорожному ведомству. Вид окрестных переулков был очень характерен для некоторых фабричных предместий Москвы, где столько лет все оставалось провинциальным, но без провинциальной уютности, где все дышало металлом, углем, ацетиленом. Комнаты выходили окнами на тихие места, но изредка доносились из громкоговорителей обрывки команд путейских диспетчеров и низкий тяжелый гул товарных составов. Местность эта вполне могла бы настроить на волну той тоски, которая слышится мне в полном глубочайшего смысла повторении одного слова в предпоследней строке стихотворения «Зал ожиданья»:
Ожидаешь
с железной, железной дороги
Золотого, серебряного звонка.
Машинописных листков было на этот раз втрое, вчетверо больше, чем тогда в доме у Девичьего поля. Некоторые он еще не успел «считать» после машинки, на иных были только заготовки, только куски будущих стихотворений, напоминавшие торсы незавершенных скульптур.
– Я много написал за последнее время, – сказал он очень спокойно, ни одной ноткой не намекая на то, что под «последним временем» подразумевается его начавшееся вдовство.
Потом я увидел его уже только в той палате с решеткой, когда болезнь успела увести его в такую даль страдания и одиночества, где, может быть, и самые прекрасные стихи кажутся одной из множества ненужных мелочей жизни.
То, что случилось с ним, поддается, вероятно, медицинскому анализу и объяснению. Но не будучи врачом, а только зная жизненный путь Слуцкого, можно довольно ясно представить себе, что вело и привело к непоправимому срыву. Голодная студенческая жизнь, фронт и армейская служба, ранения, контузия, госпитали, постоянная бессонница, постоянные таблетки снотворного. И многолетняя, то острая, то притупляющаяся, но никогда целиком не отпускающая тревога, которую потом навалила на него тяжелейшая болезнь жены. Забота о ней, бесчисленные хлопоты, связанные с ее лечением, форсированное зарабатывание денег, чтобы всячески скрасить жизнь обреченной, – это стало его бытом на десять с лишним лет, не вошло в привычку, нет, привычка уничтожает тревогу, но сделалось стержнем существования, каждодневной задачей, которая не позволяет расслабиться, сбросить упряжку. Когда Таня умерла, стержня не стало, механизм, двигавший годовую стрелку, сломался. У Слуцкого есть стихотворение «Счастье» – о человеке, который шел и пел «в центре городского быта»:
Все решили вдруг:
Так поют после большой удачи, —
Скажем, выздоровел друг,
А не просто выстроилась дача.
… … … … … … … … … … … …
Так поют,
Если с плеч твоих беда свалилась, —
Целый год с тобой пить-есть садилась,
А свалилась в пять минут,
Если эта самая беда
В дверь не постучится никогда.
В жизни автора все вышло прямо противоположным образом. Друг не выздоровел, дача вообще не «выстраивалась», беда, садившаяся рядом пить-есть не год, а годами, не свалилась, а уйдя, привела другую беду.
Но это по-человечески понятное объяснение его судьбы кажется мне тоже недостаточным и однобоким, как и возможное сугубо медицинское. Мы тут имеем дело с жизнью поэта, это случай особый. Когда он сравнивал свои сорок со своими шестьюдесятью, он-то, конечно, имел в виду личное старение, спад творческой энергии, простую физиологию. Он говорил тогда исключительно о своей индивидуальной, действительной только для него, выражаясь его языком, «годовой стрелке». Да и в сборнике, названном этой метафорой, есть в самом деле стихи о старости, есть ее сопоставления с юностью, с молодостью.
Старость – равнодушье. Постепенно
не касаются, не задевают,
попросту не интересуют
те дела и люди,
города и годы,
что когда-то интересовали.
Но есть в этой книжке 1971 года и стихи о некоем общем, касающемся сограждан всех возрастов отличии текущего дня от вчерашнего, есть ощущение, что лицо сегодняшней реальности гораздо противоречивее, грубей, беспощадней тех ликов будущего, которые рисовала вчера идеалистическая или, печальней того, догматическая надежда.
Трибуны кричали: «На мыло!»
Я соображал пока,
Какие слова намыло
На мол моего языка.
… … … … … … … … … … … …
Смягчила ли нравы культура?
Напрасен смягчителей труд.
Где прежде орали «халтура»,
Там ныне «на мыло» орут.
Слуцкий однажды сказал о себе: «Я здешний и тутошний весь». Это правдиво не только по существу, но и по форме, по тем ассоциациям, которыми заряжено нелитературное слово «тутошний». Ближе всего ему была «масса» – масса не в смысле толпы, скопления людей, а как обозначение самой гущи отечественного населения, самого многочисленного социального слоя – обыкновенных трудящихся, не очень-то много читающих, не очень-то легко живущих, выносящих на своих плечах все тяжести «истории мировой». Это те, кого «от Белорусского и Курского» везут «смотреть Москву за пять рублей», это посетители бани в районном городке: портной со своими мозолями и горновой со своими ожогами, это вдова Ковалева, который уже год тоскующая по убитому на войне мужу, это – девчата, с большим толком использующие свой обеденный перерыв, это пассажир, которому «не положено» иного зала ожидания, чем тот, где скамейка «узка, жестка», это ученики школы для взрослых, которым с большим трудом дается наука, – короче говоря, простые, честные российские граждане. Он знал все тонкости их языка, любил их юмор.
В своих воспоминаниях Л. Лазарев очень верно и точно, по-моему, сказал о Слуцком, что «он, хорошо зная повседневную жизнь обыкновенных людей, понимал, какое малое место занимает в ней искусство, а тем более поэзия того направления, которое ему было ближе всего. Он считал, что представляет в поэзии их взгляд на мир, а для них родовым признаком поэзии были те затасканные „поэтизмы“, которые он решительно отбрасывал как антипоэтические».
В том, что его поэтика, его одержимость искусством и представление о поэзии тех, чьими устами он себя считал и в чьей жизни искусство второстепенно, так расходились, мне видится только один из его, поэта, конфликтов со временем, со средой. И если мне возразят: «Какие там еще конфликты, он был сыном своей эпохи, ее прямо-таки выразителем», то я отвечу, что поэтов, не вступающих в столкновение с эпохой, со средой, на мой взгляд, вообще не бывает, что поэзия – это подобие электрического тока, она возникает только тогда, когда есть напряжение между личностью поэта и современным ему обществом. Я думаю, что трагические судьбы многих русских поэтов объясняются тем, что это напряжение оказывалось выше их человеческих сил. И мне кажется, что судьба Слуцкого не составила тут исключения.
Надо думать, а не улыбаться,
Надо книжки трудные читать,
Надо проверять – и ушибаться,
Мнения не слишком почитать.
Мелкие пожизненные хлопоты
По добыче славы и деньжат
К жизненному опыту
Не принадлежат.
«Хлопоты по добыче славы и деньжат». Вот уж они-то не были его стихией – не только претили его нравственно-взыскательному уму, но вообще не вязались с его натурой, с его прирожденным аскетизмом. Однажды в конце пятидесятых годов, вскоре после того как его стали понемногу печатать, я неожиданно встретил его на улице – лучезарного, разговорчивого. «Я живу прекрасно, – сказал он, как всегда подтрунивая над собой, – все у меня есть – деньги, слава, женская любовь». Фраза эта мне хорошо запомнилась, я уверен, что привожу ее слово в слово, запомнилось мне также, что тогда я сразу подумал: главное для него, конечно, третье, и это у него сейчас действительно есть, а агава пока только «в узких кругах», а деньги… после полного их отсутствия и небольшие деньги кажутся настоящим богатством. И тогда же я уверенно почувствовал, что он нарочно, чтобы спрятать серьезное, упомянул сперва о деньгах и о славе, а уж затем, и притом отстраненно-шутливо, словно довершая образ бонвивана, словно имея в виду mille e tre[29]29
Тысяча и три (итал.).
[Закрыть], – о женской любви. Я знал, что легче ему было бы стать марсианином, чем бонвиваном.