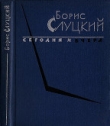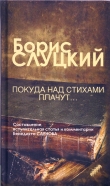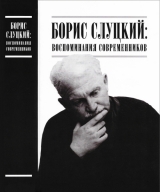
Текст книги "Борис Слуцкий: воспоминания современников"
Автор книги: Илья Эренбург
Соавторы: Бенедикт Сарнов,Евгений Евтушенко,Андрей Вознесенский,Александр Городницкий,Владимир Корнилов,Алексей Симонов,Давид Самойлов,Владимир Огнев,Григорий Бакланов,Семен Липкин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 37 страниц)
В Москве наша связь не оборвалась. Слуцкий жил поблизости и иногда по вечерам забегал, чтобы поделиться впечатлениями о каком-то очередном событии. Например, произошла перетряска в Министерстве культуры, несомненно свидетельствующая о тенденции ужесточения идеологической политики, о наступлении эпохи, которую мы теперь называем застоем. Однажды он пришел ко мне, взволнованный шумной кампанией, связанной с делом Синявского и Даниэля. Чем может кончиться этот взрыв ярости? Впрочем, не надо было обладать особой догадливостью, чтобы ответить на этот вопрос.
Потом, после смерти Тани, когда Слуцкий звонил мне, он обязательно спрашивал: «У вас никого не будет? Тогда я приду», – и приходил поздно вечером. А до беды, с которой он так и не примирился, он не задавал подобных вопросов и был рад всякому общению, если незнакомый человек был ему по душе. А узнавал он людей с первого взгляда и избегал контактов с самоуверенными всезнайками, которые задают вопросы и не слушают ответов. Или с трусливыми и перепуганными, озирающимися по сторонам, которые при всякой непростой ситуации, когда нужна неуклончивая прямота, говорят о диалектике и выбирают спасительные варианты. Впрочем, таких людей я сам остерегался.
Самым коротким было его знакомство с моим близким другом А. С. Гурвичем. Имя его стало известно во время антикосмополитической кампании 1949 года, когда он был объявлен лидером злонамеренных критиков, подрывающих основы советской литературы и театра.
Слуцкому импонировала биография Гурвича, но с чем-то подобным он уже встречался. А вот шахматное увлечение привлекло его особое внимание. И он угадал, что это второе призвание, возможно, было для Гурвича самым главным. Да, это было именно так, потому что, погружаясь в стихию шахматного творчества, он чувствовал полную, ничем не стесненную свободу. В том единственном разговоре Слуцкого с Гурвичем у меня в доме поэт говорил, что ему никогда не приходила в голову мысль о существовании такого вида творчества, как шахматная композиция. Что это такое? – задавал вопросы Слуцкий. – Особый вид мышления? Нужна ли для этого сумма знаний или это плод чистейшей импровизации? Его интересовало, доступно ли композиторство любому гроссмейстеру, может ли сочинять этюды мыслящая машина (слово компьютер тогда еще не вошло в обиход). Гурвич стойко выдержал натиск и ответил, что для такого рода сочинительства главное – воображение. Это игра ума, при которой нельзя идти по чужому следу. Нужно обязательно открытие, неразделенное авторство, собственная версия. Слуцкий так увлекся разговором, что я подумал, не попытается ли он заняться этой игрой. Этого не случилось. Разговор происходил в 1962 году, в том же году Гурвич умер, и мне рассказывали его коллеги, что в каком-то американском шахматном журнале появился некролог, автор которого писал: он счастлив, что жил в одно время с Гурвичем. Видимо, Слуцкий не ошибся, когда с первого взгляда распознал дарование незнакомого ему человека.
Летом того же 1962 года в одном из залов ресторана «Прага» отмечалось пятидесятилетие моего друга, ученого-экономиста Я. А. Кронрода, ныне забытого. На вечере присутствовали многие из знаменитых его коллег того времени и два моих знакомых поэта – Д. Самойлов и Б. Слуцкий. Мы сидели в конце стола; хорошо помню, как Самойлов сказал вполголоса: вы думаете, что Слуцкий умный, а я талантливый, на самом деле он талантливый, а я – умный. В тот вечер я впервые узнал, что Слуцкий давно знаком с Кронродом. С тех пор наша дружба стала общей, и иногда мы встречались у меня дома. Мы были люди разных поколений и разных занятий. Я встретил войну зрелым 35-летним человеком, Кронрод был на шесть лет меня моложе, а Слуцкий пошел на войну совсем еще юным, в 22 года. Война – великая уравнительница, хотя на долю Слуцкого выпали гораздо большие испытания, он был израненный солдат и по праву стал одним из основателей нашей фронтовой поэзии. Но при всем резком различии в возрасте, мы все были сыновьями нашего века и война стала нашей общей судьбой. У Слуцкого в сборнике «Современные истории» есть стихи, озаглавленные «Двадцатый век»:
«В этом веке все мои вехи, // все, что выстроил и сломал… Век двадцатый! Рабочее место! // Мой станок! Мой письменный стол! // Мни меня! Я твое тесто! // Бей меня! Я твой стон».
Слишком много восклицательных знаков, но суть схвачена. Слуцкий был стоном века, Кронрод – его истолкователем…
Я читал его книги и, несмотря на их специфичность и мою неподготовленность, чувствовал самостоятельность автора. Но, как мне кажется, в них был и момент тактики. Кронрод не мог подняться над прочно установленными догмами. Да это и было невозможно. Вот почему он, человек мыслящий и рассуждающий, свободный от опеки, от давления охранителей, был много интереснее и глубже, чем человек пишущий и подотчетный. А таким, нестесненным, мы его видели во встречах со Слуцким. Там он был самим собой, таким, как он есть – с присущим ему размахом мысли. Тогда, в период губительной инерции удручающего чинопочитания и возрождения идеи верхов и низов, хозяев и винтиков, он понял, с какой стремительностью мы движемся к всеобщему тупику и кризису. В суждениях Кронрода была система, и его заразительная тревога не могла не задеть Слуцкого. Конечно, у него было множество друзей и знакомых, на недостаток информации он не мог жаловаться. Но во всезнании Кронрода было что-то трагическое, и в некоторых стихах Слуцкого я как бы слышу отклик на наши исповедальные беседы.
В неистовом собирательстве, я бы даже сказал жестче, коллекционерстве человеческих судеб Слуцкий не мог пройти мимо во всех смыслах неординарного и неповторимого Е. А. Гнедина. Они были знакомы еще до того, как в конце шестидесятых годов встретились у меня в доме. Слуцкий не скрывал настоятельной потребности послушать его, сблизиться с ним. Чем был ему близок Гнедин? Евгений Александрович боролся за свою идею правды и правоты по внутренней необходимости, в его взглядах не было ни тени фанатизма, он не чувствовал себя героем, борцом Сопротивления. Одну из наших нечастых встреч я хорошо запомнил. Шел 1968 год. Мы говорили о студенческих волнениях во Франции. Эта тема была у всех на устах. Основная масса этих бунтующих студентов, сгоняющих своих профессоров с кафедр, по мнению Гнедина, мучительно ищет истину в мире, отравленном ядом конформизма и потребительства. Все они знают, что надо разрушить, и не знают, что надо предложить взамен руин. И особенно запомнилось в словах нашего собеседника: не надо драматизировать эти события, в них есть закономерность истории, но они не несут исторических перемен. В политической хронике шестидесятых годов они займут одну строчку. Молодые люди со временем образумятся, угомонятся, кое-кто вернется в университеты, другие займутся делами, обзаведутся семьями. Всё войдет в давно проложенное русло. В этот момент в разговор вмешался Слуцкий. Он произнес монолог о том, как у нас держат в узде историю уже очень много лет. В стихах у него есть строчки:
Даже если стихи слагаю,
Все равно – всегда между строк
Я историю излагаю.
Нет, с историей у нас совсем плохо. Проделайте такой эксперимент. Возьмите энциклопедические словари, вышедшие в разные годы. Самый первый, наиболее полный (где вы найдете еще не запятнанные имена Бухарина и Рыкова), который пошел в переработку, как бумажный утиль. Или Малую энциклопедию 30-х годов, наспех переписанную, с зияющими провалами и спасительными умолчаниями. И, наконец, пятидесятитомную, вышедшую в разгар культа Сталина, своего рода памятник узаконенной тогда лжи и фальсификации. Сравните эти издания и вы поймете, что такое подмена понятий в истории. Есть эпохи, – рассуждал Слуцкий, – итогов, надежные и стабильные, когда на сцене появляется статистика и неоспоримые факты справочной литературы. И есть эпохи крайней неустойчивости и фабрикации фактов по сиюминутному требованию всесильного редактора, божества в мягких сапогах. Время, которое мы прожили, трудно укладывается в рамки энциклопедии с ее окончательными суждениями. Тем важнее непредвзятые показания очевидцев. Этому стоит посвятить жизнь. Напомню, все это говорилось в конце 60-х годов. <…>
Слуцкий, как-то зашедший ко мне, застал Савича и засыпал его вопросами. Речь о войне в Испании. Слуцкий, со слов Эренбурга, несомненно, знал все перипетии испанской войны, но общий итог у него не складывался. Была в летописи тех лет какая-то несогласованность.
Слуцкий задал Савичу вопрос, ради которого он, видимо, и затеял диалог: «Как вы думаете, был ли Сталин заинтересован в победе испанской республики?» – «Откуда у вас такие сомнения?» – заинтересовался Савич. Слуцкий ответил, что недавно сведущие люди изложили ему такую версию – для Сталина Испания была удобным полигоном, где проходили проверку наши военные. Репетиция нашей готовности. А идти дальше Сталин не хотел, так как, но его логике, победа республиканцев могла приблизить войну. Чего он опасался… Смелость вопросов Слуцкого застала нас врасплох. Он забежал на несколько десятилетий вперед. Может быть, теперь пришел час ответов.
Последний в ряду наших собеседников, о котором я хотел бы упомянуть, – А. М. Марьямов. В то время он был членом редколлегии «Нового мира» и вел там отдел публицистики!
В середине двадцатых годов у Марьямова установились тесные отношения со многими деятелями украинской литературы. К тому времени она разветвилась, развилась, появились новые привлекавшие внимание имена, несмотря на острые противоречия и борьбу как политических, так и художественных ориентаций.
И сколько было среди них пострадавших от чисток и репрессий!
«Как вы думаете, – спросил Слуцкий Марьямова, – какой процент этих уничтоженных карающей рукой власти составляли люди ни в чем не виноватые?» – «Безусловно, очень большой, хотя на волне революции к нашему берегу пристали и агрессивные самостийники, и вчерашние петлюровцы, и шовинисты – враги русской культуры и всякой причастности к ней. И все же теперь, спокойно оглядываясь на прошлое, приходишь к выводу, что преступники и заговорщики были в явном меньшинстве и что меч правосудия сносил головы скопом, явно пренебрегая справедливостью и законом».
Все названные здесь участники бесед были люди с яркой выраженной индивидуальностью, с определившимся призванием, но у всех у них не было простора для развития. Была осознанная, а иногда и неосознанная стесненность, было мучительное чувство неполноты выражения, невысказанности, вынужденного молчания. И никто из них не сделал того, что мог. После потрясений 1949 года Гурвич уже не мог оправиться. О Кронроде уместно сказать словами Слуцкого: «прогнозисты не смели пророчить». Лучшие годы Гнедина были загублены. Писательский талант Савича был задушен в самом зародыше. Марьямов занимался журналистикой и редактурой и писал случайные книги, несмотря на свое художественное дарование. Более четверти века я прожил в одном доме с В. Б. Шкловским и время от времени бывал у него, особенно в шестидесятые годы. Я часто спрашивал, сколько книг он издал за свою, тогда уже долгую жизнь. Он отвечал неуверенно и всегда по-разному, но число никогда не опускалось ниже шестидесяти. А однажды, расщедрившись, он сказал: девяносто.
Книги у него были разные, но о стихах он никогда не писал, прошел мимо, насколько мне было известно. Слуцкого тоже это удивляло, и я предложил пойти к Шкловскому и спросить, почему при универсальности его занятий литературой он обошел поэзию? Повод заслуживал внимания, и как-то летним вечером мы пошли к нему. Слуцкий уже пользовался заслуженной известностью; я не знаю, читал ли его Шкловский, но про его физиков и лириков был наслышан. Мы обменялись несколькими любезностями, и Слуцкий с присущей ему прямотой спросил: почему среди его бесчисленных книг нет посвященных поэзии? «Это не так, я писал о Маяковском», – ответил хозяин. Слуцкий не уступал: «Это книга о поэте, а не о поэзии». Шкловский возразил, что Маяковского нельзя делить на части и, подумав немного, заметил, что, пожалуй, сам не может ответить на этот вопрос: «Но я ведь не писал и о музыке, хотя любил ее слушать». И (явно уклонившись от темы) произнес монолог о все растущей неравноправности физиков и лириков. Теперь это очевидность, тогда было прозрение. «Мы вломились в уэллсовскую эпоху, – размышлял вслух Шкловский, – с очень ненадежным запасом гуманитарных знаний. Можно подумать, что тем, кто движет технический прогресс, не нужен Толстой. У меня есть давний знакомый, почтенное лицо в системе Академии наук, спросите у него, – говорил Виктор Борисович, – он вам скажет, что люди, изучающие древние языки, – старомодные чудаки, опоздавшие родиться на целый век». Мы быстро справились с темой поэзии. Ничего чрезвычайного, удивившего нас, от Шкловского не услышали. Он сказал, что, кажется, знал всех известных поэтов нашего «серебряного века», начиная с Блока. Поэзия у нас задыхается и вянет от абстракции, ей нужна почва и предметность в образной плоти, как в «Медном всаднике». Потом он упомянул о достоинстве искусства и непригодности принципа заказанности. Как это было далеко от эстетики ЛЕФа. Вот, собственно, и все.
Последовательность моих воспоминаний еще раз будет нарушена, но если я сейчас не коснусь его (Слуцкого) признаний о власти, которая была ему предоставлена на фронте (где в ранний период войны он попал в прокурорский надзор), то потом у меня уже не будет повода сказать о его совестливости и ненависти к насилию.
Сошлюсь на два стихотворения о судействе, в котором Слуцкий, можно полагать, принимал участие[31]31
Автор ошибается. Слуцкий был следователем и ни одного дня не служил в трибунале. – Примеч. сост.
[Закрыть]. У него не было профессионального отношения к этим обязанностям. Известно, какова судьба самострельщика – он ждет своего часа. Есть закон, есть неумолимость войны. Но с какой внутренней мукой боевой офицер принимает окончательное решение.
Возникает мучительное сомнение и обостренное нравственное чувство:
Кто они, мои четыре пуда
Мяса, чтоб судить чужое мясо?
Что поделаешь, если он не может рубить головы даже виноватым? Но не хочет и не может быть полновластным хозяином чужих жизней. Его позиция укладывается в одну фразу: «хорошо быть не вождем, а массой» —
Хорошо быть педагогом школьным
иль сидельцем в книжном магазине…
А если уж судьей, то «футбольным», они во сне «кричать не станут». А он будет кричать, «вспоминать былое неустанно»
Опыт мой особенный и скверный —
как забыть себя заставить?
Этот стих ошибочный, неверный.
Я неправ, пускай меня поправят.
Покаяние поэта. Конечно, эти стихи могли быть напечатаны только в 1987 году. А между тем вечер у Шкловского продолжался. Слуцкий в заключение рассказал, правда, коротко, в нескольких фразах, о недавно прочитанной книге французского философа Тейяра де Шардена «Феномен человека» (изданной у нас в 1965 г.). Из многих идей французского ученого, работавшего на стыке разных наук, Слуцкий извлек, как мне кажется, самое фундаментальное – появление человека в его современном облике нельзя считать завершением эволюции земной жизни. Это одно из ее звеньев, одна, важнейшая, ее веха. У человека нашей геологической эпохи и окружающей его вселенной есть ободряющая надежда – возможность бесконечного совершенствования при непрестанном движении времени. Что это – утопия или научное предвидение, открывающее нам неизвестные резервы, заложенные в природе человека, – спрашивал Слуцкий, чрезвычайно захватив Шкловского грядущими космическими переменами. На этом мы расстались.
По пути домой Слуцкий сказал, что можно было бы написать стихи о глазах этого старика, в которых отразился целый век.
– Заметьте, что огонь в его глазах появляется, когда он чем-то особенно задет и вскидывается. Как только в разговоре появляется пауза и вялость, искра гаснет и он отключается от нас и всего, что происходит вокруг. Удивительный перепад от громогласия к нескрываемой усталости.
Я заметил, что Шкловский не раз говорил, что хочет дожить до возраста Толстого, до 82 лет.
– Он обойдет Толстого, – продолжал Слуцкий, – у него большой запас прочности, поглядите, какой у него ритм: после вспышек – обязательный покой; экономия мозговой и просто физической энергии страхует его от стресса [слово, только тогда вошедшее в обиход. – А. М.].
Слуцкий угадал: Шкловский умер на десятом десятке.
Я был на новоселье у Слуцкого в доме в Балтийском переулке. Он приглашал гостей в несколько приемов. На этот раз народу собралось немного. Настроение у хозяев было приподнятое, гости это почувствовали и держались непринужденно. Слуцкий говорил, что не может сосчитать, сколько квартир он сменил за свою московскую жизнь. Куда только не бросала его судьба! Был среди его пристанищ и угол у старой немки по паспорту, родившейся и всю жизнь прожившей в Москве и, вопреки предписаниям военного времени, не покинувшей свое убогое жилище для чего пришлось обречь себя на затворничество, оборвать связь с внешним миром и жить в не слишком надежной пустоте, хотя по крайней необходимости она сдавала угол, куда занесло Слуцкого. Все это было позади. Теперь, кажется, он обосновался надолго, появился быт – потребность в том у него была. Таню это устраивало, и его тоже, хотя квартира досталась не слишком комфортная, в старом доме. В те далекие годы Слуцкий увлеченно собирал современную живопись и показывал нам свои находки, вкус у него был хороший, с уклоном в авангард. Он любил среду художников и часто служил им моделью.
В тот вечер все в квартире сулило долгую оседлость и покой для творчества. Какой хрупкой оказалась эта надежда.
Он всегда мне задавал вопросы на театральные темы. Так было и в этот раз, в день новоселья. Слуцкий спросил: как, по-вашему, почему Сталин не любил Гамлета? Я ответил: «в этом нет загадки, Гамлет, по распространенному когда-то у рапповцев термину, размагничивал публику, внося смятение в умы, дестабилизируя привычность, нарушая неподвижность, которая была Сталину нужна».
Я вспомнил наш разговор со Слуцким о Гамлете четверть века спустя, прочитав в «Дружбе народов» стихотворение «Гамлет этого поколения». За долгие годы жизни я видел нескольких великих Гамлетов. В первом ряду назову Михаила Чехова и Пола Скоффилда. Для меня это были счастливые дни. Но Гамлет, как то хорошо известно, служил предлогом для многих режиссерских мистификаций и даже для оголтело грубой маскировки. Я помню Гамлета – веселого и полнокровного толстяка; это была озорная шутка Н. Акимова. Я знаю о Гамлете – остервенелом завоевателе, закованном в латы, человеконенавистнике, которого геббельсовская пропаганда наградила свастикой. Можно назвать и другие оскорбительные метаморфозы гамлетовской темы. Что получилось в сатире Слуцкого? Могу высказать только предположение: Гамлет, покончивший с сомнениями, стал единодержавным и всевластным королем. Какое смещение, опустошение и какая кровавая подтасовка понятий: «Ни сомнений, ни угрызений, // ни волнений, ни размышлений // знать тот Гамлет не знал нипочем, // прорубаясь к победе мечом».
История предлагает свои варианты: порабощенный, изуродованный жестокостью, кривозеркальный мир и его видения. Похоже, что у Слуцкого речь идет о бремени власти, под тяжестью которой ломается человек, будь он и Гамлет, о тиранстве деспота, для которого нет запретов, – он хочет переделать и самого себя, в чем и преуспевает.
Не любил он свои монологи
и десятки выбрасывал строк.
Воистину этот Гамлет хочет превратить воображаемую Данию в тюрьму суровейшего режима.
В 1969 году Слуцкий пришел ко мне в больницу на Госпитальной. Он всегда посещал друзей в критические минуты жизни… Палата, в которой я лежал, была двухместной. Мой сосед, старый заслуженный машинист, принадлежал к той породе московских рабочих, о которых Слуцкий писал в посвященном им стихотворении:
в семи водах изрядно кипяченных,
в семи дымах солидно прокопченных.
Человек с трехклассным образованием поразил меня своей интеллигентностью и бескорыстностью, Слуцкий произвел на него сильное впечатление: из нескольких наших фраз он понял, чем тот занимается, и, извинившись, сказал, что первый раз в жизни видит живого поэта. «Вы любите стихи?» – спросил Слуцкий. – «Я их мало читал: Пушкина, немного Некрасова, и в юности Демьяна Бедного. Пушкина хорошо помню, Демьяна забыл, только фамилия осталась в памяти». И стал спрашивать: как пишутся стихи, откуда берутся темы, как приходят слова. Он видел в этом таинство и хотел прикоснуться к чуду. Я попросил Слуцкого что-нибудь нам почитать, он согласился и спросил – а что? Я предложил «Старух было много, стариков было мало», ведь там речь идет о смерти, а смерть только что была с нами рядом. Поэт спокойно, вполголоса, почти не меняя интонации прочитал стихи, и горевая эта повесть потрясла старого человека, самого неискушенного из возможных его слушателей. И он отозвался: это не сказка, это беда. Потом, когда Слуцкий ушел, попросил меня переписать для него эти стихи.
Работая над этими воспоминаниями, я перечитал некоторые книги Слуцкого и заметил, что много места во все годы его писательства занимала тема старости. Старики у него были разные, просто долгожители, не изменившиеся с возрастом, и такие, кто стал получше. Есть у него старики, составившие целую социальную прослойку, люди с прерванной биографией, поколение лагерников. И особая категория – боги и педагоги, олицетворяющие свой век в его высшем взлете – мудрецы, всезнающие наставники, пророки. Я так и не разобрался до конца, что привлекало Слуцкого в старости: нажитый опыт, живое предание о том, что безвозвратно ушло, беспомощность, требующая защиты, постоянство даже в заблуждениях или, может быть, близость неотвратимых сроков.
Что же сказать в заключение? На мой взгляд, Слуцкий по преимуществу, по главному признаку поэт беды и неблагополучия. Круг его интересов – неизбежность циклов бытия человека и круговорота природы и попытка проникнуть в их законы и тайны. Он хочет прикоснуться к ранам, которыми наделила нас история, задевшая почти каждого. Он хочет разгадать драмы несбывшихся, но все-таки не оставленных надежд. Его императив не уступать в правом деле, когда ты чувствуешь свое бессилие и тем не менее не сдаешься, не капитулируешь. Описательная литература, просто фиксирующая события, какой бы занимательностью она ни обладала, нейтральная живопись с натуры без детонатора, без сигнала тревоги редко привлекали его внимание. Установления сущего ему мало; его стихам-поступкам нужны боль и соучастие, иначе они не пишутся. В своей лирике он всегда действующее лицо, он жертва и он ответчик.
Недавно я прочитал в «Дневнике писателя» Достоевского, что «воспоминание равносильно страданию и даже чем счастливее воспоминаемое мгновение, тем больше от него и мучения». Справедливые слова. Я в этом убедился, готовя эти заметки.[32]32
Из книги: А. Мацкин. По следам уходящего века. М., 1999.
[Закрыть]