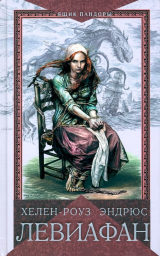
Текст книги "Левиафан"
Автор книги: Хелен-Роуз Эндрюс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц)
– Похоже, крысы все еще не перевелись, – заметил я, наблюдая, как существо прошмыгнуло вдоль стены и скрылось в темноте.
– Мир рухнет, а крысы останутся, – усмехнулся Диллон. – Итак, парень, зачем пожаловал?
– Мистер Резерфорд разрешил мне поговорить с заключенной Криссой Мур, а также навестить миссис Гедж и ее дочь Джоан Гедж.
– Резерфорд, хм? – Круглое лицо Диллона на миг утратило дружелюбное выражение. Я понял, что охотник за ведьмами не вызывал у констебля симпатии. В этом мы были единодушны. – А судья знает, что ты пошел сюда?
Мне нравился Диллон и поэтому совсем не хотелось обманывать его.
– Возможно, как раз сейчас Резерфорд отправился к мистеру Мэйнону, чтобы сообщить ему о моей просьбе. Не знаю. Но, судя по всему, он был уверен в своих полномочиях, когда давал мне разрешение на встречу.
– Ладно, мне этого вполне достаточно, – после короткого раздумья согласился Диллон. – Иди, поболтай с ведьмой. Только смотри не поворачивайся к ней спиной.
– В какой камере она находится? И другие две женщины – где они?
Диллон махнул рукой:
– Ведьма – третья камера. А те двое – последняя в конце коридора.
Дальний конец коридора был погружен во тьму. Я попросил разрешения прихватить с собой свечу из держателя на стене. Констебль не возражал.
– И еще одна просьба: мне хотелось бы поговорить с Криссой Мур один на один, без свидетелей.
Диллон неохотно помялся, но затем согласился и отступил. Он стал взбираться вверх по лестнице. Тяжелая связка ключей у него на поясе весело позвякивала при каждом шаге. Проводив констебля глазами и от души желая последовать вслед за ним в мир света и свежего воздуха, я развернулся и двинулся во мрак подземелья.
Первая камера была крохотной, едва ли больше лошадиного стойла, и такой узкой, что взрослый мужчина не смог бы раскинуть руки, не упершись ими в стены. Внутри находились сразу двое. Оба мертвецки пьяные. В нос мне снова ударил кислый запах эля. Ни тот, ни другой не шелохнулись, когда я проходил мимо. Зато обитатели соседней камеры – трое оборванцев, угрюмых и голодных на вид, – встретили меня оживленным гомоном. Один из них выкрикнул непристойность, вероятно приняв меня за Диллона, его приятели разразились хохотом.
Приближаясь к третьей камере, я замер на полушаге.
«Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь – в озере, горящем огнем и серою. Это – смерть вторая»[18]18
Откр. 21:8.
[Закрыть]. Слова из книги Откровение звучали в моей голове так ясно, словно передо мной держали раскрытую Библию. А в ушах плыл голос отца, читающего эти строки.
Я закрыл глаза и вдохнул зловоние тюрьмы, в котором перемешались запахи мочи и кала, – запах мира людей, где не было никаких ведьм и колдунов, никаких бесовских оргий и договоров с дьяволом, но лишь пьяницы и блудницы да еретики вроде меня.
Подняв свечу повыше, я двинулся дальше.
Глава 8
1703 год. Местность вдали от моря
Из моей спальни открывается вид на сад, обнесенный каменной оградой. Нет, он недостаточно большой, чтобы назвать его настоящим фруктовым садом, где растут яблони, сливы и груши, вроде тех огромных садов, что окружали дом моего детства. Эти деревья, лишенные сейчас и плодов, и листьев, были посажены полвека назад в один прекрасный весенний день, когда Мэри, опираясь на грабли, наблюдала, как я выворачиваю горы кремня из известнякового грунта. Сад примыкает к пустующему загону для овец. Длинный загон сбегает вниз по склону, а по обе его стороны простираются бескрайние поля. Зимой они едва прикрыты пожухлыми серыми стеблями, но летом превращаются в желто-зеленое море, волнующееся под порывами ветра.
Обычно я просыпаюсь под звонкое пение птиц. Но сегодня утром птицы покинули нас – ни щебета, ни чириканья, – висящая за окном тишина долго не позволяет вынырнуть из ночного безмолвия. Солнце стоит уже высоко, когда я наконец прихожу в себя, радуясь, что сновидения остались позади. Я не часто вижу сны, но в последнее время ночи полны кошмаров. меня преследуют фурии. Хлопанье их крыльев напоминает раскаты грома, а пронзительные крики переходит в звериный рев. Не знаю, с какой целью чудовища гонятся за мной, но они не отступают ни на шаг, визжат и оглушительно хохочут.
Я окончательно стряхиваю оцепенение и несколько минут лежу на спине – блаженные мгновения, когда поясница и колени не болят. Но память услужливо подсказывает, сколько дел предстоит сделать сегодня, – не очень-то утешительное воспоминание. Теперь нужно встать, не разбудив Мэри, – навык, доведенный за прошедшие десятилетия до совершенства. Я плавно перекатываюсь к краю постели, стараясь распределять вес так, чтобы кровать не скрипела. И главное – не начать кашлять. Когда я сажусь и опускаю босые ноги на пол, тупая боль сдавливает грудь – ощущение, с которым я встречаю почти каждое утро. Секунд тридцать или около того я энергично растираю грудь кулаком. Как заверяют врачи, эти круговые движения облегчат дыхание. Я им не верю. Зато растирание вызывает покраснение кожи, и все мои шрамы, причудливой сетью покрывающие грудную клетку, становятся яркими, как листья осеннего клена. Я смотрю на них, и мне кажется, что они кровоточат.
Поднявшись с кровати, я натягиваю чулки и панталоны, затем – жилет и вставляю ноги в домашние туфли. Сунув руку в карман, нащупываю связку ключей, которую всегда ношу с собой, и крепко сжимаю их в ладони, чувствуя обжигающий холод металла. Они словно горсть пороха, крошечный бочонок, который может взорваться в любой момент, превратив мою руку в кровавые лохмотья.
Я добредаю до окна и выглядываю наружу. Ртуть в барометре, укрепленном на каменном подоконнике, стоит высоко. По нежно-голубому, словно яйцо дрозда, небу тут и там разбросаны белые перья облаков. Неподвижные кроны деревьев напоминают тонкую каменную резьбу. Как я и ожидал, ночью выпал снег, но совсем немного, так что ветви растений и сохранившиеся кое-где пожухлые листья лишь слегка присыпаны ледяной пылью, похожей на сахарную пудру. На земле лежит тонкий снеговой покров, однако на нем нет ни единого следа – ни ровных цепочек, оставленных лисами, ни раздвоенных следов косули или оленя. Никаких признаков живых существ. Повсюду властвует мертвая тишина.
– Томас! – раздается у меня за спиной сонный голос.
Я оборачиваюсь. Мэри закутана в одеяло так, что мне виден только краешек ее ночного чепца да смутно угадываются контуры тела под толстым покрывалом. В ногах обычно лежит, свернувшись калачиком, наш кот, но сегодня и он куда-то запропастился.
– Доброе утро, жена. – Я возвращаюсь к ней и присаживаюсь на край постели.
Мэри окончательно стряхивает дрему, на лице у нее появляется беспокойное выражение: жена понимает – я принял решение. Она начинает двигаться проворнее.
– Я с тобой. – Мэри откидывает край одеяла. – Или подожди, пока…
Я опускаю руки ей на плечи: «нет». Мэри настаивает. Я отрицательно качаю головой:
– Нет, не могу позволить тебе присутствовать. Я должен пойти один. И сделать это надо сейчас. Я и так слишком долго откладывал.
Она берет меня за руку. Я чувствую, как подрагивают ее пальцы. Они едва теплые, а кожа тонкая, словно бумага, как будто жизнь медленно утекает из нее. Я прижимаю ладонь Мэри к своей груди. Мне хочется удержать жену и защитить.
– Ты дрожишь, – говорю я. – Не бойся. Все будет хорошо.
Я не успеваю договорить, как Мэри, покачивая головой, обращает на меня сердитый взгляд своих больших темных глаз. У нее почти не осталось бровей, зрачок на левом глазу слегка затуманен катарактой, и все же рассерженная Мэри, как и прежде, представляет грозное зрелище.
– Как ты можешь так говорить, Томас! – восклицает она. – Ты ведь прекрасно знаешь, что это опасно.
– Смотри, какой долгий путь мы прошли. Сейчас не время терять веру в наши силы. – Фраза, которая в устах молодого человека звучала бы призывом отважно двигаться вперед, для моих старых ушей – слишком сентиментальна и полна пафоса. И для ушей Мэри тоже.
– Есть вера, а есть откровенная глупость – две совершенно разные вещи. – Мэри решительно вылезает из-под одеяла и натягивает теплый стеганый халат.
– Глупость?
Мэри возмущенно пыхтит.
– Да, глупость – идти туда одному. – Следует короткая пауза. – Безрассудство, – уточняет она.
– Давай больше не будем препираться, – говорю я как можно тверже. – Мы же не знаем, что ждет меня наверху. Бессмысленно страшиться того, чего не знаешь. Я не боюсь, и тебе не следует.
Это ложь. Конечно же, я боюсь. Что страшит нас более, чем неизвестность?
Я не могу винить Мэри за ее гнев, сомнения и даже обиду. И все же вынужден настаивать: я должен пойти один.
Продолжая сжимать лежащий в кармане ключ, хотя ладонь у меня горит, словно в руку вложили раскаленную головню, я спускаюсь на кухню. Аппетита нет – от одной мысли о еде к горлу подкатывает тошнота, – но я все же беру вино, хлеб, достаю из кладовки холодную голубиную грудку и отрезаю кусок. Затем разжигаю плиту и подогреваю миску лукового супа, совсем чуть-чуть. Поставив еду на поднос, опускаюсь на колени. Я прошу Бога не оставлять меня, пока моя задача не будет выполнена. Мне почти удается убедить себя, что молитва услышана. Закончив, я неуклюже поднимаюсь. Жду, пока успокоится дыхание и перестанет клокотать в груди.
Я беру поднос и выхожу из кухни. Руки дрожат, колени подгибаются. Сейчас только середина декабря, а в доме такая стужа, как будто за окном трещат январские морозы. Я взбираюсь по лестнице и, миновав гостевые спальни, направляюсь к двери в дальнем конце коридора. Эта дверь всегда заперта, а ключ лежит у меня в кармане. Я с ним никогда не расстаюсь.
Опустив поднос на пол, достаю из кармана связку ключей, вставляю самый маленький из них в замочную скважину и с легким щелчком поворачиваю. Открываю дверь и на короткий миг чувствую свежий запах моря и вкус соли на губах. На меня обрушиваются оглушительный свист ветра, несущегося над волнами, и приближающиеся раскаты грома. Но это всего лишь моя фантазия. Я чутко прислушиваюсь к звукам. В доме царит тишина.
За дверью находится еще одна лестница, четырнадцать ступенек, ведущих наверх, к другой двери, сделанной из цельного дуба и заложенной тяжелой деревянной балкой. На площадке нет ни одного окна, но на стене вдоль лестницы укреплены подсвечники. Я стараюсь, чтобы свечи в них всегда горели. Мои глаза давно привыкли к их тускло-желтому мерцанию.
Но сегодня свечи не горят. Лестница погружена в кромешный мрак.
Сверху не долетает ни звука. Я ставлю ногу на первую ступеньку лестницы, но затем отступаю.
«Ты так боишься темноты?» Мысль о собственной трусости неприятно кольнула под сердцем. И тем не менее я оставляю поднос у подножия лестницы и возвращаюсь на кухню за свечами. Соленый запах моря исчез.
Я беру огарок восковой свечи и, прикрывая огонек ладонью, проделываю обратный путь наверх. Когда свечи на лестнице зажжены, я закрываю за собой дверь маленьким ключом, существующим в единственном экземпляре, и начинаю подниматься по ступенькам.
Ступеньки крутые. На полпути в сердце вонзается раскаленная игла. Привалившись к перилам, я замираю. Чувство жжения накатывает волнами, с каждой новой волной голова кружится все сильнее. Я стискиваю зубы и жду. Когда боль отступает, вытираю рукавом выступившую на лбу испарину и продолжаю путь наверх.
Добравшись до последней ступеньки, с трудом перевожу дух. Воздух здесь кажется разреженным, как будто я поднялся высоко в горы, а не на полтора фута по лестнице. Дом, пылающий очаг, тощий кот, сосредоточенно умывающийся под кухонным столом, – все осталось внизу, в другой жизни. Возможно, в другом мире.
Я вытягиваю деревянную балку из железных скоб, как сотни раз делал это за прошедшие годы. Дверь со скрипом открывается. Я стою в проеме, загораживая собой свет, льющийся с лестницы, поэтому пространство, куда я собираюсь вступить, погружено в полумрак. Мое собственное дыхание отдается у меня в ушах, страх железными тисками сжимает внутренности. Запах моря становится почти удушающим.
Я вхожу.
Мансарда, где я оказался, меблирована скромно и содержится в безупречной чистоте. Возле стены справа от входа стоит кровать с периной и теплым одеялом. Рядом – невысокий комод и умывальник, под умывальником – ночной горшок. На полу лежат несколько разноцветных ковриков. На противоположной стене – небольшое оконце, через которое проникает слабый свет. При строительстве дома окна здесь не было, я сам прорезал его. Подокном стоит деревянная скамейка, на которой сидит обитатель мансарды. Он смотрит на улицу, на припорошенное снегом поле. Я вижу длинные льняные волосы, тронутые возле корней сединой. Пряди рассыпаны по плечам и по спине. Сидящий одет в просторную рубашку из небеленого полотна, которая спускается до закованных в кандалы лодыжек.
Я жду.
– Чувствуешь запах? – сиплым – результат многих лет молчания – голосом произносит существо. – Море?
– Нет, – отвечаю я.
Мой голос тоже дает трещину.
Существо поворачивается ко мне лицом. Ворот его рубашки распахнут, в широком вырезе видна бледная шея без единой морщины, изрезанная множеством узловатых шрамов, темных, как бычья кровь. Они напоминают переплетение рек с рукавами и притоками. Шрамы уползают вбок, к левой ключице.
– Мы неподалеку от моря?
Пройдет несколько мгновений, прежде чем спросивший поймет, что я не намерен отвечать. И в эти несколько мгновений я стану объектом пристального внимания. Я чувствую на себе пронизывающий взгляд, а затем раздается короткий пронзительный хохот, который вонзается в меня, словно кинжал.
– Томас, следы прожитых лет лежат на тебе как печать предательства!
Я не оспариваю вынесенный мне вердикт. Все мое внимание поглощено голосом, который произнес его. Мне слишком хорошо знаком этот голос. И происходит то, чего я больше всего опасался: нечто внутри меня, то, за что я пытаюсь уцепиться, рушится.
– Вот твой завтрак, – приподнимая поднос, говорю я.
Существо рассматривает лежащие на подносе предметы. Тонкая бровь ползет вверх.
– Ты поешь со мной?
– Давай я лучше покормлю тебя. Тебе самой будет сложно. – Я делаю несколько шагов, приближаясь.
Она опускает взгляд на свои запястья, скованные наручниками, цепь от которых тянется к кандалам на ногах.
– О, тогда непременно поедим вместе. – Снова раздается сухой смешок.
Я опускаюсь на скамейку рядом с ней, стараясь не обращать внимания на тяжелый запах пота и прелой кожи. Таз и пара кувшинов с горячей водой – все, что я сумею поднять по лестнице, но я решаю, что непременно сделаю это. Мэри, конечно, будет настаивать, чтобы самой помыть ее, но я поклялся, что отныне и до самого конца никто, кроме меня, не войдет в мансарду.
Я подношу бокал с вином к ее губам и слегка наклоняю, чтобы она могла начать пить. Дождавшись, когда бокал наполовину пустеет, я ставлю его обратно на поднос и предлагаю ей хлеб. Я держу кусок ровно, стараясь, чтобы рука не дрожала, пока она откусывает маленькими белыми зубами аккуратные кусочки и пережевывает их. Вслед за хлебом настает черед лукового супа. Ложка за ложкой я вычерпываю его из миски.
– Я помню, ты любила луковый суп, – замечаю я.
Однако ответа не получаю.
В комнате висит тишина. Трапеза окончена. Больше мне здесь делать нечего. Но я не ухожу. Она сидит, потупившись, а я смотрю на ее тонкие веки с голубоватыми прожилками и едва заметные морщинки возле глаз – свидетельство минувших лет. Уголки губ чуть опущены, словно ее одолевает скука.
Быстрое движение в углу комнаты Заставляет меня повернуть голову. Комок серовато-коричневых перьев бьется под потолком – сойка! Наверное, спасаясь от холода, она по ошибке нырнула в дымоход или проскользнула через дыру в черепичной крыше, которую я все никак не соберусь заделать. Птица мечется в тщетной попытке найти обратную дорогу, беспорядочно порхает между балками и тревожно чирикает. Мне жаль пичугу, но я не вижу отверстия, через которое можно было бы выпустить птичку на волю, даже если бы я сумел поймать ее.
– Совсем другой мир, – звучит у меня над ухом.
Я поворачиваюсь, чтобы взглянуть на выражение лица, с которым она произносит эти слова. Но лицо ее по-прежнему неподвижно.
– Почему другой? Что ты помнишь из прошлого? – Я мысленно проклинаю себя за то, что задал оба вопроса разом.
– Он стал меньше. Сморщился, как высохшее яблоко.
– Откуда тебе знать?
Сойка нырнула вниз, приземлилась возле наших ног и быстро-быстро побежала по дощатому полу.
«Откуда это создание знает, что ее дом – в небе? И хотя в комнате птица нашла защиту от стужи, эта же комната станет для нее смертельной западней, где она переломает крылья или расшибется о стену».
Сойка, неуклюже скакавшая по полу, замечает льющийся из окна свет. И, словно чувствуя, что здесь лежит самый короткий путь к свободе, бросается к окну. Но несчастная пичуга не замечает стекла. Ударившись о него грудью, она с писком падает обратно на пол.
– Ты что-нибудь помнишь? – осторожно повторяю я вопрос.
Но, похоже, желание разговаривать у нее пропало. Сегодня мне не суждено получить ответ.
Когда я вновь опускаю глаза на пол, сойки нигде не видно.
* * *
Я спускаюсь по первому лестничному пролету, запираю дверь и кладу ключ в карман. Только теперь, когда дверь закрыта, я прислоняюсь лбом к ее деревянной поверхности и перевожу дух. Я стою так несколько минут, ожидая, когда уляжется вихрь мыслей у меня в голове. Но внутри по-прежнему бушует ураган. Сердце скачет галопом, словно не желая оставаться в груди. Я вдруг ловлю себя на том, что неистово расчесываю грудь и плечи ногтями. Кажется, все мои шрамы вдруг ожили и движутся по поверхности тела, вызывая неистовое желание соскрести их, избавиться от них так же, как змея сбрасывает старую кожу.
«Тебе никогда не избавиться от них». Слова звучат в ушах, словно звон похоронного колокола: «никогда, никогда».
Мэри. Мне нужна Мэри.
Я иду вниз, прохожу через кухню, зову ее. Заглядываю в гостиную и в кабинет. Мэри нет в доме. А моя старая солдатская шинель исчезла с вешалки.
Мохнатый иней лежит на каменной балюстраде крыльца и на стеблях плюща, вьющегося вдоль стены дома. Тонкая корочка льда хрустит под ногами, как битое стекло. Я оставляю расплывчатые отпечатки на снежной пыли. Холод оказывается моим неожиданным союзником – морозный воздух очищает легкие, я вдыхаю полной грудью.
– Мэри!
Я иду мимо грядок, которые тянутся слева от дорожки, и мимо свинарника – справа от меня. И хотя обрабатывать эту скудную каменистую почву занятие хлопотное, наш ухоженный огород и небольшой сад говорят сами за себя: мы не зря потратили силы и время. Именно здесь я, вернее всего, отыщу Мэри, которая неустанно, до ломоты в суставах, возится на земле. Жена ставит сетки от кроликов и, натирая мозоли на пальцах, подвязывает шпалеры. Конечно, сейчас, в декабре, шпалеры не производят впечатления, но с приходом лета они будут покрыты густой листвой и благоухающими цветами и полны тяжелого гудения пчел.
В конце дорожки находится изгородь, за которой начинается сад. Ворота просели. Приходится всем телом навалиться на створку, чтобы сдвинуть ее. Как же я скучаю по своей прежней силе, беззаботной силе юных лет. Сейчас я слаб. Эта шаткая деревянная штуковина переживет меня.
Я шагаю по саду вслед за собственной тенью, переползающей от ствола к стволу. Подрезанные ветви яблонь тянутся друг к другу, они похожи на заледеневшие пальцы, которые упираются в пустоту.
– Мэри?
Она стоит возле каменной ограды спиной ко мне, нахохлившись, словно воробей. На плечах у нее моя шинель. Даже издали видно, как сильно дрожат ее плечи.
– Мэри?
Жена что-то держит в руках, прижимая к груди.
Когда она оборачивается, я вижу, что на руках у нее лежит маленький закоченевший трупик – растрепанный комок серовато-коричневого цвета.
Я подхожу ближе.
– Что случилось? – спрашиваю я, хотя и так вижу.
Кот был старый, говорю я себе. Прошлой зимой ему исполнилось шестнадцать. Он давно утратил прежнее проворство и почти все зубы. Бедняга мог стать легкой добычей лисицы или барсука.
– Он… он почти не выходил на улицу, – всхлипывает Мэри. – А вчера вечером вдруг исчез. Я так и не смогла найти его.
Я растерянно молчу, не зная, как утешить ее. Нам так давно не приходилось горевать.
– Давай я похороню его, – предлагаю наконец.
Она качает головой и хлюпает носом.
– Нет, земля слишком мерзлая.
– Ничего, я справлюсь.
Я беру из рук Мэри окоченевшее тельце. Пожилой кот с громким неприятным голосом, давно разучившийся ловить мышей, а также контролировать собственный мочевой пузырь. Как и большинство добропорядочных котов, обожаемых своими хозяйками, он признавал одну лишь Мэри, а для меня у него оставалось только холодное презрение и дерзкий взмах хвостом.
Я осматриваю труп. Мэри наблюдает за мной с каким-то странным блеском в глазах. Похоже, кот всю ночь пролежал в саду: тело промерзло насквозь, мех покрыт ледяными бусинами. Я ощупываю его бока, ожидая наткнуться на разорванную плоть, сломанные кости и запекшуюся кровь. Но ничего не нахожу. Это была мирная смерть.
– Старость, – осторожно говорю я и опускаю кота на землю. – И холод. Он умер естественным образом.
Мэри сердито сплевывает перед собой.
– А всего-то сутки прошли! – Она разворачивается и удаляется в дом.
Я с радостью последовал бы за ней, но вместо этого отправляюсь искать лопату.








