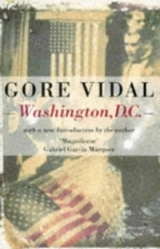
Текст книги "Вашингтон, округ Колумбия"
Автор книги: Гор Видал
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 26 страниц)
Несколько сенаторов подошли к нему и поздравили его жестами слегка нарочитыми, не вполне естественными: каждый знал, что за ним наблюдают сотни глаз.
Затем Бэрден увидел вице-президента. Онне сидел насвоем председательском месте, а стоял рядом, беседуя с группой сенаторов. Бэрден помахал ему рукой, а затем стал торжественно спускаться в колодец зала заседаний. Шум на галереях усилился – знатоки зашептались, гадая, о чем они говорят друг с другом. Конечно, ни о чем. В лучшие свои минуты вице-президент предпочитал афористический слог. Но Бэрден знал: главное в политике – это всегда то, что не произносится вслух. Они перебросились несколькими любезными фразами, внешне вроде бы лишенными всякой двусмысленности. Детали прохождения законопроекта в комитете – ничего больше. Но что означал такой обмен любезностями, было ясно тем, кто знал Клуб. Этот крохотный человечек с красным лицом и зубами, как черный жемчуг, примкнул к Бэрдену Дэю. Была пущена в ход сила, и, подобно тому как огонь сплавляет два сложенных вместе куска металла, произошло сплавление. На время они объединились.
Не помня себя от радости, Бэрден вернулся в раздевалку, забыв подать условленный знак Клею. Дела шли лучше, чем он ожидал. Если вице-президент поддержит его в 1940 году, дело в шляпе.
Через толпу туристов он проворно протиснулся к выходу, время от времени удерживаемый их комплиментами и поздравлениями. На полпути к главному выходу его нагнал Клей.
– Что сказал вице-президент?
– Он с нами. От начала и до конца.
Они заговорили о предстоящем дневном заседании комитета. Бэрдена на нем не будет. Клей должен предупредить одного из сенаторов, чтобы тот подменил Бэрдена.
– Где же вы будете?
Бэрден тряхнул головой.
– Я хочу исчезнуть. Мне надо подумать. Позвони мне вечером домой.
Он ждал Генри под портиком Капитолия, зажмурив глаза от нестерпимого блеска солнца. Стояла такая жара, что он едва дышал. Следовало бы остаться в прохладном Капитолии, но он предпочел уединиться со своим триумфом.
– Отличная работа, сенатор.
Голос был приятным, ассоциации, с ним связанные, – нет.
Бэрден обернулся и увидел приближающегося к нему стройного, невозмутимого на вид человека в коричневом габардиновом костюме. Правая рука Бэрдена невольно дернулась, но он вовремя спохватился и прочертил ею в воздухе неловкую дугу, как будто разминая затекшее плечо.
– Яжду машину, – сказал он ни к селу ни к городу.
– Чего же еще? – Мистера Нилсона явно забавляло произведенное им впечатление. – Я только что видел вас зместе с вице-президентом. Он, должно быть, весьма доволен случившимся.
Бэрден повернулся и посмотрел на подъездную аллею: не видно ли Генри в подъезжающем «паккарде». Но ничего не увидел. Приятный голос продолжал:
– Вами сейчас довольны буквально все. Вам известно, что газеты Херста собираются предложить вашу кандидатуру в президенты?
А он не без изюминки. Бэрдену не удалось скрыть свою заинтересованность.
– Откуда вам это известно?
– Я никогда не раскрываю источников информации, сенатор, – усмехнулся Нилсон. – У вас, надеюсь, будет повод убедиться, что это мое лучшее качество.
Бэрден хмыкнул и снова хотел отвернуться, но голос мистера Нилсона (с Юга он или с Запада?) остановил его.
– Уж я-то могу вам сказать, что кампания «Дэя – в президенты» начнется с завтрашней редакционной статьи; ее пишет сам старик Херст.
– Это очень интересно, мистер Нилсон.
– Я думаю, вы будете замечательным президентом. Уж я-то, конечно, буду голосовать за вас.
– Мистер Нилсон…
– Да, сэр?
– Кто вы, черт побери?
– Друг.
– Нет, вы не друг.
– Ну, тогда мне хотелось бы им быть. В конце-то концов, мы выбираем друзей потому, что они непохожи на нас. Я никогда не буду великим государственным деятелем, таким, как вы. – Ирония, коварство, правда в утонченных пропорциях. – Я могу лишь позавидовать той жизни, какой живете вы, и, поскольку быть одновременно и тем, и другим, и третьим невозможно, я выбираю своих друзей с таким расчетом, чтобы благодаря им быть и политиком, и журналистом, и художником…
– И преступником?
– Да, если хотите, даже преступником.
– Так чемже, собственно говоря, вы занимаетесь?
– Я бизнесмен. Сейчас я говорил с вами без обиняков, сенатор. Абсолютно откровенно.
– Да, я вам верю. А вам известно, какое наказание предусмотрено за подкуп… за попытку подкупа члена конгресса?
– Среди моих многочисленных друзей есть адвокаты. – Разговор по-настоящему забавлял мистера Нилсона. Бэрдена вновь охватила растерянность, он почувствовал, как закипает в нем раздражение. – Мне известны наказания, предусмотренные законом. А также блага, которые дает жизнь. Надеюсь, вы серьезно взвесите то, что я вам предложил.
– Даже не подумаю. Я не беру… – Бэрден невольно понизил голос и сам почувствовал это, хотя их никто не мог подслушать, – взяток.
– Другие…
– Меня не интересует, что делают другие.
– Разве капиталовложение в вашу карьеру – взятка? Вклад в вашу избирательную кампанию – разве это взятка? Вы вообще представляете себе, откуда берутся деньги для проведения президентских выборов? Во всяком случае, если мне доведется вложить деньги в ваше будущее, я потребую от вас куда меньше, чем, скажем, Конгресс производственных профсоюзов или Национальная ассоциация промышленников.
– Я не продаюсь, мистер Нилсон. – Напыщенность и неискренность собственных слов ужаснули Бэрдена, и он подумал в отчаянии о том, куда исчезла вдруг его знаменитая способность найти единственно верную уничтожающую фразу. Лишившись дара речи, он замолк, и на ум ему не приходило ничего, кроме прописных истин, как будто часть его мозга парализовало.
– Я не собираюсь покупать вас, сенатор. – Этот непринужденный голос был теперь холоден, как и его собственный. – Я дамвам деньги, которые нужны вам, если вы дадите мне возможность купить то, что нужно мне. Это законный обмен. Слово, которым я обозначу свое предложение, возможно, прозвучит странно для ваших ушей. Поэтому я произнесу его медленно и отчетливо. Это слово – «бизнес».
В эту минуту подъехал Генри на «паккарде», и Бэрден сел в машину, не сказав ни слова. Пепельно-серый лимузин отъехал от портика Капитолия, облюбованного скворцами.
– Куда, сенатор?
– Куда? – переспросил, очнувшись, Бэрден. – Через реку на ту сторону, в Виргинию. Там поглядим.
Генри прекрасно понял, куда хочет поехать сенатор. Там, за рекой, неподалеку от Булл-Рана [12]12
Булл-Ран – место одного из кровопролитнейших сражений Гражданской войны.
[Закрыть]лежало поле, по которому, как громадная змея в высокой траве, вились окопы времен Гражданской войны. Бэрден любил сидеть здесь и размышлять о прошлом, о тех днях, когда его не было на свете, мечтать: родись он вовремя, он мог бы пасть на той славной войне, как его дядя Арон Хокинс, сражавшийся под Атлантой в девятнадцать лет, – ему раздробило ногу ядром, и через два дня он умер от гангрены. Вот так судьба подрезала его едва начавшуюся жизнь.
Бэрден смотрел из окна машины на редких прохожих, которые двигались чрезвычайно медленно в такую жару, чтобы не потеть; но даже простое наблюдение из относительной прохлады автомобиля бросило его в жар. Он сунул руку в карман, чтобы достать носовой платок, и нащупал кусочек тяжелого металла – пулю, сразившую его отца. Он забыл, что захватил ее с собой из кабинета. Осторожно прикоснулся к металлу и в который уж раз подумал, какой именно частью поразила она отцовское тело.
Через Чейн-Бридж они пересекли Потомак, обмелевший и сузившийся от жары. На виргинской стороне реки начинался лес, густой и, наверное, прохладный. Бэрден опустил стекло, набрал полные легкие воздуха, закрыл глаза и впал в дремоту.
– Мы приехали, сенатор.
Бэрден очнулся и увидел, что машина остановилась на тропинке в лесу; высоко над головой сплетались ветви деревьев, окрашивая зеленью неистовый солнечный свет. Тропинка выходила на поле, где конфедераты строили свои земляные укрепления.
– Оставайся в машине, Генри. Я ненадолго.
Поле было сплошь застлано ярким кружевом золотарника; медленно, не обращая внимания на цепляющуюся за его брюки траву, он шел к тому месту, где под прямым углом сходились две земляные насыпи. С каждым шагом он все острее сознавал, что лежит под этой землей – кости, пуговицы, пряжки от ремней, бесформенные пули.
Бэрден задыхался, когда наконец подошел к своему излюбленному месту на земляном укреплении и уселся на замшелый камень в тени молодых деревьев. С этого возвышения можно было обозревать местность, на которой разыгралась первая битва при Булл-Ране, семьдесят шестая годовщина которой пришлась на вчерашний день – день его собственной победы. Доброе знамение, если не считать, конечно, что конфедераты с тех пор не сошли с пути поражений.
Сосны разрывали линию горизонта, как они разрывали ее почти столетие назад. На фотографии, сделанной сразу после битвы, виднелись те же сосны, но обгорелые и расщепленные, как множество спичек, а на переднем плане виднелось нечто, выглядевшее на первый взгляд как ворох старой одежды, но затем глаза различали руку, воздетую к небу, сильные пальцы, скрюченные так, будто стремились удержать выпавшее ружье. Вспомнив эту руку, Бэрден скрючил собственные пальцы, как тот мертвый солдат, и внезапно осознал, что пальцы эти скрючились не для того, чтобы удержать выпавшее ружье, а удержать самое жизнь, как будто жизнь нечто такое, что буквально можно схватить и удержать. Дрожь проняла его, он уронил руку на колени, не желая знать, что чувствовал тот человек в ту минуту, когда его покидала жизнь.
Трава парила на солнце. Над сырой землей поднималась дымка, порывы горячего ветерка шелестели листвой, гоняли с места на место рои мошкары. Умиротворенный, разомлевший, Бэрден взвешивал на ладони пулю, как делал это уже тысячу раз. Теперь, говорил он себе, он должен подумать, составить план на будущее, выработать программу действий, которая начиналась бы ныне и кончалась бы в тот ноябрьский день 1940 года, когда его выберут президентом. Перво-наперво он поговорит с Блэзом о деньгах. Затем пойдет к Уильяму Рэндолфу Херсту и даст ясно понять, что… Мысль его упорно устремлялась к мистеру Нилсону: какое бы смелое предложение тот ему ни сделал (и то обязательство, которое Нилсон на него накладывал), он никогда в жизни не брал взяток. В крайнем случае он принимал деньги для избирательных кампаний, смутно сознавая, что в один прекрасный день он сможет быть полезным тому, кто эти деньги жертвовал, – процедура неприятная, хотя и вполне обычная в Республике. Но ведь Нилсон предложил прямую взятку, и пойти на такое не может ни один честный человек. Да и само существо дела – лишить индейцев земли – жестоко и бесчестно.
Но что такое честь? Пальцы, державшие пулю, сжались в кулак. Обычный ответ: делать то, что ты должен делать, невзирая на то, чем это для тебя обернется. Но практически от такого благочестия мало проку. Ведь не всегда можно знать, что ты должен делать. Если стране наилучшим образом будет служить он, президент Джеймс Бэрден Дэй, а стать президентом он сможет лишь в том случае, если возьмет деньги мистера Нилсона, то разве не должен он их взять? В конце концов, защитник Конституции, взявший взятку, морально предпочтительнее неподкупного президента, подрывающего устои Республики. И наконец, вечный проклятый вопрос: какое все это имеет значение? Недавно ему показали проект его собственного мавзолея в Капитолии штата. «Мы предусмотрели место для четырех персон, – успокоительно объяснил архитектор. – Естественно, миссис Дэй захочет лежать рядом с вами, а возможно, и ваша дочь». С течением времени никто не будет знать – да и к чему это знать? – какая горстка праха чья.
Разомлевший от солнца, Бэрден еще раз восстановил в памяти разговор перед Капитолием и вновь задал себе вопрос, откуда у Нилсона взялась уверенность в том, что его жертва не попытается привлечь его к ответственности. Единственным возможным объяснением было, что этот фрукт Нилсон – прирожденный искуситель, наглый провокатор, чей инстинкт безошибочно подсказал ему, что Бэрден не таков, чтобы поднять шум.
Пытался ли Нилсон подступиться к другим сенаторам? Тут стоило раскрыть глаза, поразмыслить всерьез. Но солнце ослепило его, и он тотчас зажмурился, возвратился в темно-розовую ночь собственной крови. Сенаторы почти не говорят на подобные темы. Он вспомнил, какое замешательство испытали они все, когда скончался один прославленный, но бедный член Клуба и вдова обнаружила в его сейфе восемьсот тысяч долларов чистоганом. «Мм… да», – сказал Бэрден своему коллеге-сенатору за тарелкой фасолевого супа в сенатской столовой. «Мм… да», – ответил тот. Одни берут, другие – нет. Он не брал. И не возьмет.
Бэрден открыл глаза в ту минуту, когда из леса вышел человек с длинным ружьем в руках. Явно охотник, который в любую минуту мог издали принять Бэрдена за енота, лисицу или на что там еще они охотятся в Виргинии. Чтобы предотвратить несчастный случай, он помахал охотнику рукой, но тот испуганно отпрянул назад и притаился за пнем. Бэрден встревожился. «Беглый каторжник», – замелькали в его мозгу черные газетные заголовки. Но рядом с ним был Генри, да и сам этот человек напуган едва ли не больше, чем он. Бэрден снова махнул ему рукой, улыбнулся, дружески кивнул – дескать я не замышляю ничего дурного.
Человек осторожно приблизился. Остановился у подножия земляных укреплений.
– Откуда вы? – спросил он с приятным каролинским акцентом. Это был молодой человек, грязный и с бородой, длинными светлыми волосами, спутанными космами падавшими ему на лоб.
Бэрден сказал, что живет в Вашингтоне; молодой человек нахмурился.
– Тогда бы вам не полагалось быть здесь, сэр. – В голосе его слышались странно серьезные нотки.
– Почему же?
Парень стоял теперь настолько близко, что Бэрден слышал запах его тела и мог подробно рассмотреть его странную одежду – измятая куртка, рваные брюки, башмаки с отстающими подметками, из дыры торчали грязные пальцы. Хватит ли у него сил позвать Генри, мелькнуло в мозгу Бэрдена.
Парень держал ружье поперек груди, словно взял его на караул.
– Ну, теперь-то вы понимаете почему, сэр. Не прикидывайтесь, будто не понимаете. – Он дернул головой в сторону соснового леса, откуда только что вышел, и Бэрден вдруг увидел, что деревья объяты пламенем. Белый дым застлал солнце, небо пылало. Бэрден попробовал встать, но тело парня стояло на его пути, и он не смел ни тронуть его, ни попросить подвинуться: ружье страшило.
Он откинулся к камню.
– Там пожар, – выдавил он из себя. – Горит лес.
– Ясно, что горит.
Бэрден сжался в комок, стараясь не дышать, не слышать запаха пота парня, уклониться от странного дружеского взгляда блестящих, налитых кровью глаз.
– Дайте мне встать, – прошептал он. – Пустите меня.
Парень не шелохнулся. Скрытые в бороде губы ухмылялись Бэрдену, беспомощно простертому на земле. Затем парень вдруг протянул смуглую мускулистую руку, и в ней, изогнутой, Бэрден увидел смерть, хранимую памятью, и смерть грядущую. Он пронзительно вскрикнул и проснулся как раз в тот момент, когда уже начал сползать с земляного укрепления на каменистое поле. С минуту он лежал, растянувшись на земле, затем осторожно потрогал траву, землю, камень, чтобы убедиться, что он еще жив.
– Вы здоровы, сенатор? – На опушке, похожий на черное пугало, стоял Генри.
– Да, Генри! – Он удивился неожиданной силе своего голоса. Затем стремительно, насколько позволяли стареющие мышцы, поднялся на ноги. – Я сейчас приду. Иди к машине.
Когда Генри скрылся из виду, он сел на валун и стал ждать, пока сердце обретет свой обычный медленный ритм. Он бросил опасливый взгляд поверх поля, наполовину надеясь, наполовину боясь увидеть огонь того славного пламенеющего дня. Огня не было. Все это было лишь частью театрального представления, разыгравшегося в его воображении. Так, ничего особенного. И все же лицо солдата армии конфедератов было ему знакомо; но ведь и лицо смерти едва ли будет совсем таким уж незнакомым, и воистину это его смерть подняла ружье на него. Содрогаясь от мысли, каким чудом он спасся, Бэрден встал и тут же заметил тускло мерцавшую в траве пулю, сразившую его отца. Полунагнувшись, он расковырял пальцами углубление в земле, затем положил туда пулю и присыпал сверху землей. Довольный содеянным, он спустился с земляного укрепления и зашагал по полю к машине.
III
– Да, сэр, завтра утром я перво-наперво наведу о нем справки. – Клей Овербэри сидел за письменным столом сенатора. – Почему он вас так интересует? Иначе говоря, вы хотите, чтобы я раскопал что-нибудь определенное?
Сенатор пробурчал в ответ что-то невнятное.
Зажав телефонную трубку между щекой и плечом, Клей закурил сигарету.
– Понимаю, – сказал он; до него дошло, что либо он что-то пропустил, либо ему просто ничего не было сказано. Далее сенатор со свойственной ему определенностью дал распоряжения, и Клей, как всегда, подивился способности старика удерживать в памяти такую кучу вещей. В отличие от него, Клея, которому приходилось все записывать.
– Вы верите в сны? – Этот вопрос сенатор задал тем же тоном, каким давал указания по поводу назначаемой на завтра пресс-конференции.
Клей был ошеломлен.
– В сны? – переспросил он.
Сенатор иронически фыркнул.
– Я тоже не верю, – сказал он. – Ну что ж, до завтра.
– До завтра, сэр. Э-э… будьте добры, сэр, скажите Диане, я позвоню ей завтра.
Сенатор обещал и положил трубку.
Клей позвонил мисс Перрин в приемную и попросил принести ему справочник «Кто есть кто в Америке». Затем откинулся на спинку кресла. День подходил к концу. Вздохнув, он застегнул рубашку: хорошо бы вечер был прохладный. Напротив него последний луч солнца осветил трагический рот Цицерона. Надо как-нибудь почитать Цицерона; старику будет приятно.
Тут вошла мисс Перрин, взяла в оборот свою копну волос, пытаясь сделать из нее симметричную рамку для миловидного личика, но потерпела поражение. Она вручила Клею толстый красный том и ждала, пока он читал справку: Нилсон, Эдгар Карл, род. 1881 в Гавр-де-Грас, Мэриленд; женился на Люси Уэйвел в 1921 (разведен в 1932).Ученые степени не указаны. Член директората ряда корпораций: освоение новых земель, газ, нефть. Член одного из престижных нью-йоркских клубов . Это интересно. Место жительства: Нью-Йорк, Пятая авеню, 1106 . Он вернул том мисс Перрин.
– Наведи справки о каждой из этих компаний. Запроси Торговую палату, будь так любезна. Наведи также справки в «Дан и Брэдстрит». Эти данные понадобятся сенатору завтра.
– Слушаю, сэр. – Она взглянула на него искоса, но он сделал вид, будто ничего не заметил. На своих неустойчиво высоких каблуках мисс Перрин проковыляла через приемную к двери.
При последних отблесках дня Клей прошел через сад Капитолия, где каждое дерево было мечено их латинскими названиями. Воздух застыл в неподвижности. Пекло вашингтонского дня остывало. Клей встретил пожилого сенатора и пожелал ему доброй ночи, не забыв при этом назвать себя. Старик, довольный, что его узнали, просиял.
У подножия Капитолийского холма Клей взял такси. Шофер был навязчивый говорун, и ему было все равно, что Клей его не слушает, в особенности потому, что он говорил о «черномазых», которые были жупелом Вашингтона. «Они» наводняли город с Юга, и вот результат: ходить по улицам стало небезопасно.
Клей остановил такси у ресторана на Коннектикут-авеню, над которым в четырехкомнатной квартире он жил вместе с тремя другими молодыми холостяками. Комната стоила дешево, район был удобным: отель «Мэйфлауэр», где встречались политические дельцы, находился всего в минуте ходьбы.
Соседей своих Клей видел редко, но отношения у него с ними были хорошие. Это все были подающие надежды молодые люди, и Клей делал все от него зависящее, чтобы поспевать за ними. Он уже давно заметил, что большинство молодых людей тянутся к тем, кто уже имеет власть; это естественно и неизбежно, но они слишком часто пренебрегают теми, кто еще не имеет этой власти, то есть себе подобными, но рано или поздно ее достигнет. Клей был склонен думать о себе как о человеке, который живет с заглядом в будущее. На деле же он всего-навсего существовал день ото дня, ожидая, когда перед ним откроется заветная дверь. А тем временем плел обширную паутину связей, так, на всякий случай,
Жилье Клея представляло собой одну-единственную меблированную комнату с широким окном на Коннектикут-авеню – городскую артерию, деревьями и невысокими домами по обеим сторонам похожую скорее на главную улицу какого-нибудь маленького городка, а не на центральную магистраль столицы. Клей никогда не мог забыть своего недоумения, когда впервые обнаружил, что Вашингтон не столичный, а всего лишь небольшой городок. Если не считать огромных, претенциозных правительственных зданий, его улицы ласкали взгляд даже провинциала. Фактически столица его родного штата во многих отношениях казалась ему более похожей на крупный город, чем Вашингтон с его медленным, как у южан, темпом жизни.
Клей скинул брюки посреди комнаты, швырнул нижнюю рубашку на сломанный торшер, с которого уже свисала пижамная куртка, зафутболил в темный угол туфли, наступая на кончики носков, выбрался из них не нагибаясь, швырнул высокой дугой трусы точнехонько на ручку двери ванной, на которой они повисли, точно знамя в бело-зеленую полоску. Затем повалился, прямой, как подрубленное дерево, на незастеленную тахту. Легкий ветерок обсушил его тело, превратив кожу в горячий сухой пергамент, готовый лопнуть от малейшего движения. И он не двигался. Прижатый к подушке глаз воспринимал все вокруг как передержанный фотоснимок.
Тихий стук в дверь разбудил его. Не одеваясь, он подошел к двери, чуть приоткрыл ее, ожидая увидеть одного из своих соседей-холостяков. За дверью стояла мисс Перрин, возбужденная, с блестящими глазами.
– О, – сказал он без особого воодушевления. – Долли.
– Я была поблизости. В восемь часов я встречаюсь с Мэнсоном в «Континентале», это в одном квартале отсюда, и я подумала…
Он распахнул дверь и тем прервал ее болтовню.
– Входи, – сказал он. – Я думал о тебе.
Она раскрыла от изумления рот, увидев, что на нем ничего нет.
– Ты простудишься, – покраснев, но не отступая, сказала она. Он закрыл за ней дверь и повернул ключ.
– В такую-то жару? Заходи и вытряхивайся из своих одежонок, ты запарилась. – Он поцеловал ее. Она ответила поцелуем, прикусив его нижнюю губу своими маленькими острыми зубками. Клей замычал от боли. Долли Перрин где-то вычитала, что такой поцелуй означает Страсть. Клей безуспешно пытался разуверить ее в этом, когда она приходила к нему, обычно перед свиданием с Мэнсоном, ее женихом, у которого была проколота барабанная перепонка и работал он в Казначействе. Она собиралась за Мэнсона замуж, потому что он был добр, рассудителен, уравновешен, но никак не могла насытиться Клеем, который каким-то образом затащил ее к себе в постель в первую неделю ее службы у сенатора. Сначала она пыталась разводить сантименты, но Клей и слышать ни о чем не хотел. Он прямо заявил ей, что она взрослая девчонка и сделала то, что сделала, потому что хотела этого, а вовсе не потому, что он совратил ее с пути истинного хитростью и посулами.
– Все это пустяки. Одна забава.
– А любовь? – шептала она сквозь путаницу волос, за которыми не видно было ее лица. Он ответил крепким ругательством, и она всплакнула; но он был хорошим юристом и ничего не выставлял в ложном свете. Он полагал, что каждая сторона должна полностью сознавать, на что идет. Он не любил лгать, не выносил сцен и презирал несдержанность чувств. Он любил сдержанность чувств и удовольствие. Долли Перрин доставляла удовольствие. Что касается чувств, он старался делать так, чтобы ее помыслы не слишком отдалялись от главной идеи – Мэнсона, его Казначейства и домика, который они собирались купить на Вермонт-авеню.
– Ну и беспорядок, – сказала она, оглядывая комнату глазами домашней хозяйки, какой она станет, как только истечет долгий срок помолвки и из куколки пятилетнего ухаживания они вместе с Мэнсоном выпорхнут в мир единой громадной домашней молью.
– Такой уж я, – сказал Клей, наливая виски в пыльный стакан. Сам он пил редко, но знал, что виски и Долли отлично сочетаются друг с другом. С каждым глотком она будет счастливее в любви. Разумеется, это была-таки любовь, хотя и не в том смысле, в каком она думала о великой Страсти: два ослепительной красоты лица в тридцатикратном увеличении на киноэкране, рвущиеся разделить друг с другом каждую мысль, каждую мечту, какую только способны вызвать к жизни человеческие мозги. Клей же ценил удовольствие, и только. Но для него был важен и сам факт завоевания. Он не мог насытиться победами над женщинами и, косвенным образом, над мужчинами, которые этих женщин любили. Всякий раз, обладая Долли, он побеждал вместе с ней и Мэнсона.
Клей наблюдал, как она раздевается – медленная процедура расстегивания множества пуговиц, крючков, «молний». Его всегда забавляла эта метаморфоза раздевающейся женщины. Одетая, она в броне и в маске, ноги удлинены за счет высоких каблуков, бедра и бюст обтянуты эластиком. То, что было высоким и стройным, обнажившись, вдруг укорачивалось, тяжелело, и сразу становилось ясно не только то, как она приземиста, но и как мощно сложена, ее не сломать, она вылеплена из земли. Мужчина рядом с женщиной – хрупкий, нервный инструмент, весь пламень и воздух, не чета земле и воде. Недовольная, что в комнате слишком светло и он, как всегда, не задернул шторы, Долли все же легла с ним в постель, и на какие-то полчаса эти четыре стихии слились воедино.
Выйдя из-под душа, Клей увидел, что Долли уже наполовину застегнулась на свои крючки и пуговицы – опять в броне. Довольно ухмыльнувшись, Клей откинул со лба ее буйные волосы и поцеловал ее округлый рот.
– Чемуулыбаешься? – Долли попятилась, подозрительно взглянула на него. – Что смешного?
Как большинство женщин, которых знал Клей, она опасалась юмора на том совершенно законном основании, что рано или поздно он обратится на нее самое. Глядя на ее озадаченное и недоверчивое лицо, Клей вдруг ощутил нежность – чувство, которое он в такие минуты редко испытывал. Он поцеловал ее спутанные, упрямо падающие на лицо волосы, из перекрученных глубин которых выпрыгивали заколки, как стрелы, выпущенные испуганными обитателями джунглей.
– Ничего смешного. Все очень серьезно. Мне надо одеться. А ты должна настроиться на встречу с Мэнсоном.
Он натянул на себя рубашку.
Долли влезла в туфли на шпильках и сказала:
– Не понимаю тебя, Клей.
– Я весь на виду. Меня и понимать нечего, – сказал он, завязывая галстук перед запыленным зеркалом.
Ожесточенно и безнадежно Долли терзала гребенкой свою прическу.
– Да нет. В конторе ты держишься свободно и раскованно, добиваешься своего, но когда я бываю у тебя…
– Добиваюсь расположения девочек? – Клей был резок. Он хотел доподлинно знать, как он выглядит в глазах других.
– Нет. Сенаторов, – сказала Долли, и челка сползла на глаз, отчего ее лицо приобрело вызывающе залихватское выражение.
Клей не позволил себе разозлиться.
– За это они мне и платят. Они дают объявление в газете: энергичный молодой адвокат, готовый переехать в Вашингтон и пленять сенаторов, скромная зарплата, широкие перспективы.
Он поправил белый двубортный вечерний пиджак, надеясь, что никто не заметит обтрепанных манжет сорочки.
– По-моему, тебе все же следовало бы вернуться на родину, так было бы лучше для всех.
Это была излюбленная тема Долли. Вашингтон – это Версаль, блестящий и развратный, превращающий простых хороших парней в пижонов или кое-что похуже.
Отчаявшись справиться с прической, она отложила зеркальце; волосы победили.
– А тогда почему не возвращаешься ты!
– А я у себя на родине. Ты забыл? Мы с Мэнсоном оба родились в Вашингтоне.
Долли горделиво выпрямилась.
Клей повернулся к ней и засмеялся. На лице Долли появилось выражение испуга.
– Ну, а над чем ты смеешься теперь?
– Так, просто подумал о чем-то. Ни над чем. – Он вспомнил историю, которую рассказал ему один из соседей-холостяков.
– Ты смеешься надо мной! – Она схватилась за голову, как будто ее предали.
– Ну что ты. Просто один из моих соседей рассказал мне смешную историю. Он англичанин.
– Что он тебе рассказал?
– Когда ему стукнуло двадцать один, его отец дал ему три совета. Во-первых, никогда не закусывать виски устрицами. Во-вторых, никогда не охотиться к югу от Темзы. В-третьих, никогда не любить женщину до захода солнца, потому что позже можешь встретить другую, получше.
– Ты мерзавец, – сказала она с чувством.
– Вот мне и показалось это смешным. Особенно совет не охотиться к югу от Темзы. Ума не приложу, что там не так, к югу от Темзы?
Но Долли уже выскочила за дверь.
Когда она пересекала улицу, он крикнул:
– До завтра!
Она не оглянулась.
– Доброй ночи! – Долли продолжала шагать по Коннектикут-авеню.
– Передай Мэнсону мои лучшие пожелания, – не удержался он. Она бросилась бежать на своих высоких каблуках, ныряя носом и оседая на корму подобно тяжелой шлюпке, пытающейся побороть течение
* * *
Когда Клея впервые пригласили в загородный клуб Чеви-Чейс, он был разочарован его простой деревянной верандой, глубоко отступавшей от красной линии окраинной улицы. Но, очутившись внутри, он сразу же почувствовал себя так, словно забрел в другое столетие; просторные комнаты, наводящие на мысль о несуетных радостях, высокие напольные часы, которые, казалось, никогда не отбивают время, и каждый шаг здесь подчинен ритуалу.
Сегодня он явился рано и вышел на газон; здесь, сидя под полосатыми зонтиками, пили и болтали теннисисты и игроки в гольф, доигравшие свои последние партии. Пора бы им уже разойтись, сурово подумал Клей; в остальном же окружающий пейзаж радовал глаз: справа, за деревьями, виднелись теннисные корты и плавательный бассейн, слева, среди мирных холмов, долин и рощ, фиолетовое на фоне синего вечернего неба, простиралось вдаль поле для гольфа, такое сочно-зеленое, как на картине восемнадцатого века с изображением английского парка. В самых темных уголках рощи метались светлячки.
– Чего только нет у богачей, не правда ли?
Клей обернулся и увидел полного низкорослого человека, который пел на приеме у Сэнфордов прошлым вечером. Клей пожал коротышке руку и засыпал его горячими приветствиями, памятуя, что это один из авторов «Вашингтон трибюн», к которому особенно благоволила Инид. Вот только как его звать?
– Зачем я здесь? Сам не знаю. Может, вы мне скажете? Что я здесь делаю?В этом месте, с этими людьми?
В ответ на брошенное вскользь Клеем замечание, что загородный клуб Чеви-Чейс – «место как место», нежданно хлынул целый поток слов.








