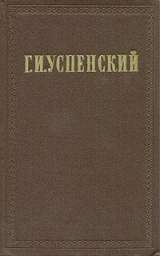
Текст книги "Том 1. Нравы Растеряевой улицы"
Автор книги: Глеб Успенский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 38 страниц)
Деревенские встречи *
I. Нечаянные гостиПод вечер в доме литовского дьякона на столе кипел большой красный, с зелеными потеками, самовар, из аляповатой решетки которого по временам с треском вылетали большие искры. Дело происходило в комнатке с почерневшими стенами, большой стряпущей печью и маленькими четырехугольными оконцами, к которым большими гвоздями были прибиты тончайшие кисейные занавески с бахромой из красных шерстинок. За образом была заткнута большая кленовая ветка, далеко стлавшаяся по потолку: ветка эта, по-видимому, служила непрестанным воспоминанием о дне «святыя троицы», но в сущности была предназначена для мух: мухи садились на нее, и поэтому их было меньше в комнате. Кое-где на стене болталась лубочная картинка, приколотая булавкой; вообще комната была бедна и грязна: чистая половина дома, только что отстроенная после пожара, стояла без рам, и поэтому там еще никто не жил.
Нечаянных гостей собралось довольно: кроме меня и приехавшей из посада мещанки, в комнате присутствовали: дьяконица, сам дьякон и дьяконский племянник, молодой исключенный семинарист. При появлении своем в горницу он несколько смутился, увидав чужого человека, и тотчас же было снова попятился в сени, но дьякон вытащил его оттуда за руку. Семен Матвеич (племянник) отошел к печи, кашлянул, тронул рукой шею, опять кашлянул, встал, сел, – вообще чувствовал себя неловко; но благодаря табаку, который предложил ему я, знакомство мало-помалу завязалось: незаметно от неудобств, сопряженных с добыванием в деревне табаку, о чем сообщил он мне, разговор перешел к охоте, к перепелам, и Семен Матвеич оживлялся все более и более. Скоро он уже, видимо, не стеснялся своим нанковым сюртучком, запыленным и отсыревшим, ни своими длинными охотничьими сапогами, ни вообще сознанием своей деревенской фигуры и неуклюжести. С каждым словом все больше выяснялась эта личность, страстно преданная деревенской жизни и природе, не имеющая никакой возможности как бы то ни было переродиться, делать не то только, что считается нужным у других, а только то, что можно любить делая, будь это охота наперепелов или уженье рыбы по целым дням. Разговорившийся Семен Матвеич постоянно встряхивал своими слегка вившимися белокурыми волосами, которые тотчас же снова закрывали половину лба, удерживаясь над бровью. Говорил он скоро, как скоро делал тощую папиросу и потом выкуривал ее в два-три приема, пуская в окно большие облака дыма, уносимые мгновенно вверх отсыревшим после проливного дождя воздухом.
Разговоры плелись вяло: вспоминали родных, причем дьякон всякий раз с умилением взглядывал на меня и, качая головою, говорил:
– Ах, боже мой, ах, боже мой, – я все гляжу-гляжу, – какая измена в лице? а как скоро время-то? Подумаешь – господи! Кажется, одна минута! – и т. д. Этому вторила и дьяконица, не менее своего супруга ахавшая и ужасавшаяся быстроте полета времени. Надоедало толковать о родственниках, – принимались благодарить бога за сегодняшний дождь; посадская мещанка и Семен Матвеич особенно плодовито говорили на эту тему: гречи, сена, овсы и проч. не сходили у них с языка; и нужно сказать правду, поэтический Семен Матвеевич умел заставить полюбить эти овсы и гречи человека, ничего не разумеющего в хозяйстве: так хорошо умел он изобразить благодать, посланную дождем, – не указывая на рыночные результаты этой благодати. Иногда разговор отклонялся от этих хозяйственных предметов, – и дьякон с Семеном Матвеевичем затевали Какой-нибудь спор, заставлявший дьякона восклицать:
– Ну да, так, так: по-вашему, мы выходим все дураки…
Вообще Семен Матвеич был героем вечера, и когда, наконец, все присутствующие в комнате замолкли, – он все-таки продолжал говорить, не переставая. На этот раз он с особенным увлечением восхвалял деревенские прелести:
– В деревне-то скучно? – говорил он. – Никогда! Да знаете ли, что из города-то я ушел? Просто убежал… Не могу! Хоть убей! Да как же-с? Как же не убежать-то? И семинарию бросил… убежал… Жить нельзя – мука… Есть нечего, зубри… Зимой – холод, живешь в яме… К чиновнику придешь; поясница болит, рожа зеленая, кряхтит, слова сказать не о чем. Думаю; да что я? из-за чего в самом деле? Да лучше я в деревню конторщиком: по крайности сыт всегда… Какие такие мне надобны дворцы? Ничуть не бывало! Заведу собаку, ружье, что мне? Зимой натоплю избу – знать никого не хочу… Мужиков набьется, – смех. На гармошке примусь – что угодно: пиэсы, «Не белы снеги…» На разные манеры. Думал, думал – драла!.. Там бумаги пишут: «Самовольная отлучка», то, другое… – Болен! – «…По этапу с ссыльнокаторжными, а равно…» – Болен! С тем и отвертелся… Верите ли, как рад-то! Прибежал домой, прямо в траву… Лежал, лежал – обомлел, такая прелесть… Ей-ей… Поле, лес, охота, – где ж скучать-то? Да теперь меня отсюда – ни-и…
Небо темнело; сверчки начинали перекликаться за печкой; ребята дремали. В сенях дьяконская дочь укачивала ребенка, стукая углом люльки в стену; дьякон вспоминал, что завтра чем свет опять с навозом в поход надо. Кто-то из присутствовавших вздыхал. Наставало скучное время будничного, молчаливого и задумчивого вечера.
– А что, Авдотья Ивановна, – отнесся дьякон к жене:– не пора ли чего-нибудь этак… того?..
Дьяконица сказала: «сейчас!» и отправилась за перегородку. Скоро оттуда послышалось громыханье ухватов, печной заслонки, треск лучины, и немного погодя яркий свет красного пламени осветил потолок, стену и окно за перегородкой. Старшая дочь накрывала на столе чистую скатерть, расправляя ее рукою, носила тарелки, ложки и вороха хлеба.
– Ну-с, прошу. покорно, – сказал дьякон, когда все было готово. – Не угодно ли. Уж что есть, – не взыщите, бога ради… Сами-то мы кое-как да кое-как, ну, а вот кто-нибудь случится… Да вам водочки не угодно ли?
– Водочки? Можно! – отвечал за всех Семен Матвеич.
– Право; я это сейчас дойду… Напротив…
Дьякон надел шапку, достал из шкафчика в углу маленькую стеклянную бутылку с перечным стручком на дне, засунул ее в карман и вышел в сени, но тотчас же воротился и, всматриваясь в темноту сеней, спрашивал:
– Кто это? Кто тут?
В сенях кто-то тяжело дышал и попадал палкою в стену, щупая дорогу; что-то грохнулось на пол; слышалось ворчанье:
– Ффу, боже мой!.. Никак это я… а-а! да-да-да…
Дьякон подался в сторону; в комнату просунулась рука с палкой, нога, прикрытая рваной полой, и скоро я узнал странную фигуру одного пешехода, который попался мне на большой дороге. Но стоило нам только пристальнее, хоть с минуту, остановиться на этом отекшем лице гостя, его черных глазах, услыхать еще раз звук его голоса, чтобы и я и все находившиеся в комнате узнали в госте Ивана Никитича Медникова, общего родственника, который пропадал до этого времени целые годы неизвестно где. Стоило узнать Медникова, и никто не мог удержаться, чтобы невольно не вздрогнуть при этом, потому что у всех, знавших его, мелькнуло сразу множество самых неприятных – своим печальным смыслом – воспоминаний. Перепугавшиеся дьякон и дьяконица не знали, что сказать. Дьякон, впрочем, кое-как перемогся и, сложив уста в улыбку, заговорил: «Боже мой, боже мой! какая измена в лице!», – но Иван Никитич остановил его строгим взглядом, брошенным искоса, подошел к образу и с театральным жестом делал огромного размера кресты.
– Какая измена в лице! – бормотал дьякон, усаживая гостя за стол. Гость был крепко хмелен и утомлен. Он почти не говорил, а с ним боялись заговорить, потому что не знали, скажет ли он на это что или прямо начнет драться. Никитич сидел, облокотившись локтями на стол, туго поворачивал голову и неподвижно останавливал глаза на ком-нибудь из находившихся в комнате; отрывисто вздыхал, как вздыхает тяжело пьяный человек, бормотал «мм-дда!», или вдруг запускал руку в карман, выворачивал его, вытаскивал оттуда копейку и вместе с кучей сора, наполнявшей карман, вываливал ее на стол; потом упирался пальцем в эту копейку, нахмуривал брови, думал и вдруг снова брал все это в горсть и тащил к себе, вместе со скатертью. Всё это видели в Никитиче и прежде, во всем этом не могли ничего понять, но боялись дохнуть, потому что знали, что Никитич может вдруг раскроить голову. Немало изумились дьякон и дьяконица, увидев, что Медников уплел целую сковороду яичницы, несмотря на то, что были Петровки и что Медников был лицо духовное. Едва выпил он рюмки две водки, как глаза его почти тотчас же из мутно-пьяных приняли грозное, ненавистное, давно знакомое нам выражение. Дьякон опасался грозы, ибо чувствовал, что она может последовать каждую минуту, и мучился еще тем, что положительно не знал, за что она может последовать, не знал, с какой стороны и в каком роде угождать Никитичу. Поэтому он кашлянул слегка и, осторожно придвигаясь к гостю, заговорил:
– Отдохнули бы, Иван Никитич, чай, с дороги-то…
Иван Никитич устремил на него упорный взгляд, но дьякон, устояв кое-как под напором этого взгляда, потихоньку пропускал ему руку под локоть и продолжал;
– Право! Опять же и время, да и мы-то…
Пока дьякон возился, укладывая спать ворчавшего басом Медникова, вся остальная братия собралась на крылечке – посидеть. Ночь была темная, дул ветер, и по небу неслись стаи дождевых туч; по временам кое-где тучи эти разрывались, пропускали в образовавшуюся прогалину клочок светлого пространства и смыкались снова. В избах и постоялых дворах светились еще огоньки, отбрасывая на стекла окон тени ужинавших извозчиков; у ворот постоялых дворов висели фонари с сальными огарками, оттопыриваясь на коротких гвоздях и освещая снизу пучок трепавшегося по ветру ковыля. Баба-дворничиха зачем-то вышла на крыльцо со свечкой; огонек свечи, казалось, только горел яркой звездочкой во тьме, но не светил далеко. Колеса медленно проезжавшей повозки застучали по бревенчатому мостику, перекинутому через шоссейную канаву, и чуть слышно покатились по земляной дороге мимо постоялых дворов. Спустя немного слышался разговор:
– Самоварчик-с? Можно… можно… Это сколько угодно…
– Нет, самовара не нужно…
– Ну, как вам будет угодно… Как угодно-с… А то, ежели в случае чего самовар потребуется, – так это в одну минуту… Потому у нас в трубу произведено… когда угодно…
– Нет, самовара не нужно…
– Не нужно? Ну, как угодно… Это как вам будет угодно… Конечно… Я к тому говорю, в случае ежели самовар потребуется, например…
– Почем овес?..
– Ах, боже мой! Неужто ж мы… Что мы такое? Господи боже…
– Почем овес-то?
– Да будьте покойны, сделайте милость… Аль мы что-нибудь… Что с других, то и с вас…
– С других-то это ты сколько хочешь… С нас-то сколько?
– Да будет вам… О господи боже мой… Чай, по времени-то сами знаете… Сами тоже деньги какие платим… Пятьдесят копеичек…
– Э-э-э!..
Слышны удары кнута.
– Стой! стой!.. Куда же вы?.. Позвольте…
– Н-но, идол… э-э-э…
Колеса снова стучат по шоссе. Удары кнута повторяются в усиленной степени.
– С пятаком за Дунай поехал, – грубо заключает мужеской голос.
Дьякон вошел на крыльцо и опустился на лавку.
– Ффу, боже мой… Устал. И какой беспокойный этот Медников… даже совершенно утомился… Ей-богу:.. «Послушай да погоди…» – «Спите, говорю. Сделайте ваше такое одолжение…» – «Прости меня…» – «Будьте покойны… Спите… Что такое? в чем?» – «Прости… виноват…» Чудак…
– Совсем смотался, – произнесла дьяконица. Отец дьякон только вздохнул.
Становилось все тише и тише. В кабаке, на продолговатых окнах которого торчали какие-то бутылки с красноватою жидкостию, слышалась песня и стучали чьи-то пьяные ноги.
Почти все сидели молча; дул ветер, и по временам издали доносилось:
– Э…Э…Э…Э…
– Куда же вы? Постойте, – останавливал другой голос. – Сделайте милость!..
– Э…Э…Э…
И опять удары кнута сыпались на лошадей, а колеса стучали по грохотавшим бревнам мостика.
– Не пора ли, господа, на покой? – сказал дьякон.
– И то!.. – сказали все.
– Право. Время… Да и опять с дороги-то вы… отдохнуть…
Все пошли спать. Семен Матвеич остановился в сенях с дьяконскою дочерью и сказал:
– А что, ежели к вам забраться?
– Только посмейте…
– Ей-богу! Что ж за важность? Нешто меня в Сибирь за это?
– Да и не знаю, что я тогда с вами сделаю…
– А вот посмотрим… Любопытно!..
Семен Матвеич говорил это и в то же время отворял дверь в чистую половину, где нам пришлось спать. Утомленный ходьбой целого дня, Семен Матвеич был как-то неразговорчив, да и сон одолевал его, как уставшего ребенка: глаза так и слипались. Лежа, начал он стаскивать сапоги; снял один, принялся другой снимать – что-то туго идет. Семен Матвеич сказал: «О, шут тебя… и так!» – повалился и заснул в одном сапоге.
…Улеглись все, лег и я, но не спалось. Ветер, урывками залетая в окна, не защищенные рамами, свежею дождливою сыростию обдавал мое лицо и шевелил сухими стружками, валявшимися по углам и на полу комнаты. Среди темноты и тишины ночи мне как-то особенно настойчиво лезло в голову все, что только я когда-нибудь имел возможность видеть или слышать о Медникове, и поэтому фигура его все определеннее выступала предо мною.
II. НикитичЕще в ту далекую пору, как мне впервые приходилось видеть Медникова или слышать что-нибудь про него, – имя его способно было уже производить такой же трепет и ужас, какой обуял теперь все семейство литовского дьякона; и тогда едва ли не во всей Т-ской губернии весь духовный кружок знал хоть понаслышке про тьмы тем всяческих безобразий и беззаконий, которые неразрывно следовали за именем Медникова и положительно не допускали мысли насчет какой-нибудь терпимости этой буйной головы в мирной жизни, потому что действительно Медников был осужден всею своей природой никогда не жить и не уживаться с этой жизнью. Тем более нетерпим и ужасен был он среди своих деревенских родственников, которые должны были переносить его беспутства, – почти обязательно, не сходясь с ним при этом ни в чем. Все характерные особенности деревенских родственников, которые отгораживали от себя личность Медникова, имели возможность выказаться вполне благодаря случаю, который можно считать почти общим для всего духовного мира.
Как только количество ребят возрастает настолько, что их нет никакой возможности усадить в телегу и даже в две, отношения деревенских родственников начинают слабеть, дружественные связи стушевываются, потому что за многочисленностью ребят посещение именин и храмовых праздников становится почти невозможным. Ребята, между тем, появляются все в большем и большем количестве, родственники стареются, и настает пора, когда не пишется даже поздравительных писем к рождеству и святой, – родственники как будто исчезают друг для друга с лица земли и забываются. Тишина царит. Вдруг по селам и деревням проносится, как вихрь, весть, что такой-то из числа множества племянников, только с год места успевший определиться в писцы губернского правления, – так препрославился, такие делает дела, что уму непостижимо; управляющий сажает его за один стол с собой, в лавках он забирает все без денег: мука, крупа, свечи, все непокупное, и кроме того, ежели захочет, то может кого угодно отдать под суд и в Сибирь сослать… Это сразу поднимает на ноги приунывших родственников; восстают они поголовно до десятого колена, припоминают разные обиды и поношения, припоминают тысячи нужд, начиная от башмаков и жениха для дочери, от корыта – до разорвавшейся шлеи и кончая жалобой на благочинного и даже далее, до бесконечности… Поднимаются эти десять колен, запрягают, для большей жалости к своей фигуре, самую тощую, самую ободранную лошадь и спешат на разгоревшийся огонь – отогреть свое изболевшее всяческими горестями сердце. Вместе с тайною надеждою на подачку с первых же шагов в городе родственнику приходится испытать еще и трепет по мере приближения к цели: на каждом шагу он убеждается в действительной славе своего племянника, – потому что стоит ему спросить у встречного: где живет такой-то? – как этот встречный тотчас же снимает шапку и тогда только отвечает: там-то. Огромные новые ворота, к которым темным вечером подползли сани деревенского родственника, огромные сараи, конюшни и десятки сажен дров, разместившиеся на дворе, – все это рисовало в голове его какого-то богатого Лазаря, на котором даже ваточный халат почему-то казался пурпуром и виссоном. Сообразно с таким величием дух и тело родственника умалялись до последнего предела, он не иначе решался показать свои глаза в комнату, как узнав предварительно в кухне: «не почивают ли?» Умывался, расчесывал волосы, с женоподобной физиономией шел в горницу, перекрестившись перед дверьми. Прославившийся племянник оказывался разжившимся секретарем, обладавшим всем, чему завидуют живущие впроголодь: жена высокая, тихая, постоянно беременная, дом полная чаша, жизнь ленивая и почти всегда неряшливая, дети смирные, послушные, с большими головами, золотухой и отупевшим взглядом. Увидав все это, деревенский родственник не смеет даже сесть к столу и пьет чай у двери, держа стакан на колене, и в это время убитым голосом передает все деревенские новости, заканчивая их известием о разнесшейся по всем селам и весям славе его, племянника, чиновническое лицо которого деревенский родственник созерцает в эту минуту. Последнее известие приятно действует на племянника, и деревенский родственник получает право неутеснительного житья, чем он и пользуется по-своему, выказывая при этом такие качества, имена которым можно брать только из истории ветхого завета, и притом не позднее появления десяти заповедей: «любостяжание», «лжесвидетельство», страстное желание «чужого осла и вола и всякого скота». Это обнаруживается на другой же день, тотчас же по уходе племянника в должность. Родственник выходит «поболтаться» по двору; при дневном свете все эти сараи, водовозки, закромы овса и проч. и проч. до такой степени раззадоривают его библейские похоти, что родственник, ни минуты не задумываясь, решается вступить в знакомство с кучером; а так как кучер представляется ему тем, что в старинных книгах, сказках и житиях встречал он под названием «царедворец», то и знакомство с этим царедворцем родственник начинает исподтишка, ласково, вкрадчиво, говорит ему «вы», узнает, сколько лишних хомутов, шлей и проч. и проч., и своею обходительностью побеждает мрачный вид кучера, который скоро беспрепятственно вручает ему эти лишние хомуты. А когда племянник возвращается из должности, то бывает несказанно изумлен, наткнувшись в передней на гору собранного утром хлама; гора эта начинает шевелиться, и скоро из средины ее выдвигается умиленная физиономия родственника и произносит:
– Не поскупись!
– Берите, берите! – махая рукой, говорит племянник.
– Отец!! – трагически заключает родственник, ныряя в середину горы, и тотчас же увлекает ее на двор, шаркнув о притолоки. Через минуту он возвращается с черного крыльца и начинает разговор совершенно в другом роде: «Что же теперича главно-то-управляющий у вас, полный генерал или как?» и т. д. Вслед за тем родственник постепенно обрушивается на племянника множеством просьб, вымаливает ненужный платок, одеяло, галстук, стакан и, нагрузив свои дровни, уезжает во-свояси.
Никаких подобного рода любостяжательных качеств не имел Медников, даже самое появление его в городе у родственника не носило такого униженного характера. В городе он являлся не по каким-нибудь своим делам, – ибо таких не было, – а единственно для «толчения воды», каковое глубокомысленное занятие предоставлялось ему не в пример чаще других. Поэтому, прежде нежели Медников появлялся в городе, – ему предшествовали разные предзнаменования, как о приближении сильной бури свидетельствует ползучий ветер, поднимающий песок и пыль. Пред появлением его в дом чиновника являлась какая-то консисторская особа: имея сообщить нечто нужное, она ломалась и хранила до тех пор тайну, пока племянник не упитывал и не упаивал ее всем, чем мог; тогда только особа эта извещала плохо вращавшимся языком, что Медников опять напрокудил: начал расслуживать молебны: ни господи, ни помилуй, ни аминь и т. д., или нарядил в какие-то неприличные костюмы поповских поросят, желая этим насолить отцу Василию, или что-нибудь еще в подобном крайне безобразном и кощунственном духе. Следовали просьбы притушить дело, но скоро получались новые доносы о буйствах, и Медников неизбежно должен появиться в городе. С этого дня начинались самые тревожные ожидания. Через несколько времени начинали носиться слухи, что он уже здесь, что его видели в том или другом кабаке, и вот наконец, в ту самую минуту, когда и не ждут его, когда уже немного поуспокоились, в дверях появляется его ужасная фигура, с зачесанными назад поседевшими волосами, открывающими огромный лоб и большие черные, ужасные глаза. Он пьян, шатается и безо всяких церемоний приказывает заплатить извозчику, попирает всякие семейные приличия, растягиваясь по полу или с грязными сапогами забираясь в залу и т. д., что все было причисляемо к числу ужасов, которые изобиловали в Медникове. В доме родственника тихая жизнь замирала, наставал какой-то лютый холод и лютое молчание, всеми мерами напрягавшее голову, как бы только отделаться от этого гостя. А гость и сам напирал только на это. Все отношения его к племяннику ограничивались получением трех целковых, пропиванием их и опять получением. Если же почему-нибудь выдача этих целковых замедлялась, то Медников принимал усиленные меры, стараясь действовать так, чтобы отвращение к нему, к его особе, заставило поскорее выпроводить его. Ни водовозки, ни хомуты не составляли его забот, благодаря той бездомовности, которая, между прочим, была его главною особенностью: во всю жизнь ему не довелось съютить своего гнезда, своего хозяйства. На храмовые деревенские праздники он приезжал на чужой лошади с наемным работником; убогая одежда его, убогая повозка – одно это ставило его особняком от других пировавших собратий. Но кроме этого, картину бездомовного житья, не имевшего ни малейших признаков внутреннего тепла, особенно ярко дорисовывала убитая жена Медникова. Это было маленькое оборванное существо, с постоянными слезами на глазах и с багровыми хмельными пятнами на одряблевших щеках. Сначала тихая и унылая, она старалась сохранить скромный и озабоченный вид деревенской хозяйки, со сложенными на груди руками, сжимавшими носовой платок, пробовала она сидеть между своими деревенскими родственницами – попадьями и дьяконицами, охала вместе с ними над разными обуревающими их печалями и потом исчезала куда-нибудь в чулан, являясь оттуда только под вечер, и то вследствие особенно сильного и бурливого хмеля. В это время она даже и насильно не могла походить на своих домовитых и чинных родственниц, потому что хмель прогонял из нее и наружную скромность и всякое, еще недавно признаваемое почти законным, уважение окружающих дел и слов: хриплым голосом и нетвердым языком, со слезами и со злобою, которую и представить себе трудно среди жизни, основанной на нянченье ребят и проч., начинала она проклинать свою каторжную жизнь. Громко, вслух договаривала она, опьяневшая, концы каких-то накипевших в ее душе жалоб и убивалась до тех пор, пока разгулявшиеся и начинавшие уже затягивать «заиньку» родственники не находили нужным уложить ее спать. Долго слышались из-за запертых дверей чулана ее крики и глухие удары кулаком в стены, – но когда прекращались они, никто не имел возможности заметить, потому что все эти «никто», проснувшись поутру с хмельными головами, – уже встречали жену Медникова с тем же скромным лицом, с тем же насильственным вниманием ко всем, как и вчера утром; только еще более изможденное, еще более унылое лицо и засохший над бровью шрам – говорили им о мучительной ночи, которую провела она.
Выражавшаяся в таких безэффектных, но слишком правдивых и поэтому невольно отталкивавших картинах, – погибель, кажется, не встречала себе избавителя, потому что с годами чаще и чаще начали доноситься слухи о безобразиях Медникова. В безобразиях этих были все атрибуты, обставляющие погибель русского человека: и кровь, и водка, и разбитая голова, и разбитый полштоф, и т. д. Все глубже падал он, и беспутная жизнь становилась для него все более неизбежною. Не донимали его разные отдачи под начало, не донимала даже водка, которая только калечила его, но не в силах была доконать наповал. Наконец пронеслись слухи, что у него умерла жена: рассказывали, что Медников убил ее; начальство запретило ему служить. Медников шлялся по монастырям, из которых почти тотчас же выгоняли его, и потом несколько лет совершенно пропал из виду у всех: изредка встречали его в Засеке, на большой дороге, в кабаке, и притом в самом отвратительном виде. Ясное дело – погиб человек.
Но кто видал Медникова в его нормальном, то есть пьяном, буйном и дико-разрушительном состоянии, тот, наверное, изумлялся, увидав его хоть в одну трезвую минуту его жизни; в эти минуты решительно невозможно было узнать Медникова: все соединенные с его именем качества, вызывавшие потребность куда-нибудь спрятаться от одного появления его, – исчезали совершенно. Медников в эти минуты настолько сдавался во мнении своих врагов, что при всей мелкости своей враги эти, вместо какого-нибудь топорного отмщения, чувствовали к нему такую же снисходительную жалость, какая чувствуется к виноватому ребенку. В эти минуты он действительно был ребенком, страшно конфузливым, робеющим перед серьезными лицами окружающих его людей, робеющим потому, что в этой серьезности людской видится ему страшное превосходство, – все равно, если с этой серьезностью кухарка чистит картошку или чиновница сидит, ничего не думая, у окна; в эти минуты если и подозревается людская пустота, то убедившийся в своих недугах человек всеми мерами постарается оттолкнуть это подозрение и растолкует все в свою невыгоду. В трезвые минуты физиономия Медникова принимала какой-то, худо скрываемый, виноватый вид; всегда нахмуренные брови выпрямлялись и как-то беспутно пятились кверху; постоянно гневное выражение глаз заменялось совершенным смущением, не позволявшим смотреть прямо в лицо человеку, перед которым считаешь себя виноватым; к этим обессмысливающим лицо признакам в это время присоединялась еще какая-то улыбка, которая то появлялась вдруг и не сходила даже в то время, когда Медников просто брал со стола чай, сахар, каковые события ие заключали в себе ничего юмористического, то, напротив, мгновенно исчезала, заменяясь какою-то искусственною серьезностью. Побежденный окружающей обстановкой, Медников рад-радехонек был, если замечал, что хоть что-нибудь и его привязывает к числу этих серьезных людей: он делался предупредительным, заискивающим. В такие минуты, кто хотел, мог вертеть им как угодно. Он с охотою принимался переписывать гимназисту записки «о вычитании» и был непритворно рад, когда пискливый первоклассник находил, что он верно написал; если этот гимназист заставлял его читать вслух Езоповы басни, то с неменьшим рвением принимался он и за это дело, с отчетливостию выговаривая каждое слово басни, повествующей о том, как лисица, встретив барсука, объявила ему, что дела идут так-то и так. Это совершенно детское смущение перед чуждой ему жизнью, перед чуждыми ему добродетелями всегда бывало большою помехою в его жизни, эпизоды из которой он в трезвые минуты иногда рассказывал.
Деревенские деды его рисовались в детском воображении такими же страшными гигантами и силачами, образы которых с особенною любовью очерчивают старушечьи сказки. Что-то невероятно дикое было в этих мужиках, всю жизнь возившихся с сохою и бороной и не имевших поэтому никакого случая выказать своих природных сил, кроме полной возможности ошарашить народ каким-нибудь невероятным подвигом своих невероятных мускулов. Из такой породы выходил и Медников. Но голова его, до тонкостей успевшая уже постигнуть кратчайшие пути к разрушению галочьих гнезд на колокольне, имела возможность не остановиться на том скудном материале для соображения, который дает обстановка сельской жизни: его отдали в училище. Новое место и новое дело заняло его.
– Сначала, – рассказывал Медников, – я прилежно и хорошо учился… Попался мне товарищ Лукин. Заманил он меня в лодыжки играть. Что-то понравились мне лодыжки эти, – только совсем бросил я науки… Отдали Лукина потом в солдаты. Остался один, думал-думал – нету мне товарища! Оробел; принялся опять учиться. Повинился. Перевели меня в реторику, – замечаю я в книге одной слова: «Самая высокая премудрость – суета». По этим словам я взял и исключился… Хотели меня отпороть – не исключайся. Услыхал об этом, перестал в класс ходить, чтоб не отпороли. Прихожу домой пешком. Зачем? Объявляю: так и так – исключился… Полились слезы. Самому мне стало горько. Повалился отцу в ноги, – в саду было дело, плачу и говорю: «Батюшка! Помилосердуй меня! Я человек… Я заленился… Прости меня. Ежели хочешь – то накажи». Простил отец. «Что же я с тобой буду делать! Куда я тебя дену?» – «Батюшка, Никита Петрович! Отвезите меня ко владыке. Куда я гожусь: в солдаты – в солдаты, куда хотите, туда и киньте…»
Много жизни было в нем. В эту пору попалась ему молодая дворовая девушка, побежденная сразу одним взглядом его огненных глаз. Пошло дело по-своему.
– …Потащила в сад, – рассказывал Никитич. – Деревья большущие – ночь, духота, и туча висит… Шли, шли – так и кидается! так и кидается!.. «Отвяжись!» – «Голубчик! Милый мой!» – «Отстань. Поди прочь!.. Уйду…» Главная досада – сама; терпеть не могу, – говорю: «Ни за что на свете!..» – «Утоплюсь!» – «Топись, чорт с тобой…» А тут сажелка… Гляжу, – что ж бы ты думал? по эстих пор в воду!.. Э-э, думаю, пожалуй чего доброго! Бросился – вытащил. Усадил на лавку, говорю; «Что ты, ошалела?» Смотрит на меня, как сумасшедшая… Ей-богу, даже я испугался; что с ней такое? Между, прочим не сдаюсь… «Изобью!» Молчу. «Зубами разорву». Молчу. Принялась кусать меня, за волосы, бить, и вдруг заплакала… Да как ведь залилась-то! Белый свет зачинался, заря… «Отведи меня, говорит, Никитич, домой…» Еле движется… Жалко стало…
«Дня через два встречаю: глаза в землю, как убитая… Подошел, взял за руку, – повел… Думаю: вот теперь моя! Хотел тоже, как добрые люди, честь-честью, самовар раздобыл, думаю: угощу… Во флигеле каморка была, забрались туда. Оконце махонькое, заварил я этот самовар, как попер оттуда, братцы мои, дым. Ни дохнуть! Слышу, на дворе кто-то орет: что за дым? кто такой? Думаю: провались ты и с самоваром совсем, толкнул его ногой под лавку… Пойдем! И пошли мы в рощу…»
И любил Никитич хорошую девушку сильно, только все-таки по-своему любил…








