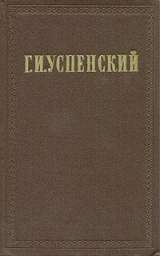
Текст книги "Том 1. Нравы Растеряевой улицы"
Автор книги: Глеб Успенский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 38 страниц)
XV. Прогулка
В жаркое послеобеденное время по глухому переулку, в тени у заборов, шли два обывателя. Первый был известный читателю Прохор Порфирыч, другой самоварщик Кузька, воспитанник Пелагеи Петровны Балкановой. Это был здоровый малый лет семнадцати, с широким разжиревшим лицом, вздернутым носом и маленькими глазами, в которых проглядывало выражение какого-то непонятного негодования.
Оба приятеля были в «лучших» костюмах: Прохор Порфирыч, известный в нашей улице за изящнейшего джентльмена, в настоящую минуту совершенно оправдывал этот титул; все, что только отыскал он в своем сундуке аглицкого и французского, все было надето на нем. Незастегнутый сюртук, распахиваемый ветром, открывал пятившуюся вперед манишку и франтовскую жилетку, застегнутую на одну пуговицу. Новый шелковый галстук, из-за которого чуть-чуть показывались кончики воротников, скрипел и издавал какой-то металлический треск, далеко слышавшийся кругом во время безмолвного шествия. Нельзя не сказать, что такой наряд доставлял моему герою истинное удовольствие; держа обе руки назади, он гордо выступал вперед, холодным взглядом окидывая фигуру Кузьки, который представлял совершенный контраст с его джентльменской фигурой. Кузька был одет тоже во все новое; но его наряд в сравнении с нарядом Прохора Порфирыча не стоил ни полушки. Несмотря на нестерпимую жару, Кузька нарядился во все теплое: на голове у него был драповый новый картуз на вате; на плечах, кроме сюртука, драповая же ваточная чуйка с бархатным высоким воротником; шея была подвязана новым платком, но подвязана так, что Кузька не мог свободно повернуть голову и вздохнуть: кровь приливала к голове и стучала в мокрых от поту висках. Отправляясь на богомолье в село 3 – во, где, по расчетам Кузьки, должна собраться большая публика, он счел за нужное нарядиться во все лучшее, ибо в этом считал необходимое условие всякого праздника. Ко всем этим неудобствам его костюма нужно прибавить узкие выростковые сапоги, надетые на шерстяные чулки, и, наконец, глубокие калоши. Кузька прихрамывал и отставал.
– Ты ежели хочешь идти, так иди! – строго сказал ему Прохор Порфирыч, – мне с тобой возиться некогда. Этак мы к ночи не доберемся.
– Не сердись! – уныло сказал Кузька.
Порфирыч посмотрел на его раскрасневшуюся физиономию, по которой градом лился пот, и проговорил:
– Ишь рожу-то нажевал!..
– Да будет тебе, ей-богу! – беззащитным голосом протянул Кузька и обтер лицо колючим драповым рукавом.
– Ну иди, иди… Брошу!
Кузька, по-видимому, очень дорожил компанией спутника, потому что утроил шаги и скоро поравнялся с ним.
– И кто это только праздники выдумал? – бормотал он шепотом, чувствуя во всем теле нестерпимый жар.
Приятели молча продолжали шествие по пустынным переулкам. Жаркий ветер по временам дул в их запотелые лица и чуть-чуть шевелил запыленными листьями корявых яблонь, ветки которых перевешивались кое-где через заборы. От жары народ попрятался в дома; везде были закрыты ставни; спали люди, спали собаки. А солнце жгло и палило не уставая…
Исчезли последние дворишки самого отдаленного переулка, и путники вышли в поле. Пыльный и узенький проселок извивался по небольшой возвышенности, отлого спускавшейся к болотистому дну неглубокой ложбины. Здесь, через трясину, перекинут маленький мост без перил, запрудивший собою зеленую и гнилую болотную воду. На противоположном возвышении холма красуется новый кабак; около крыльца воткнут в землю длинный шест, к концу которого привязана пустая бутылка.
Народу идет «видимо-невидимо», преимущественно бабы, девушки и молодые мужчины всех классов и званий. Прохор Порфирыч идет молча, будучи обуреваем своими тайными размышлениями.
Размышления его имели довольно глубокомысленное направление. Как уже известно, во всей улице нашей он был единственный человек, умевший обходиться без кабака, без разбитого глаза и всегда имевший изящный костюм. Благосостояние Прохора Порфирыча было до сих пор прочно до изумительности; но последние трудные времена до такой степени оказались трудными, что поколебали даже и его благосостояние. Даже он вздохнул не один раз. Самое ревностное желание рабочего народа было желание войны. «Хоть бы подрались гденибудь, – толковали рабочие, – все больше было бы сбыту на оружейный товар». Но войны как назло нигде не случалось.
Прохор Порфирыч в эту трудную пору до того унизил свой авторитет, что решился даже обратиться за советом и сведениями к Пелагее Петровне. Эта дама не дала ему, впрочем, положительного ответа ни на один вопрос, а насчет войны отозвалась, что «не слыхать».
– Точно что, – говорила она, – где-то заседают об этом деле, насчет того – где и как; но будут ли воевать или нет, наверно сказать нельзя.
Стали поэтому гнездиться в голову Прохора Порфирыча мысли о женитьбе и, следовательно, отчасти и о любви. Но эту последнюю вещь он тотчас же подвергнул собственной критике и убедился в полной ее невыгоде, тем более что он в совершенстве знал женский пол нашей улицы. Понадеяться на этот пол было весьма опасно; в доказательство этого он мог привести множество примеров. Не дальше как вчера он пробирался ночью, держа сапоги в руках, к своей соседке, у которой муж на минутку отбыл в село Селезнево для излечения от запоя. Недели две тому назад встретил он в городском саду одну особу женского пола, которая несла из дому ужин брату-целовальнику, и имел с ней нечто секретное, после чего еще раз убедился в правоте своего взгляда на женский пол. Положительные желания его насчет этого предмета состояли в том, чтобы взять жену с состоянием, не обращая внимания на физиономию и возраст; при этом область любви он намерен был уступить супруге в полное распоряжение, а сам предполагал заведовать исключительно капиталом, мечтая об осуществлении одного наивыгоднейшего предприятия. По мнению Порфирыча, самое выгодное занятие – кабак. В качестве умного человека, он устроит кабак около какой-нибудь большой фабрики, будет давать рабочим в долг, под условием получать деньги из рук хозяина, который согласится на устройство кабака около фабрики, потому что Порфирыч предложит ему «профит», то есть вместо, например, пяти рублей будет брать только четыре, а за рабочим запишется все-таки пять. В воображении Прохора Порфирыча кабак этот рисовался какою-то разверстою пастью, которая не переставая будет глотать черные фигуры мастеровых. Картина и план были весьма эффектны и выгодны, не находилось только невесты с капиталом. Давно уже пустился он за поисками того и другого, но удачи особенной не видал.
Размышления по поводу этих обстоятельств и этих надежд одолевали его голову в то время, как он шел на богомолье в 3-во. Кузька молча следовал за ним, стараясь не отставать.
– У тебя много ль денег-то? – спрашивает его Порфирыч, не поворачивая головы.
– Да, пожалуй, целковых два наберу. Ты, Порфирыч, бери их… Бери все.
– Вона!.. Я на всякий случай… Кабы с купца получил…
– Чего там, с купца! Бери все… Куда мне их? Я и не приберу… Только ты меня не кидай…
– Куда же я тебя кину?
– То-то! Уж сделай милость, голубчик… Ежели бросишь, что я один-то?.. Легче же, во сто раз, воротиться…
– Ну да ладно, не брошу! «Экая осина какая!» – подумал Порфирыч и замолчал снова.
А Кузька очень радовался, что будет иметь верного защитника и руководителя.
Пелагея Петровна, приходившаяся Кузьке теткой, взяла его на воспитание, когда ему было три года. Не любя мужа и не имея детей, она отдала весь запас женской любви воспитанию своего приемыша. Главные старания ее состояли в том, чтобы освободить Кузьку от тех несчастий и пороков, которыми видимо страдала наша улица. Поэтому Кузька с малых лет постоянно находился при ней, получая ласки в виде непрерывной еды. Общество мальчишек было для него чужим; он один катался на ледянке около ворот, не смея и боясь присоединиться к компании, и целые дни проводил в обществе старух, привыкнув к существованию вне общих растеряевских интересов. Кузька был усыплен и закормлен до такой степени, что никакая новость, никакой любопытный факт, который ему приходилось видеть в первый раз в жизни, не приковывали его внимания.
Нужно было долго долбить одинаково сильными впечатлениями в окаменелую голову его, чтобы пробрать и заставить его заинтересоваться и жить. Но когда наконец он раззадоривался, – удержать его было трудно. На самоварной фабрике, куда Пелагея Петровна поместила его, в первый год затылок его был всеобщею наковальнею, на которой пробовалась сила хозяйских и товарищеских кулаков. На второй год он понял, в чем дело, и, развиваясь далее, норовил было уже отведать прелестей кабака; но Пелагея Петровна вовремя спохватилась, и тут началась реставрировка его развращавшейся души при помощи розог. Каждую субботу Пелагея Петровна припасала для своего приемыша по меньшей мере два пучка. Такая классическая система сделала то, что Кузька, будучи уже взрослым малым, был глупее всякого растеряевского ребенка. Огражденный стараниями Пелагеи Петровны от развращенных нравов, Кузька, по планам этой дамы, имел уже все шансы на счастливое и безмятежное житие. Страх, который чувствовал Кузька к своей пестунье, заставлял его всеми мерами следовать ее теории насчет собственного благосостояния и выискивать в растеряевских нравах такие проблески жизни, которые не соприкасаются с кабаком, не носят в недрах своих увечья, разбитого глаза, сибирки и проч., – так как, в самом деле, «не всё же кабак»…
Но каково же было изумление Кузьки (выражавшееся, впрочем, самой неопределенной тоской во всем теле), когда продолжительный опыт доказал, что, помимо кабака, помимо проклятий собственной жизни, – в растеряевских нравах нет ничего более существенного. Чем делиться растеряевцу с своей семьей, которая, в большинстве случаев, тоже дает нравоучение в форме беспрерывных попреков? В этой ли голодной и холодной семье найти хоть какую-нибудь дозу удовольствия, лихорадочно необходимого после долгих трудов? Но главное, под силу ли трезвому человеку перейти то море нужд, которое тянется и тянулось без конца?.. Насущный и ежеминутный вопрос растеряевской жизни – нужда. Под ее влиянием наши удовольствия, радости, словом – вся физиономия жизни. Кузька благодаря попечениям Балканихи не знал нужды и, следовательно, не мог жить в Растеряевой улице. Ему незачем было жить здесь. Посмотрите, с какими усилиями добивался он этой жизни «без кабака» и чем вознаграждались эти усилия.
Вот стоит он за воротами в жаркий летний полдень. По причине праздника все пообедали рано, и поэтому на улице ни души. Кузька стоит на солнечном припеке босиком и со злобою скребет затылок, стараясь хоть чем-нибудь развлечься.
Ветер треплет его нанковые шаровары и красную распоясанную рубашку. Все окружающее знакомо ему до мелочей. Но вот под забором спит чья-то собака. Выражение лица Кузьки делается определеннее; он осторожно достает кусок кирпича и, отставив ногу, развертывается камнем в собаку… Пыль столбом взвилась у забора, и собака с визгом и лаем понеслась прочь, поджимая раненую ногу…
Визг собаки доставил Кузьке некоторое удовольствие; он слегка скосил губы на сторону и вернул головой вбок. И опять скука! Кузька замечает наконец, что на углу, в тени, мальчишки играют в бабки. Он вдруг почему-то принимает самую зверскую физиономию, торопливыми шагами идет туда и сбивает ногою все бабки прочь.
– Ну чего ты? – пищат мальчишки.
– Прочь! – кричит Кузька, разгоняя толпу затрещинами.
– Что они – трогают тебя? – заступается баба.
– А другого места разве нет им? – возражает Кузька.
– Ах ты, разбойник этакой! Постой, я вот Пелагее Петровне скажу, – кричит баба вслед Кузьке.
– А, по мне, говори! Что она мне сделает?
– Вот увидишь что!
Кузька сконфужен. Снова попав в область самой мертвящей скуки, он не решается больше искать развлечений на улице и идет в сарай. Здесь Никита чистит лошадь. Кузька медленно оглядывает давным-давно знакомый ему сарай.
– Тебе чего нужно? – строго спрашивает его Никита.
– А тебе что?
– Ты чего тут не видал?
– Да вот хочу. Что, тебе жалко?
– Ах, ты, дубина! – укоризненно говорит Никита. – Пелагея-то Петровна мало тебя бьет!.. Тебя, по совести-то, надо дубиной, да получше…
– Чего ты ругаешься-то? Что за барин уродился?
– Подлец! Именно подлец. Ну, чего ты здесь?
– Хочу!
– Дубина!
– Ну-ну, тронь!..
– Глупцы! – раздавался голос Пелагеи Петровны – и порядок восстановляется. Разозленный Кузька заваливался спать где-нибудь на чердаке за трубой и с горя спал как убитый. Просыпался он ранехонько утром и тотчас, с голоду, принимался путешествовать по чуланам и кладовым, отыскивая что-нибудь съестное. Спросонок он действовал во время похищений очень неаккуратно: ронял горшки, опрокидывал банки. Разбуженная стуком, Пелагея Петровна являлась на место преступления, и Кузька получал достойное.
Помимо полной невозможности отыскать себе хоть какоенибудь развлечение, Кузька был еще несчастлив в том отношении, что, в качестве семнадцатилетнего ребенка, становился в тупик перед самыми обыкновенными человеческими отношениями; весь мир божий казался ему множеством совершенно отдельных предметов, которые друг с другом не имеют никакой связи. Если же порой у него и мелькала иногда мысль, объясняющая то или другое явление, то Кузьке делалось как-то неловко, не по себе. Случалось, увидит он пригожую девушку и почувствует при этом нечто особенное; он почти понимает, в чем заключается это нечто; но это кажется ему уже чересчур странным, и Кузька без разговоров выкидывает какую-нибудь безобразную штуку… Девушка, например, улыбается и посылает ему поцелуй, а Кузька показывает ей кулак, присовокупляя:
«На-ко!» В заключение рассердится сам же на себя и со зла хватит камнем в собаку…
Между тем количество богомольцев, по мере приближения к 3 – ву, увеличивалось. Девушки шли толпами, звонко смеялись, расходились по густой и высокой ржи, плели венки из полевых цветов. Встретилась на пути жиденькая рощица, и богомольцы рассыпались между деревьями. Молодые люди, на которых девушки смотрели с выразительными улыбками, присоединялись к ним и шли вместе. Некоторые из молодых людей, понимая по-своему смысл этих выразительных улыбок, припасли по две и по три бутылки наливки дамской, схоронив ее в глубине своих карманов.
Слышались разговоры:
– Ну-ко, кто кого? – спрашивал один юноша у другого, показывая из-под полы горлышко бутылки… – Не хочешь ли потянуться?
Приятели вламываются в рожь и приседают. Скоро опорожненная бутылка, словно ракета, взвивается вверх.
– Вот они, богомольцы-то! – подтрунивают бабы. – Вот так богомольцы!
По пыльной дороге то и дело проносились купеческие тележки с крепкими и статными лошадьми; изредка тащились извозчичьи дрожки с седоком-чиновником, приготовлявшимся испить до дна чашу наслаждений, о которой означенный чиновник так много слышал от приятелей. Вся громадная толпа путников подвигалась весело вперед. Солнце начинало садиться; тени прохожих вытягивались по земле до громадных размеров. Вот наконец и село. Богомольцы спускаются с высокого холма, огибающего с двух сторон низменный луг, переходят небольшой, трепещущий от ветхости мост и вступают на средину сельской улицы. Направо тянется длинная линия просторных изб с сараями позади; налево, на возвышении холма, красуется помещичий дом и церковь, к которой примыкают дома причта. Обе эти стороны разделены небольшим ручьем с болотистыми берегами.
Вся сельская улица против домов запружена народом. На земле кипят самовары и идет веселое чаепитие целыми компаниями. Кавалеры всяких сортов лавируют мимо женщин, занявшихся чаем, выказывая необыкновенно грациозные телодвижения. По мере того как надвигались сумерки и тетки, конвоировавшие молодых девиц, толпами отправлялись в церковь, – тайные цели кавалеров делались яснее. Девицы, схватившись под руки, весело разгуливали по сельской улице; кавалеры тоже целыми взводами двигались им навстречу, обжигая девиц многозначительными взглядами, и наконец решались вступить в разговор.
– Отчего же вы не в церкви?
– А вам какое дело?
– Как какое? Помилуйте!
– А вы лучше отстаньте…
– Н-нет-с…
Начинается разговор, сплошь состоящий из какой-то чепухи; тем не менее в конце разговора кавалер считает себя вправе задать наконец вопрос шепотом и на ушко.
– Вы где ночуете? – шепчет он.
– У Селиверста, – отвечает девица.
– В сарае?
– Да!
– Так, следовательно, – говорит он вслух, – вы, напротив, того мнения, что любовь…
– Отвяжитесь, ради бога!..
Люди опытные знают наизусть способ ведения сердечных дел, а люди неопытные, напротив, – в крайнем стеснении.
Прохор Порфирыч и Кузька тоже были в толпе гуляющих.
Кузька решительно не понимал, из какого источника льются эти нескончаемые разговоры кавалеров и дам? Где отыскать предметы для этих разговоров? Он был крайне сконфужен и плелся вслед за Прохор Порфирычем как осужденный на смерть, тогда как последний видимо успевал.
Внимание его было привлечено одной женщиной, очень недурной и миловидной, которая была в З-ве без подруг и одна сидела за самоваром. Она постоянно конфузилась и бросала на мужчин испуганные взгляды.
Прохор Порфирыч заметил это и погнал от себя Кузьку.
– Отойди! – сказал он, – мне нужно!..
– Да куда ж я? – заныл было тот…
– Отойди прочь, говорю… Отстань!..
Кузька с горечью отошел от него и выбрался на самый конец села, где не было ни души. Здесь он расположился на траве и вздохнул свободнее. Прохор Порфирыч тотчас пустил в ход всю свою опытность «по женской части». Девица конфузилась, потом украдкой взглянула на него. Прохор Порфирыч ответил ей легонькой улыбкой; девице, как кажется, очень понравилось это; но мой герой, «зная женский характер», побаловал незнакомку улыбкой всего только один раз и потом напустил на себя необычайную серьезность. Такой прием Прохор Порфирыч считал очень удобным в применении к женскому полу, и действительно девушка стала интересоваться им. Несмотря на свою видимую холодность, Прохор Порфирыч старательно следил за девушкой, всеми силами стараясь разрешить – кто она такая. На замужнюю не похожа, – таких молодых жен мужья не отпускают от себя в 3 – во. Не похожа также и на девушку, потому что около нее нет ни одной пожилой присматривающей родственницы. Считать ее «из этаких» он тоже не мог, потому что в ней не было ни нахальства, ни бойкости. Прохор Порфирыч недоумевал: не вдова ли? думал он; но и на вдову тоже не было похоже: непременно уж был бы около нее кто-нибудь старший. Не разрешив этих вопросов, Прохор Порфирыч решился во что бы то ни стало попасть на ночлег в тот именно сарай, где поместится и красавица.
Часов в девять вечера улица начала понемногу пустеть.
Старухи возвращались от всенощной и укладывались спать в избах; самовары исчезли, изредка попадались кое-где фигуры пьяных мужчин. Сараи, помещавшиеся позади изб, были полны молодежью. Прохор Порфирыч стоял на улице и шепотом разговаривал с хозяином одного двора.
– Будьте покойны! – говорил хозяин.
– Здесь ли?
– Здесь, уж я вам говорю. Пожалуйте!
Порфирыч и хозяин вышли задними воротами к конопляникам и направились к сараю.
– Уж я вас, – говорил хозяин дорогою, – в самое лучшее место положу.
Они вошли в темный сарай; сквозь плетеные стены его едва-едва прокрадывался лунный свет. В непроницаемой темноте со всех сторон слышался шепот, подавляемый смех и изредка многозначительный кашель.
– Где ж бы тут лечь? – спросил Порфирыч у хозяина.
– А вот-с, я сейчас, – сказал тот и зажег спичку. Яркий свет открыл довольно живописную картину: во всем сарае на разбросанном сене лежали вповалку мужчины и женщины.
Женщины при свете тотчас «загомозились» и принялись прятать голые ноги под белые простыни, закрываясь ими до самых глаз.
– Да вот место! – сказал хозяин.
Прохор Порфирыч взглянул в угол, предназначавшийся для него, и увидел знакомую девушку, так интересовавшую его.
Она чуть-чуть выглянула из-под «бурнуса» и тотчас снова завернулась с головой.
Спичка погасла. Прохор Порфирыч ползком пробрался между лежавшим народом и достиг своего ложа. Девушка отодвинулась в угол.
– Ничего-с! сделайте милость, не беспокойтесь… – проговорил вежливо герой.
Во всем сарае было какое-то бессонное молчание.
– Куда ты? куда тебя дьявол несет?
– Мне сенца!
– Я тебе задам сенца!
– Что вы орете? Вот удивление!
Снова наставало молчание, и потом снова разговор.
– Подальше, подальше, батюшка! У меня свой муж есть.
– Вам беспокойно? – спросил Порфирыч соседку.
– Нет, ничего-с!
– А то не угодно ли вот сюда?
– Нет, нет, – шептала та.
– Да что вы опасаетесь? будьте покойны. Я не какой-нибудь…
– Уж вы этого не говорите. А я вам прямо скажу, я не на это сюда пришла.
– Да помилуйте! Даже на уме не было! Я вот перед богом скажу вам, всей бы душой познакомиться желал.
– Это зачем?
– Как-с зачем?.. Позвольте ваше имя-отчество?
– Раиса Карповна.
– Так, Раиса Карповна, что же, вы тятеньку имеете?
– Нет, ни тятеньки, ни маменьки нету, померли.
– Что же, стало быть, вы у родственников изволите жить?
– Н-нет… Я не здешняя…
– Приезжие?
– Епифанская… из Епифани…
– Да-да-да… И что же, теперича вы здесь при месте?
Девица промолчала.
– Или в услужении?
– Н-нет… Я… Да вы заругаетесь!
– Ах! Что это вы? Как же я смею? Неужели ж этакое свинство позволю?
– Я… Господина капитана Бурцева знаете?
– Это которые полком тут стоят?
– Они.
– Ну-с?
– Ну, я при них…
– То есть как же это: по хозяйству?..
– Нет… Я, собственно… Как они проезжали, и видят – я сирота… «Поедем», – говорят… Ну я, конечно…
– Да-да-да… Что ж? дело доброе.
– Вот вы надсмехаетесь!..
– Чем же-с?.. Даже ни-ни.
«Э-э-э! – подумал Порфирыч, – вот она, птица-то!» – и замолчал.
Тишина в сарае продолжала быть бессонной, и это очень растрогало Порфирыча; он вздохнул и обратился к соседке с каким-то вопросом.
– Ах, оставьте!.. Я и так уж…
– Что такое?..
– Да самая горькая…
– То есть из-за чего же?
– Голубчик! Лежите смирно! Я вас прошу!
– Помилуйте, из-за чего же горькие? Будьте так добры…
Обозначьте!
– Они уезжают: капитан-то…
– Н-ну-с. Что же? И господь с ними…
– Хотели меня замуж выдать, да кто меня возьмет?
– Как кто? Конечно, ежели будет от них помощь…
– Они дают деньгами…
– Много ли?
– Полторы тысячи…
У Порфирыча захватило дух.
– Ка-как?.. Пол-лтар-ры… Вы изволите говорить – полторы?
– Да… Перед венцом деньги.
– Раиса Карповна, – проговорил Порфирыч… – Верно ли это?
– Это верно.
– Я приду-с… К господину капитану… Приду-с!
– Голубчик! Вы надсмехаетесь?
– Провались я на сем месте… Завтра же приду!..
– Ах, миленький… Обманываете вы… Я какая… Вы не захотите…
– Да я скорей издохну… Деньги перед венцом?
– Да, да… Уж и как же бы хорошо… Не обманете?
– Ах!.. Раиса Карповна! Да что ж я после этого?..
– Голубчик!..
Между тем Кузька, улегшийся на траве за селом, был в большом унынии: ничто не могло расшевелить его настолько, чтобы заставить разделить общие удовольствия; его одолевала полная тоска. Долго лежал он молча. Взошел месяц, над болотом стал туман, заквакали лягушки, и на селе не слышалось уже ни единого человеческого звука. Наконец тошно стало ему здесь. Он решился идти в село на ночлег.
На сельской улице не было никого; только на одном из крылец сидел хмельной дворник и разговаривал с бабой, стоявшей на улице,
– Арина! – говорил дворник.
– Что, голубчик?
– Уйди, говорю, отсюда.
– Илья Митрич! За что ж ты меня разлюбил? Господи!
Сирота я горемычная…
– Арина! говорю: уйди! Слышь?..
– Илья Митрич!
– Я говорю, уйд-ди!
Кузька вошел в первые отворенные сени, спросил у хозяина позволения ночевать и лег с глубоким вздохом, надеясь, что, может быть, завтра будет легче на душе.
Но надежды его не сбылись и завтра. Во-первых, он снова был без руководителя, так как Прохор Порфирыч совершенно увлекся ночной соседкой, чему в особенности способствовали полторы тысячи «перед венцом». Второе несчастие Кузьки состояло в том, что утро другого дня не имело даже и того напряженного веселья, каким обладал вчерашний вечер: публика рано начала собираться в город, так как все самое интересное в празднике было уже вчера.
Девицы и кавалеры, встречаясь друг с другом при дневном свете, были даже нелюбезны.
Публика разбредалась. На сердце Кузьки становилось все тяжелей и тяжелей: он не выносил с гулянья ни одного приятного ощущения; рубль семь гривен, которые он пожертвовал себе на увеселения, были целехоньки. «Неужели же, – думалось ему, – с тем и домой воротиться!» Как за последнюю надежду, ухватился он за мысль – снова пойти в кабак.
В кабаке было множество посетителей… Пили, говорили с пьяных глаз что-то совсем непонятное, спорили, жаловались.
Внимание Кузьки было привлечено компаниею подгулявшей молодежи.
– Нет, не выпьешь! – кричал один.
– Ан врешь!
– Что такое?
– Да вот Федор берется четверть пива выпить на спор.
– Дай, об чем?
– И спорить не хочу…
– Нет, нет, пущай его! Друг, пива!
– Поглядим…
Явилась четверть пива в железной мерке; Федор перекрестился, поднял ее обеими руками и принялся цедить.
Публика следила за ним с особенным вниманием.
– Н-нет! – произнес неожиданно Федор – и хлопнул четвертью об стол.
– А-а!.. – послышалось со всех сторон.
Охмелевший Федор присел к столу. Глаза его смотрели бессмысленно.
Кузька, в минуту неудачи Федора, вдруг почувствовал в себе сознание чего-то небывалого. Громадные нетронутые силы, давно ждавшие какого-нибудь выхода, зашевелились.
Он видел теперь перед собой такое дело, которое понимал вполне и которое могло прославить его, по крайней мере, в з – ском кабаке. Кузька чувствовал, что теперь ему предстоит сделать первый сознательный и смелый шаг. Он смело подошел к гулякам и проговорил:
– Что дадите, я выпью четверть?
– А ты чем стоишь?..
– Берите, что есть: рубль семь гривен.
– Ладно! А с нашего боку, ежели выпьешь, пей сколько хочешь и чего твоей душе угодно… Деньги наши…
Идет?
– Кричи!..
– Пив-ва! – заорала компания…
Скоро все общество в кабаке столпилось около Кузьки, который удивлял всех своим богатырским подвигом. Четверть пива быстро подходила к концу. Кузька ни разу еще не передохнул, только лицо его медленно наливалось кровью, глаза выкатились и сверкали белками…
– Ах, прорва! – говорил удивленный зритель.
– Батюшки, шатается! – вскрикнул другой, – шатается!..
– Держи, держи его… Расшибется!..
– Уйти от греха! – прошептал третий и выскользнул из кабака; на улице он слышал, как в кабаке что-то грузное рухнулось наземь…








