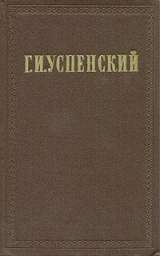
Текст книги "Том 1. Нравы Растеряевой улицы"
Автор книги: Глеб Успенский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 38 страниц)
Побирушки *
(Очерк)
I
Только неудачи, несчастия и горе постоянны на земле, и, зная это, не нужно особенно пристальной наблюдательности, чтобы убедиться в существовании довольно большого класса людей, который, не зная, на какой труд девать свои руки, или же не умея приложить их ни к какому труду, живет изо дня в день чужой подачкою, копейкою, выработанною чужим трудом. Столичный двор, в длинной картине своих будней, столичные улицы, церкви – все это дает множество типов разных побирушек.
Только что вы успели открыть глаза в свежее летнее утро, как середи двора громко грянула музыка; весь дом всполошился; вы слышите, как по коридору мимо вашей комнаты пробежало несколько человек, поднялась повсюду суматоха; взгляните в окошко, и вы увидите, что далеко прежде вас высунулся в окна весь дом, – на дворе толпы народа: мастеровые, кухарки, бросившие свое дело, разносчики с лотками на головах и с застывшим криком на разинутом рту. А звуки, стиснутые высокими стенами каменного четыреугольника-двора, гордо рвутся вверх, разливаются по окрестности и сзывают новых зрителей, которые на ваших глазах один за другим шмыгают в подворотню.
Оркестр между тем кончил какую-то пьесу; трубачи, перевернув вниз трубы, выдувают из них накопившуюся от дыхания воду, – и некоторые из музыкантов посматривают на публику, разместившуюся по окнам: очевидно, нужна подачка; об ней не говорится, потому что все эти бедняки, к большому их несчастию, люди с самолюбием, развитым данным на несчастие талантом. И это, по-моему, самые жалкие и в особенности достойные помощи бедняки.
Однако оркестр кончил; скрипачи и кларнетисты засовывают свои инструменты под полы своих сюртуков и пальто, маленькие музыканты-нищие нагружают, кроме того, на свои спины кипы нот; они несут подмышкой пюльпитры, и вслед за всей капеллой музыкантов ползет под ворота и толпа зрителей. Мастеровые, с ременными ободочками на головах, подхватывают с земли своих ребят, слышны говор, смех; скоро оркестр гремит на другом дворе, и потом жизнь входит в свою обычную колею – стучат ножи, из нижних этажей валит удушливый запах цикорного кофе, поджариваемого в бесчисленном количестве, – настает мир стряпни и дела. Но внутренность двора опустела ненадолго. Если в это время, через несколько минут по уходе оркестра, разносчик не кричит: «кавры половые», то скрипит водовоз, или некоторый человечек в подряснике из простого черного сукна, с ременным поясом и открытой головой, звонким тенором поет на весь двор: «На построение погоревшей» и проч. Он потупил свои бойкие глаза в книгу с несколькими медяками на переплете и, медленно обходя около стен, причем старается ближе подойти под окна, неумолкаемо тянет свою всенижайшую просьбу.
– Милый человек! – возглашает, выступая из дверей нижнего этажа, персона женского пола, по всей вероятности вдова какого-нибудь фельдфебеля. – Зайди, бога ради, на малое время.
Подрясник ниже нагибает голову, что означает поклон, и заходит ко вдовице. Тут сейчас затевается самовар, – и за этой скромной, но весьма продолжительной трапезой, под неоднократно возобновляемое доливание в самовар, тянутся рассказы: какие на земле есть места чудные, и какие разные бывают чудеса, и проч. На эти разговоры стекаются разные вдовы и съемщицы, и под конец многие прослежаются. А странник скоро на другом дворе поет попрежнему: «На построение погоревшей» и проч.
– Милый человек! зайди на малое время! – раздается голос из-под крыши. И снова самовар и снова рассказы. И невидимо зиждется погоревшая обитель.
Настает тишина, и опять-таки ненадолго; побирушки разных видов и наций поминутно сменяют друг друга. Входит кучка людей в каких-то рваных сюртуках, из-под которых выглядывают ноги, обтянутые в трико. Тут же много ребят – тоже в трико; на головах у них надеты венки, состоящие из бумажного обруча, перевитого разноцветными коленкоровыми лентами. Это акробаты; они скоро раздеваются, расстилают на голых и мокрых камнях рваный ковер и начинают свой спектакль. Под музыку шарманки и бубна кувыркаются эти нищие, ломают ребят, – и вас невольно остановит и заставит задуматься судьба этого маленького существа – мальчик ли оно или девочка, неизвестно, – которого на ваших глазах какой-то геркулес, должно быть глава всей шайки и, стало быть, нищий из нищих, хватает одной рукой за пояс на спине, подымает вверх над всей толпой и заставляет дрыгать маленькими ногами и ручонками под звуки канкана. Тут рождаются уже ученые побирушки; от отца в наследство переходит вся наука попрошайничества.
Наконец на ваш карман рассчитывают полчища шарманщиков, целый день гудящих под вашими окнами разные арии и русские песни с припевом безрукого, но голосистого солдата. Если вам приходится выйти на улицу, то во всяком случае вам не придется долго остаться без того, чтобы кто-нибудь не заявил своего желания попользоваться вашим карманом. Если вам приходилось долго ходить по одной и той же улице, то вы непременно заметите, что на одном и том же месте весь день стоит какой-нибудь солдат, слепой, весь обвязанный тряпками; рядом с ним старуха, тоже в лохмотьях; один играет «Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке» или что-нибудь другое, – старуха поет. Эта картина производит неприятное впечатление. Когда бы вы ни шли мимо этой четы, все она в одном и том же положении: старуха что-то хрипит, старик вертит ручку сиплой шарманки и другой рукой беспрестанно водит по крыше своего инструмента, надеясь нащупать монету.
Кроме того, во всякое время дня и ночи не раз придется встретить вам некоторых персон, именующихся отставными капитанами, офицерами, воевавшими при Севастополе и проливавшими именно за вас, за ваше спокойствие свою благородную кровь.
Вздергивая своими массивными плечами и держа картуз сбоку головы, трогательнейшим голосом произносит воин свою просьбу:
– Помогите бедному, беззащитному офицеру! Подавал прошение на службу – нет местов… Жена, дети… Позвольте у вас покорнейше просить три рубли серебром.
– Не могу-с.
– Ради всего священного…
– Помилуйте, – да у меня самого теперь нету таких денег.
– Ну, сколько можете.
– Двугривенный – возьмите.
– Ах! Миллсс. дарь! Вы не понимаете всей тяжести… н-но! позвольте. Блаадаррю вас! Хотя грешно такой ничтожностью обижать человека… можно сказать…
– Делать нечего. Вы идете.
– Бог, милл…осдарь, со временем припомнит вам! – кричит особа издали. – Желаю вам испытать те чувства, которые в настоящую минуту…
Вы продолжаете идти.
– Двугривенный!.. Свинья!.. – заключает особа, понимая, что вы уж не расслышите этих слов.
В другой раз вы идете пустынной улицей. Ночь. Дорога ваша лежит как раз против какой-то части. Ни души. Стук ваших собственных шагов только и слышен кругом.
– Почтенный гасспадин! – раздается над вашим ухом.
Вы оборачиваетесь: какое-то существо мужеского пола в картузе с разодранным козырьком и в довольно прохладном костюме.
– Что вам угодно?
– Позвольте узнать, сделайте милость, где здесь первая часть?
– Вот она!
– Ах-с! Не имея пристанища, как благородный человек, хочу попросить правительство укрыть меня от ночи.
Персона эта заявляет вам причину ночевать в полиции именно потому, чтобы вы выкинули из своей головы всякую мысль о его темном существовании, о беспаспортности и проч. Если он сам идет в полицию и если он действительна беспаспортный, бродяга, – то уж там ему быть – не миновать. Стало быть, он вовсе не какой-нибудь, если не боится этого. Затем неизвестный рассказывает вам, что он пять часов тому назад только в Петербург приехал сюда с барином; барин ушел из гостиницы, унес с собой ключ, и он принужден скитаться кое-где.
– Ну, пойдемте, я вас проведу в часть.
– Благодарю вас, милостивый государь… пойдем-те-с. Но не можете ли чем-нибудь помочь?
– Не могу ничем.
Мы идем; около самых дверей части неизвестный останавливается.
– Мил…сдарь! Я теперича опасаюсь…
– Как?
– Ну-ко барин придут – меня нету? Лучше я домой.
– Как хотите.
– Так точно, я лучше домой-с. Хоть пяти копеек нет ли у вас?
Вы даете.
Особа мгновенно юркнула в тьму, и скоро издали вы слышите такое приветствие:
– Шаромыжник! Подавись ты своим пятаком! – отчетливо произносит знакомый голос, из заискивающего превратившийся в подлый и дерзкий.
Класс салопниц,без сомнения принадлежащий к числу побирушек, сумел так себя поставить в чиновном быту, что, вполне проживая на счет этого бедного и постоянно нуждающегося народа, ни разу не отопрет рта для того, чтобы попросить о чем-нибудь: все дается им добродушными хозяйками без просьбы, ибо эти хозяйки крайне обязаны салопницам за убитую скуку целого будничного утра, за кучу новостей, за совет, как узнавать, когда у ребят зубы начнут прорезываться, за предсказание – кто будет новорожденный: мальчик или девочка. Последние предсказания всегда сообразны с желаниями родителей.
– Страсть как я мальчиков люблю! – говорит чиновница.
– Постой-кось, ангельская душа, – говорит ей салопница. – Я сейчас погадаю, – ты только повернись лицом к солнцу, на полдень!
Чиновница повернулась.
– Видишь ты, как оно обозначает. Дай-кось в эфтом месте пощупаю.
– Щекотно, Власьевна.
– Ну, я ведь чуток. Шевелился?
– Третёводни так-то забился!
– Гм. Ну, а Семен-то Петрович с которого боку ложится?
– С левого. Он у меня всегда под левым боком, как чурка какая, валяется.
Салопница смотрит внимательно на лицо будущей матери, не раз щупает в разных местах, причем чиновница взвизгивает от щекотки и говорит: «Как тебе не стыдно!»
– Ничего, дело женское, знаю, – все прошла.
– Ну, – кто?
– Мальчик!
– Фекла! Станови самовар! Беги в лавку: сливок… кофею… Власьевна, вот тебе платок ковровый! – бушует обрадованная чиновница.
Таким образом класс салопниц получает полное право гражданства в этом обществе мелких чиновных людей; это чиновные ведомости, газеты, и если бы существовали такого рода ежедневные известия для столичной мелкоты, то для того, чтобы они имели громадный расход, нужно чтоб все содержание их состояло из рассказов салопниц; дальше этих россказней и сплетен интересы столичной и нестоличной мелкоты не идут.
Все эти шарманщики, акробаты, оркестры, бедные, но благородные люди – все это будничные типы столичной нищеты. Они постоянны, иногда только бывают некоторые вариации, но при внимательном размышлении непременно придется заключить, что это одно и то же.
Но иногда, среди столицы, в темной улице, в дождь, останавливает вас плаксивая, совершенно не похожая на столичную, просьба русского деревенского нищего:
– Батюшка! Милай ты мой! Подай, батюшка, нищенкам…
Вы оборачиваетесь и видите перед собой толпу простых деревенских побирушек: мужик, охающий, как баба, и баба, в великую, внезапно нагрянувшую беду получившая вдруг твердость, – все это в рубищах, в рвани протягивает к вам свои руки. Мальчишки и девчонки с непокрытыми головами, разиня рты и спрятав руки в глубину своих рукавов, – что-то гудят жалобное, под стать горькой просьбе своих отцов…
– Подайте, кормилецы! – твердят они.
– Кто вы такие?
– Мы дальние, батюшко… дальние…
– Как вы сюда попали?
– Ды так, батюшко, и попали… что дома-то делать? все одно – есть нечего. Ну вот и пошли по миру… деревня за деревней, город за городом – так и доволоклись.
– А отчего ж вы по миру-то пошли?
– Ах, милый человек, – великое тут горе случилось…
Баба начинает хныкать и рассказывает свою историю великого горя, которую я теперь и хочу передать здесь.
II
Маленькая деревенька Лемеши, в одной из южных русских губерний, только что начинала освобождаться от снегу, из-под коры которого выступила темная и распаренная весенними лучами земля. Наконец против этих весенних лучей не устояли последние тоненькие слои льда и снежные залежи в оврагах, и весна зацарствовала над лесами и полями. Но для Лемешей это пришествие было нерадостно: только что лемешовский мужик Иван вышел впервые в поле с разными хозяйскими думами, как на черной и начинавшей просыхать земле он заметил крупу не крупу, а так какие-то семечки. Сердце Ивана забилось… Он помнил, что в прошлом году неслась чрез Лемеши саранча, помнил, как она в то время закрыла весь небосклон, как опустилась на лемешовскую рожь и понеслась дальше. «Не положила ли она яиц своих?» – содрогаясь, думал Иван и опрометью бросился в деревню разузнать, что это за крупа такая в самом деле. В каждой деревне есть такого рода старички, которые более или менее, сообразно своим летам, помнят историю села или деревушки. Между лемешовскими стариками были такие, которые помнили, как к ним налетела саранча, как ела и крушила она всякий посев и сколько в то время пошло по миру людей. Вот этих-то стариков и поволок мир в поле. Долго разглядывали они загадочную крупу, наконец все решили:
– Сарана! [17]17
Так называют на юге саранчу.
[Закрыть]
Все замолкли; неотводный божий бич висел над головами всех.
– Как быть?
– Надо теперь, братики, собирать ее… да покуль она не народилась…
Общая опасность и громадность этой беды были так велики, что мир тотчас же принялся за дело, и всю саранчу, которую увидел Иван, в одно мгновение собрали в мешки и представили в волость; собрано яиц всего четыре четверика; писарю ничего не стоило в докладе начальству написать, что, при усиленных трудах его, – опасность миновалась, ибо собрано яиц саранчи до сорока четвертей; начальству ничего не стоило в свою очередь написать в донесении своему начальству, что, при усиленных мерах его, – опасность прошла, ибо собрано яиц до четырехсот четвертей. Везде мир и гладь: меры предпринимались быстрые; зло истреблено в корню – к всякое начальство довольно по горло. Мало того, оно хочет, чтоб были довольны и там;и действительно, скоро и тамузнают о неимоверных усилиях всех властей к истреблению саранчи, – усилиях, приведших к самым благоприятным результатам, ибо собрано до четырех тысяч <четвертей> брошенных этим подлым существом яиц.
А между тем пашни лемешовекие вопахались, прошел май и июнь, и на них уже стояла полчищем колосистая рожь. Жара была нестерпимая, целые дни собирался дождь, по небу ходили какие-то дымно-синие тучи, вдали видны были полосы дождя, и в жаркие полдни издалека доносились раскаты грома, а по вечерам со всех концов неба вспыхивали зарницы, но дождя не было, и зной палил.
В один из таких дней лемешовский мужик, возвращавшийся из города проселком, пролегавшим чрез рожь, изумленно вытараща глаза, увидал, что весь длинный и узкий проселок словно шевелился и, как покрытый водою, блестел на солнце; но стоило только вблизи шевелящейся массы застучать телеге и лошадиному копыту, как дорога и песок обнажались снова. «Сарана!» – испуганно заключил мужик и поспешно слез с своей телеги…
Он быстро подошел к окраине ржи, присел, и перед его глазами открылась страшная картина: полчища саранчи, сотнями лепившейся около каждого колоса, шли на лемешовскую рожь и из лемешовекой переползали через дорогу в соседнюю. Растерявшийся мужик не знал, что думать; позабыв про лошадь, он пошел вдоль проселка, и везде была саранча. Верста, другая, Лемеши уже в стороне, а саранча все идет, все идет, и вместе с тем, не останавливаясь, шествует вперед ополоумевший мужик. Дело страшное! Тут только пришло в голову, что сбор яиц, найденных Иваном, был вовсе недостаточен и что лень, отчасти укрепленная этим четырехчетвериковым сбором, – укрепляла естественное желание покоя и чаще заставляла говорить и думать: «авось бог помилует» и проч.
Тот же невыразимый страх, который заставил мужика окаменеть при виде саранчи, заставил его и опомниться. Бросился он к своей телеге и лошади, которые оставались далеко от того места, куда незаметно забрел мужик, и скоро Лемеши знали опять про великое горе…
Бабы заголосили; мужики шарахнулись на сходку толковать: «как быть?»
– Православные! – говорил с крыльца голова: – дело это божее – нужно, стало быть, тут осторожно…
– Чтобы не прогневить его, батюшку…
– Это верно!
– Что ж теперь делать, православные? – спрашивал опять голова.
– Как мир… – отвечали в один голос все, то есть сам же мир.
– Ну вот, стало быть, и надо миром толковать…
– Чаво толковать, коли тут головы твоей нехватает! – вдруг произнес сурово кто-то.
– Ты, Мироныч, этого не говори: над нами и так гроза висит, а ты лаешь, – это нельзя.
– Как не лаять, коли совсем пустые разговоры заводить начали. Можешь ты об этом толковать, когда ты в этом никакого рассудку не имеешь?
– Обноковенно я не могу; дело это для нас внови… И надыть сейчас старичков вопросить: как они…
– Стариков, стариков, – заговорил мир…
В ожидании стариков мир молча толпился у крыльца расправы. По временам слышался шопот, и голова, присевший на лавку, иногда поправлял на лбу волоса, сдуваемые ветром.
– Эка напасть! Ах ты, господи!.. Теперь совсем пропащее дело, – слышалось иногда.
Скоро пришли старики; с полчаса стояли они молча, опершись на свои палки, и кряхтели.
– Ну что ж, как, старинушки, по-вашему-то? – в сотый раз допрашивал их голова.
– Да что по-нашему-то? По-нашему-то это дело нужно совсем бросить!
– Как так?
– Да так; потому это божеское наказание, и нам, грешным, ничего тут не сделать.
– Да оно так… только как же это, милые… есть тоже надо. По миру, что ли, пойдем?
– Господь захочет – и по миру пойдешь.
– Это, православные, – вмешался голова: – так точно он говорит, что собственно мы еще господа-то благодарить должны – вспомнил нас… рабов своих.
Доказательства к бездействию были верны, непреложны, и мужики только с крепкими думами расходились по домам, где их ждали бабьи слезы.
А саранча размножалась больше и больше. Через неделю принуждены были отслужить молебен на пашне и обойти все посевы с крестами. Еще через неделю отслужили другой молебен и начали думать, как укрыться, – божий гнев был слишком велик. В этих мерах против несчастия горячее и прежде всех выказали себя некоторые особы из помещиков, испокон веку занимавшиеся агрономией и изучавшие русское хозяйство по немецким книжкам.
Первая мера, которая была принята лемешовским начальством, состояла в следующем: от каждого крестьянского двора потребовалось в волость по девяти аршин холста; холст был представлен немедленно, и тотчас же на каждых трех десятинах устроились из этого холста палатки. Основываясь на том, что саранча имеет слишком чуткий слух, агрономы рассуждали, что если в этих полотняных палатках вырыть ямы и посадить в тех же палатках по мальчишке с дудочкой, на которой тот посвистывал бы хоть таким образом, как подманивают перепелов, – то саранча пойдет на эту музыку, придет в палатку, попадет в яму, – а здесь музыкант и должен был прихлопнуть ее особенного рода колотушкой.
Палатки устроены, музыканты расселись в целом уезде, на каждой десятине; зудят их дудки, а во ржи шумят кузнечики, и их чириканье заглушает поход полчищ саранчи, которая кишмя-кишит здесь, точит ржаные колосья в корне и не думает идти в западню.
– Ну что, убил? – спрашивали на селе возвратившегося вечером с поля музыканта.
– Убил.
– Много?
– С полдесятка, поди, ухлопал…
– Что ж мало?
– Поди-кось ты боле наволоки в яму-то! Ну-кось ты сам в яму-то… охотою… А… небось, нос-то заворотил бы. Так и она…
– Это точно.
– То-то и есть! А то – мало! Что ты ее за волосы, что ль, в яму-то тащить станешь?
– У нее, поди, волос-то нет?
– Какие у нее волоса, когда она, можно оказать, самая подлость – животное, а то – яма! мало! на дудочке! Я ноне со скуки весь день этак-то ли важно песни играл – страсть!..
Через несколько времени другой вернувшийся музыкант тоже говорил:
– Я уж и казачка принимался играть – ничего, хоть ты тресни, – ни одна не пошла.
– Нет, милые, – говорил третий, – это дело совсем пустяк. Тут хоть сам целый день пляши – ни идола не сделаешь.
– Это верно!
Вскоре и агрономы пришли к тому убеждению, что эта затея в самом деле пустяк; через несколько времени были сняты и палатки. Бабы пришли в расправу за холстом.
– Старушки, – сказал писарь: – а бог в вас есть?
– Как же богу в христианской душе не быть – его дыхание.
– Так! Стало быть – какого же тут холста?
– Обноковенно… нашего… Поди, чай, на небо холстину-то не возьмут…
– Это верно! А я-то про что же говорю?..
– А господь тебя разберет, про что. Ты по-ученому, а нам холстина обноковенно хозяйское добро.
– Опять же это вы верно говорите, – но где же я возьму холстину, которая теперича, может быть, за тридевять земель? Теперь, может, холстинку-ту вашу на войну отвезли: раны да язвы солдатские вязать… а?
Старухи молчали.
– Ведь они, солдатики-то, ваши же детища; неужто вы своих детищев без жалости безо всякой оставите?
Старухи собирались выть; писарь мучил:
– А? А вы – «холстину подай!» Где ж я ее возьму! А солдатикам и без того тошно…
– Соколик ты мо-ой!.. – завыла одна баба; другие подносили к глазам свои фартуки. А писарь мучил:
– Нехорошо… Нехорошо, старушки; бог не полюбит за это. Сейчас умереть, – очень ему будет это неприятно.
И рыдающие старухи разбредались по дворам; вслед им писарь добавлял:
– Очень вредно, божии старушки, поступать так… На том свете – как за это! Прежестоко за это на том свете будет! Не хвалю – истинно не хвалю! Холстина! Ах вы, прорвы!.. – заключил писарь, входя в сени расправы.
Агрономы скоро действительно пришли к тому заключению, что необходимо озаботиться насчет новых мер. Многомудрые соображения их скоро разрешились тем, что необходимо по ночам устраивать костры, располагая их на проселочных дорогах; без всякого сомнения, саранча придет на огонь и потом, тоже без малейшего сомнения, сжарится здесь. Расчет был бы верен, если бы оправдались надежды агрономов относительно рассудительности саранчи: что лучше ей не беспокоить начальство, а прямо самой залечь на костры, – так как она должна же понимать, что сама в этом горе виновата кругом.
На костры потребовался хворост и валежник. Нужно было просить у лесничего разрешения взять этот продукт, – началась бы возня, переписки, дело потянулось бы чорт знает сколько времени, – и поэтому сами мужики решились пожертвовать своими плетнями. Костры запылали, но, к величайшему удивлению, ни один субъект из саранчи не подступал к этой добровольной плахе, – напротив, говор ребят, разместившихся около костров, и треск сучьев отогнали саранчу далеко от огня; во ржи чувствовался усиленный шум, потому что саранча опрометью бросилась в противуположную от огня сторону.
Таким образом, и эта мера не удалась. Агрономы порешили положиться на власть божию, отслужить опять молебен и послать за советом к начальству, так как усиленная помощь была необходима, ибо еще немного – и саранча должна была тронуться с места: в то время она начинала окрыляться и недели через две непременно должна была получить способность летать. В этот момент от корня колосьев она поднималась на самые колосья, и в одни сутки на множестве десятин ржи оставалась только солома: все зерна бывали съедаемы дотла. Между тем бумага получилась начальством. Тотчас же было поручено чиновнику ехать на место, где саранча, и донести об этом деле во всех тонкостях.
В одно из воскресений, рано утром, по дороге к губернскому городу скакала тройка чахлых обывательских лошаденок, на средней из которых подпрыгивал мальчишка в белой свитенке, дырявых лаптях и в белой же, наподобие черепенника, шапке. Лошади неслись во всю прыть, сзади тройки взвивались клубы пыли, и веревки, составлявшие убогую лошадиную сбрую, вились в воздухе. Мальчишка потому так гнал своих кляч, что писарь при отправке как-то особенно напирал на слово «немедленно», да, кроме того, в сумке, которая была надета у мальчишки через плечо, лежал конверт с припечатанным к нему гусиным пером. Это еще более заставляло мальчишку гнать лошадей, и вследствие этой гоньбы сломя голову деревенские обыватели скоро увидали перед собой город.
Чиновник, назначенный для поездки на саранчу, торопился не менее мужика, потому что и у него в бумаге было «немедленно».Он наскоро завернул к обедне, – и то к самому выходу, – положил два-три земных поклона и вместе с прочими богомольцами направился к выходу.
– Прощайте, Петр Прокофьевич, – говорил чиновник: – еду!
– Куда это?
– На саранчу.
– Надолго?
– Да как вам сказать? Недели на две…
– Гм. На две! А что я хотел вас попросить: возьмите моего Костю?
– Извольте, – отчего же-с.
– Право! Мальчишка он любопытный, это ему будет очень занимательно.
– Извольте. Так вы уж собирайте Костю-то… Я заеду… часа в два…
– Ладно.
К двум часам Костя был совершенно готов; но чиновник не являлся: ему нужно было зайти проститься в два-три дома, ибо и у него тоже были царицы его сердца и проч.
– Прощайте, Марья Васильевна, – говорил чиновник.
– Пишите! – говорила плаксиво барышня.
– О! Я буду писать… каждое мгновение… каждую минуту. Но будете ли вы помнить обо мне?
– Несносный! – сказала барышня: – для чего ты еще мучишь меня!
– О женщины! – хватив ладонью по лбу, заключил чиновник.
Чиновник был растроган. В эту минуту он ясно понимал, что «Ехал казак за Дунай» и «Прощаюсь, ангел мой, с тобою» – вещи вовсе не достойные посмеяния.
Часа в четыре он был дома.
Он поспешно принялся есть и во время еды погонял всех и вся, чтобы торопились укладывать в тарантас разные погребцы и проч. Часам к шести все это было готово. Чиновник был в легком белом пальто, на пуговице которого болтался кисет с табаком… Этим, однако, еще не вполне обеспечивался выезд из города. Нужно было заехать за Костей, который в это время был совершенно готов, постоянно толкался на крыльце, постоянно выбегал на угол, чтобы посмотреть: «не едут ли?» Отец Кости спал, и когда, наконец, в седьмом часу подъехал тарантас, Костя опрометью бросился будить его.
– Что?
– Приехали!
Пока отец вставал, чиновник ходил по залу, поправляя виски. Наконец хозяин вышел.
– А! Готовы… Я сейчас: надо на дорожку посошок… – произнес он и скрылся опять.
– Федор, – поспешно и топотом говорил он кучеру в сенях: – беги, – бутылку донского:.. Проворней!
– Да зачем это вы, право? – во всю глотку орал в зале чиновник, желая, чтобы его услышали.
– Живей, живей!
Принесена была бутылка, через час другая, через полчаса – графин водки.
– Я все делаю; я страдаю. Я мучусь… – говорил один из подгулявших чиновников.
– За что они меня тиранят? Я руку вывихнул на следствии – этого мало?
Чиновники говорили такими жалкими голосами, что у непривычного человека сердце разорвалось бы, на части.
– Скоро ли? – твердил Костя.
– Счас, счас! – нетвердо владея языком, говорил чиновник.
– Лошади готовы… устали.
– Счас, милушка… Иди сюда… – Чиновник хватал Костю за шею, тащил к себе и потом целовал мокрыми и слизистыми губами, так что Костя после поцелуя принужден был обтирать рот рукавом.
А у тарантаса в это время происходили такие сцены. Няньки вытащили ребят, сажали их на подушки, причем, держа подмышки, заставляли слегка подскакивать, приговаривая:
– Вот поехали, вот поехали…
Дети захлебывались от радости.
– Меня… меня… – пищала девочка, протягивая с тротуара руки.
– Погоди, и тебя… Ты сколько ехала; Ванечку: только посадили, опять тебя?.. Ишь завидущие глаза… – строго сказала нянька.
Девочка поднесла к глазам кулаки и залилась, а за ней заревели и все ребятишки.
Нянька расставила руки, присела и сказала:
– Слава богу!.. Дождались! Вот папенька услышит, он вас… плаксы… высекут как…
– Что такое? Кто? Передеру всех!.. – раздался голос папеньки, высунувшегося в окно.
Ребятишки утихли…
Часов в десять вечера, наконец, уселись все.
– Ты ел? – от нечего делать спросил мальчишку чиновник, весь налившись, как рак, и с трудом всползая со дна тарантаса на подушку.
– Никак нет…
– Трогай!
Уехали. Выехав в поле, чиновник сразу почувствовал потребность спасать отечество: именно в это время с особенною настойчивостию шумела у него фраза: «немедленно», и он с особенною ревностью кричал: «пашел!», но препятствия попадались попрежнему на каждом шагу. Только что они отъехали несколько верст от города и проезжали посредине небольшого подгородного сельца, как на дороге попался здешний священник: тары да бары – начались разговоры.
– А то чашечку чайку выпьем? – сказал священник.
– Разве одну… – согласился чиновник.
Заехали. Выпили и чайку и водочки и, стало быть, разговорились еще душевнее. Прощанье совершалось долго; сначала прощались в зале, потом в передней, потом на крыльце – и везде по крайней мере по часу. Наконец-таки тронулись. А между тем ночь была безлунная, и тьма кругом царствовала кромешная. Тарантас подвигался медленно; истомленные дневным стоянием на жаре, лошади плохо двигались вперед, колеса иногда не попадали в колею, и тарантас ехал боком, – чиновник злился.
Наконец дорога уперлась в какую-то лужу непроходимую, – чиновник вылез и приказал ямщику проехать с пустым тарантасом, чтоб не утонуть неравно. Тарантас зашумел колесами и скрылся во тьме: слышалось только хлясканье, и наконец лошади вернулись – переехали. До сборни, где должно было переменить лошадей, было всего верст пять, и эти пять верст ехали наши путники по крайней мере пять же часов; наконец въехали-таки в село. Тишина была мертвая, спали даже собаки и не лаяли по этому случаю. На улицах, черневших плетнями и непроходимою раскислою грязью от вчерашнего дождя, царствовала топь. Наконец добрались до сборни. Ямщик слез и принялся ногой дубасить в дверь. Послышался какой-то глухой голос, и на дворе залаяли собаки. Ямщик продолжал колотить; наконец во тьме вытянулась какая-то длинная фигура в белой рубашке.
– Ты десятский?
– Так точно, десятский.
– Проведи к батюшке.
Десятский без шапки забрался на козлы.
В доме батюшки все спали, и удары десятского в ворота не получили никакого ответа, только собаки страшными басами голосили на весь двор.
– Ах, собаки страшные! – сказал десятский.
– Толкуй! – оборвал его чиновник.
Десятский, видя, что без особенных стараний горю не пособишь, стал одной ногой на оглоблю, потом взобрался на дугу, с дуги на ворота, перелез через верх, и с улицы было слышно, как в топкую грязь плюхнули его лапти.
Скоро приезд чиновника всполошил весь двор; священник был очень рад гостям, бегал, суетился, торопил с самоваром и проч. Между разными разговорами шли толки и о саранче.
– Что, не слыхали ли про Лемеши чего? – спрашивал чиновник.
– Как не слыхать!
– Что же?
– Да там какую-то новую штуку изобрели.
– Какую же?
– А что-то такое вроде колотушки. Барин наш нарочно ездил – в случае, чего боже сохрани, вдруг у нас то же несчастие, так чтобы как-нибудь запастись преждевременно мерами-то…
– Да, да… Ну, так какая же колотушка-то?
– А видите ли: это палка такая, а на конце ее доска, так что палка-то втыкается в средину доски, и с этим орудием мужик должен ходить за саранчой: как увидит ее где кучу – так и должен прихлопнуть на месте.








