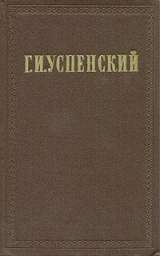
Текст книги "Том 1. Нравы Растеряевой улицы"
Автор книги: Глеб Успенский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 38 страниц)
Накрыв голову белым платком и вооружившись самым простым зонтиком, ходит вдова-помещица по огороду, прилегающему к самым окнам дома; у окна сидит скучающая дочка…
– Маменька! – произносит она, – когда ж мы в город-то?
– Рожна вот еще…
Эту фразу мать говорит таким грозным тоном, что дочь вдруг лишается всякой возможности продолжать разговор.
И скучает она так и дни и годы…
А судьба нежданно-негаданно посылает ей великую утеху в особе г. N, который в это время, только еще впервые, подъезжает к селу Кошкам. Эта езда дает мне возможность несколько уяснить внутренний мир г. N, так как я (что имел уже случай высказать) награжден в отношении к его особе особенною прозорливостию. Для этого мы пока оставим и Кошки и помещичье семейство.
Принадлежа к числу людей, которые везде если не приносят особенного удовольствия, то во всяком случае не нагоняют тоски и не сидят сложа руки, г. N еще интересен как жених и как человек, видевший Петербург. Последним обстоятельством может справедливо гордиться и сам он, потому что Петербург дал ему все необходимое в жизни, «как она есть». Г. N, живя в Петербурге, ушел от всех толков и учений, но не потому, чтобы понимал смысл какого-нибудь учения и находил его вредным для себя, а потому, что учения эти не бросались ему в глаза, которые от природы способны были видеть только то, что учит умению жить,умению изворачиваться и услуживать. Столичная жизнь, имеющая магическую силу заставлять людей думать над собою, приводить в порядок свои силы и поселяющая по этому случаю большие смуты в человеческом сердце, всегда недовольном самим собою, – не положила на нем своей развивающей печати. Ежели же, сверх всякого ожидания, к нему и навертывалась такая тоскливая минута, то стоило только пойти к хозяйке, глотать с нею цикорный кофий, плести про жильцов всякий сор, – и такая минута отлетала. Положим, что хозяйка была урод, что ей было шестьдесят лет от роду и ни одного зуба и что ей особенную приятность доставляла беседа с буточником, занимающимся теркою табаку, – молодой прекрасный человек не уступал буточнику в мелочи и запутанности интересов и ничуть не находил потерянным время в беседе с оглупевшей старухой: ему нужно было дотянуть время до чаю, а после он отправится на Выборгскую молоть такую же чепуху и танцовать с барышнями. И здесь им все довольны, ибо он не оказывал здесь ни малейшего уклонения от казенных ловкостей, потому что это была школа его, а барышни были болваны, на которых вырабатывал свой лоск будущий прекраснейший молодой человек. Явившись с этими же, но усовершенствованными достоинствами в провинции, он сразу заслужил уважение; а в деревне эти достоинства и уважение возросли сторицею. Поэтому мы можем быть вполне довольны, что деревенской барышне небеса посылают такую штуку, утеху, как г. N. Он так неслышно, незаметно подкрался к помещичьему дому на обывательских, что барышня узнала о его прибытии только тогда, когда он появился в зале. Первым делом ее по этому случаю было шарахнуться в спальну – одеваться. Не могу при этом не сказать, что такое неожиданное посещение бросило барышню в пот, острый и колючий, но непродолжительный.
Г. N остается с матерью и объявляет ей, что он самзахотел устроить ее дачу, так как в его руках два-три свободных дня. Барыня благодарит, но нельзя не заметить по ее глазам, что она плохо постигает, в чем тут дело, и решается поддакивать, как хорошая хозяйка, из одного убеждения только, что это так необходимо… Г. N не упускает при этом случае объяснить барыне, в чем дело, для чего все это делается, но объясняет так, что барыня пуще прежнего убеждается, что необходимо.
– Изволите видеть, – говорит он, – здесь ведь в чем расчет-то? Представьте себе: у вас лес, – при этом N показывает рукою по направлению к барыне, так что та невольно взглядывает на собственный желудок. – И у меня лес, – и N показывает себе в живот. – Но мой лес, так как он постоянно находится в этакой тесноте… Свободный приток воздуха недостаточен… Питание скудное. Очевидно, необходима прорубь… просека…
– Так-так…
– Вот-с, изволите видеть…
И так далее в этом роде.
Потом время проводится таким образом.
Через четверть часа г. N сидит с барышней в саду.
– Скучаете? – спрашивает он.
– Да.
Г. N не находит, что сказать, и, чтобы протянуть время, усиленно трет ладони. Барышня вдруг вспоминает, что она, бог знает зачем, нарядилась в платье с открытыми плечами. Ее снова бросает в пот, потому что она не уверена в чистоте своих плеч и обнаженных выше локтя рук; почем знать, что у ней не прилипла где-нибудь ягодка малины, земляники и т. п. Положение ее делается почти нестерпимым, она начинает понимать, почему дьяконская дочка все смотрела в землю и молчала.
– А у нас недавно староста церковный умер, – произносит она, совершенно как дьяконская дочка.
– Что же такое? отчего?
– У него было что-то здесь.
Барышня при этом обвела рукой большое пространство на левом боку.
– Сердце болело?
– Нет… дальше… еще за сердцем.
– Где же это? Легкие, печень?
– Нет-с, еще гораздо дальше… за легкими…
Барышня останавливается, вся пораженная потом, а г. N догадывается со слов ее, что эта болезнь была где-то: «пройдя легкие, налево или направо, за угол» – что-то в этом роде.
На дорожке показывается мать, хлопотавшая о разных закусках и теперь считающая обязанностию занять гостя… Она тяжело опускается на лавку и после некоторого молчания говорит:
– Скажите вы мне, что же теперь за Петербургом?
– А там уж море идет.
– Море? А как же это тут вот рассказывал кто-то, что за Петербургом война начинается.
Г. N очевидно понимает, что барыня что-то запорола, но отчего же ему не сказать, что это так, тем более, что голова у него не отвалится.
– Может быть-с! может быть. Бог ее знает.
– Кажется! – победным тоном говорит барыня. – Война!..
– Может быть-с. Да оно так и выходит: место глухое.
– Сырость.
– Вот и это-с!.. Сырость, глушь… вот им и хорошо для драки-то?
– А как же…
И так далее.
После всевозможных закусок, в продолжение которых N рассуждает с самой барыней, так как дочь отлучается по хозяйству, закладывают тройку дюжих коней, и N отправляется в лес, где мы уже имели случай с ним встретиться… После того как мы оставили г. N в чаще леса, работы его продолжались в таком порядке: на часах было еще час, и, следовательно, время нужно протянутьдо обеда, и поэтому N, от времени до времени расспрашивая лесника, где граница и проч., набирал спелые ягодки земляники. Все это заняло довольно времени, так что в доме помещицы обед вопреки обычаю совершился часом позже. А после обеда N отзывает хозяйку в другую комнату, требует план ее леса, развертывает его во всю ширину, тычет пальцем в какую-то точку, говорит непонятные слова вроде «таксация», «астролябия», «съемка» и проч. Все это заставляет добрую помещицу недоумевающими глазами смотреть на N, по временам несколько трусить, что она до приезда N никаких этих вещей не знала и не озаботилась об них, и все-таки еще более уважать этого N, вызвавшегося избавить ее от бед, может быть весьма многочисленных.
Оставшись один, N развертывает бумажку, на которой беспорядочно разбросаны заметки, сделанные в лесу: «осина», «ель», «березовые насаждения», и начинает приводить все это в порядок. Это работа нетрудная. Стоит только эту бессмыслицу набранных названий дерев пересыпать бессмыслицей другого рода – частицами «но», «хотя», и выйдет штука, очень похожая на дело: «Хотя и развивается преимущественно береза, но также заметна и осина». Далее, чтобы поразнообразить и эту фразу, N иногда пишет просто: «Хотя осина, но и береза», и т. д. без конца.
– Вот-с! – вручая описание барыне, говорит он.
– Тут все?
– Все-с; теперь будьте покойны…
N замолкает; барыня понимает, что требуется возблагодарить за услугу.
– Вы уж от нас завтра уедете, – просит она г. N через четверть часа.
– Завтра, завтра, – вторит барышня.
– Если это вам не будет стеснительно, – покорно пожимая плечами, говорит N, – то я, конечно, с величайшим удовольствием.
– Пожалуйста, – говорит барышня.
N остается. А вечером в темном, еще не освещенном зале он сидит с барышней у отворенного в сад окна.
– Скажите, – говорит та, – можно ли два раза любить?
– Хе-хе-хе, можно-с, – произносит N самым подлейшим тоном, но вслед за тем серьезно прибавляет: – То есть, смотря по тому, какая любовь. Ежели любовь истинная… Вы про истинную изволите говорить?
– Про истинную.
– Ну, тогда дело совершенно другого рода…
– Нельзя?
– Более одного разу нельзя-с…
– Я и сама так думаю…
В зале снова показывается хозяйка, хлопотавшая насчет ужина. Некоторое время царствует молчание. Понимая, что нужно снова занять гостя, хозяйка говорит:
– А что, скажите вы мне, сделайте одолжение, есть ли такие места, откуда никаких дорог уж нету?..
– Должно быть, есть-с…
– Где же, например?..
– На самом конце-с… Откуда уж некуда больше…
Все добродушно хохочут.
– Ах ты, господи!.. – помирая со смеху, произносит мать. – Что значит неученый-то человек, не догадаешься… – И т. д.
На другой день г. N в дороге. Добрые кони подхватывают покойный экипаж, из которого виднеется длинный футляр с планом, а г. N в это время чувствует, что за десятину ему пришлось «недурно».
А для барышни настает снова скука. Снова невыразимо долго ползут жаркие полдни и настают одинокие вечера…
– Можно ли два раза любить? – спрашивает она себя, стоя у окна и смотря на собирающийся в небе дождик. – Нельзя… Почему?.. Почему… висок есть самое чувствительное… Тьфу ты, господи, какая тоска!
III
Для большего знакомства с жизнью села Кошки нам необходимо, хоть слегка, остановиться на другом пункте деревенской, исключительно мужичьей, жизни. Это – сборня.Оставшись после упразднения здесь волости, сборня не могла похвастаться слишком рьяною деятельностью в своих стенах, так как здесь не было даже писаря, а существовали одни караульщики и десятские. Половина дома почти пустовала, и для приезжего чиновника оставалась только одна комната со столом, сплошь закапанным сургучом, и множеством наставлений в больших черных рамах с синими стеклами, угрюмо смотревших с выбеленных стен. Мел на стенах сохранился только у верха, так как снизу стен мужичьи спины усердно вытирали его своими армяками, отчего бревна лоснились, как полированные. На дворе сборни, по очереди, стояли обывательские тройки на случай проезда чиновников по делам службы. Впрочем, местные власти не поскупились бы дать лошадей, ежели бы кому-нибудь из чиновников вздумалось проехать в монастырь на богомолье или писарю предстояла надобность купить в городе, верст за сорок, четвертку курительного табаку. Сборня собственно и существует для таких проездов. И если бы кто вздумал придти сюда с целью разобрать какое-нибудь дело, пожаловаться, требовать законного удовлетворения, – он не нашел бы ничего и никого, кроме старика – слепого сторожа, от которого бы он ничего и не добился. Все обиды, жалобы, просьбы берегутся и терпятся до приезда чиновника.
Однажды в село донесся с поля сильный звон колокольчика. Казалось, что вот-вот еще немного, и колокольчик забьет в самом селе, но звуки его вдруг почти замирали; слышались с новою силою опять и опять замирали, – очевидно, что экипаж с колокольчиком ехал по извилистому проселку, который мог спускаться в овраги, перебегать перелески и прочее. Наконец-таки колокольчик загоготал на селе, и скоро около сборни остановился тарантас. Приехал чиновник особых поручений, и вместе с ним на двух-трех подводах пожаловали: головы, старосты и проч. из волости. Сборня оживилась; старик-десятник был отряжен к попу с просьбой самовара и чашек; другая пустовавшая половина сборни была отворена, и в ней затоплена печка; на крыльце сборни явилось сразу человек десять с жалобами.
– Погодите, любезные, потерпите… Теперича им некогда, пойдут в училище. Разбор после пойдет.
Бабы с бумагами в руках, завернутыми в платки, стояли молча, потом слезли с крыльца и, отойдя от него к воротам, стали снова. Бабы были задумчивы, ни слова не говорили друг другу.
Скоро явился и закипел самовар; писарь нес посреди улицы на длинном чапельнике сковороду, на которой еще клокотала только что снятая с огня яичница. Закусив, чиновник вспомнил, что у него находятся похвальные листы, которые ему поручено раздать отличным ученикам, и поэтому отправился в училище. Надо сказать, что кошкинское училище не распространяло особенного просвещения. Иногда в нем можно было застать только двух-трех мальчиков из шестидесяти, как значилось в отчетах, и те не знали, что делать, потому что дьячка-учителя не было.
– Зачем вы тут сидите? – спрашивали их.
– А неравно придет дьячок и распустит.
В настоящее время училище было заперто. Минут через пять был принесен ключ какого-то странного вида; это была длинная железная палка с железными же хвостами на конце; палку эту приходилось продевать в дыру, выверченную в притолоке, потом вертеть ею в разные стороны, пока железные хвосты не зацепляли веревки, протянутой с потолка и начинавшейся у щеколды. Тогда только можно было отворить щеколду и впустить публику. Операция эта была довольно затруднительна, потому что, несмотря на присутствие чиновника, имеющее способность возбуждать все силы и искусство десятских, сотских и других властей, – вход в училище оставался камнем преткновения. Человек пять, поочередно запускавшие и грохотавшие ключом в щелке, отходили с каплями пота на лбу, говоря:
– Ах, чорт те возьми, засел как! Ничего не сделаешь!..
Наконец попробовал удачи писарь:
– Отойдите все; я ее сейчас обработаю.
Писарь засучил рукава, поплевал на руки и запустил палку внутрь.
– Иной раз так-то, – говорил мужик за спиной чиновника, – гремять-гремять, вертять-вертять – ничего… ребятенки ждуть-ждуть, ды и ко дворам.
– Ах, чорт тебя побери! – заключил и писарь, шваркнув ключ обземь.
Староста между тем, без шапки, бегом побежал к дьячку известить его, что ревизор приехал. Дьячок в это время спал мертвым сном, отпуская носом тучи храпу и треску.
– Побудите его, христа ради, – говорил голова дьячихе.
– Побудить-то я побужу-с, ды право только не знаю, встанет ли.
– Меркулыч! Меркулыч! Левизор спрашиваит! Прислали в сборню! – каким-то отчаянным голосом, необыкновенно быстро просыпала эти слова дьячиха за перегородкой, должно быть толкая при этом мужа, потому что трель храпения несколько заколебалась, словно заходила и зашаталась вся туча нависшего над дьячком храпа.
– Не встает!
– Как же это можно? Нет, вы уж его как угодно.
– Ды что же я сделаю, когда человек спит навзничь? Что же с ним можно сделать? Я сама завсегда больше на спине… Ну, только это совсем другое.
Дьячиха опять ушла.
– Ах, кол те в горло, спит! – говорил староста.
– Да вставай же ты, господи! Этакое безумие! Бога-то бы ты побоялся… Что это такое – ливазоры едут, начальство перепугамшись.
А дьячок выше и выше забирал носом.
– Ну, собака, спит! – сказал староста.
– Ничего не могу сделать. Разве к ночи, может, опомнится на минутку.
– Ну, прощайте… – заключил староста и снова пустился бежать в сборню, куда уже возвратился чиновник, не добившийся входа в училище.
В это время у крыльца сборни стояла уже куча мужиков; на плетне, между двух растопыренных, выдвинувшихся вверх кольев, утверждено было ведро с водой; за углом плетня пряталась баба, выглядывая одним глазком на сходку; она, повидимому, старалась как можно менее занять места, потому как-то ежилась и закрывала одну босую ногу другой, словно ей хотелось, чтоб у нее была одна нога. Чиновник сел на крыльцо с трубкой в руках и, приготовляясь к беседе, соображал, что недурно бы мужикам сказать в приветствие «милые дети».
– Ну, дети, – начал он.
– Ваше благородие! – гаркнул вдруг пьяный голос.
– Что скажешь?
Мужик молчал и, покачиваясь из стороны в сторону, глотал рвавшуюся наружу икоту.
– Ну, говори же, что ль?
– Ничего я не смею сказать…
– Как хочешь.
– Даже ни-ни-нни…
– Ну, так ступай, когда-нибудь скажешь.
– Не смею говорить ннни-и…
Мужика вталкивают в толпу. Чиновник снова приготовляется говорить и предварительно затягивается несколько раз.
– Ваш благородие! – всем горлом возглашает мужик опять.
– Это что еще?
– Мне стыдно.
– Уберите сейчас его, скота.
– Братцы, уберите меня, – заканчивает мужик, изнеможенно обвисая на чьих-то могучих руках, подхвативших его подмышки.
Наконец чиновник имеет возможность приступить к делу.
– Я привез вам весточку: вам дают лес, в вашу пользу.
Слышался радостный гул.
– Чтобы вы не воровали… Поняли? Только вот что, друзья мои, – продолжал чиновник таким серьезным тоном, что мужикам почудилось, будто у них эту благодать отымут сейчас же. – Дело вот в чем; лес хорош, чудесный, только не лучше ли бы вам подумать. Тут около лесу есть болото, у вас же лугов нету. Так я про то говорю, что, положим, вы лес возьмете, хорошо; а ну как вдруг, лет через сто, болото высохнет? Сейчас казна его к себе берет.
Мужики думали.
– А ежели в казенном ваша скотина потраву сделает, что тогда? Как теленок, поросенок зашли – штраф! То-то и есть! А лесок, нешто я говорю? лесок чудесный, да ну-ко болото высохнет?
Мужики долго думали, шептались.
– Лучше болото взять, – сказал кто-то негромко.
– Болото, – возговорили все.
– Ну, вот и чудесно!..
Чиновник снова курит. Староста и прочий синклит предпочитает навытяжку стоять за его спиной.
– Что это у вас, братцы, скотина плоха? Ехал я – лошади как мыши.
– С чаво ей расти-то.
– С голоду сыт не будешь, ребры-то подведет, – слышалось из толпы.
– Луга на оброке-с! – говорит писарь. – За двадцать пять рублей в год.
– Так вот бы вы и сложились.
– Целую зиму резку даем, – гудел кто-то, обрадовавшийся, что, наконец, вспомнили про его давнишнее горе.
– Да у нас и так деньги были…
– Откуда?..
– С кабака. Под кабак старую сборню отдавали – пятьдесят целковых сбили.
– Где ж эти деньги?..
– Деньги у Егор Иванова…
Писарь вдруг откашлянулся, выступил вперед, слегка тронул шею и живот и произнес:
– Деньги точно что пятьдесят цалкавых я на свои руки брал, и как теперича в то время пошли у нас неурожаи, саранча, то я деньги эти для мужичков б церковь божию положил, чтобы две фаругьи (хоругви) справить, в случае, когда молебен, чтобы, значит, от чистого сердца…
Чиновник курил молча…
– Я, вашескородие, для ихнего добра очень стараюсь… Тепериче в Щепыхах пруд изволили видеть? все я-е… Издавна была тут лужа, на этом, стало быть, месте. Ну, я собрал народ, говорю: для вашей же пользы, говорю, так и так… и ежели, говорю, не пойдет кто копать – по уши в землю вгоню… Пошли-с.
– Ну, и выкопали?
– Через неделю, даже трое утонуло…
Писарь снова поправил шею и тронул живот, гордо посматривая на народ.
Чиновник долго сидел молча, докуривая трубку и выпуская большие клубы дыма. Наконец он начал выколачивать трубку в пол крыльца, подул в нее и произнес:
– Ну, братцы, ступайте с богом… Скоро поеду назад, тогда толканитесь.
Мужики молча расходились, надевая шапки не иначе, как за углом.
Желая отдохнуть после трудов, чиновник приказал запереть ставни и притащить сена; встал он поздно; в полуотворенную дверь смотрел розовый кусок неба; доносился топот лошадиного табуна, сзади которого промчался верхом мальчишка без шапки, болтая ногами и локтями; у крыльца пищали чьи-то утки, мычала корова.
– Але, але, – шумела баба с хворостиной на двух басистых свиней.
Писарь доложил, что когда их высокородие почивали, приходили какие-то солдаты с орденами и жаловались на дьячка, что он не учит их детей, а когда, месяц назад, приезжал штатный смотритель, то дьячок начал хватать ребят, попадавшихся на улице, за вихры и приговаривал: «Так-то вы свое начальство благодарите? Я об вас стараюсь, а вы что?»
Чиновник решил, что нужно пойти к дьячку и внушить.
Напившись чаю, он отправился. Дьячок обитал в новой, только что выстроенной после пожара избенке с одним окном; из соломы, покрывавшей крышу, далеко виднелись непокрытые жерди; несколько таких же жердей приставлены были к избе сбоку; дверь, выходившая на улицу, вела прямо в жилье. Это была необыкновенно маленькая комната, перегороженная от угла печи дощатой стеной, за которой почивал дьячок. Он только что проснулся и сидел на своем ложе, с ополоумевшими глазами. Даже появление чиновника не произвело на него никакого действия и не изменило выражения лица; он только несколько начал трясти головой.
Чиновник что-то начал было говорить насчет школы, но дьячок так часто заговорил: «не взыщите нас… в нужде живем», что чиновник остановился.
У потолка жужжали мухи, по стенам полчищами гуляли тараканы и шлепались звучно об лавку или пол. На полатях, на печи виднелись головы; все присмирели при появлении чиновника; два мальчугана, толкавшиеся у дверей, дали друг другу кулаками в живот и заорали на всю комнату…
– Не взыщите нас, – твердил дьячок.
– Не разгулялся еще, – оправдывала мужа дьячиха, выпихивая ребят наружу…
Дьячиха вдруг села на лавку около чиновника, сделала слезливую физиономию и начала:
– Две дочери-невесты… женихов нет… Думали, гадали – что придумаешь-то… хотели за мещанина… – Дьячиха начала сморкать рукою нос, что предвещало близкие слезы.
Чиновник поспешил уйти.
На другой день он уезжал. Перед отъездом ему вздумалось взглянуть казенную лечебницу.
– Что ж, много больных? – спросил он старосту.
– Никак нет-с… Никого больных не слыхать.
– Так никто здесь никогда и не лежит?
– Писарь выпимши точно лежит коли… Да вот, ваше высокородие, не можете ли вы этому мальчонке бумагу какую дать? – заговорил вдруг староста. – Эй, Мить, иди сюда.
От плетня отделился маленький, лет двенадцати мальчишка с крайне старческим лицом, говорившим, что он много видел горя на своем веку. Он был без шапки, и ветер слегка приподнимал махры волос на висках.
– Родители его ушодчи, – говорил староста.
– Как?
– Да бог е знает, куда ушли… Изволите видеть, батьку-то его перво отдали в солдаты – он и жил с матерью. Потом, кольки там ни жил, пришел отец из войны и жену взял, а этому говорят: «Ты маленько погоди, мы сейчас»… Как пошли – вот пятый год…
Чиновник смотрел на мальчишку.
– Который ему год?
– Никак двадцатый, вашескородие, – отвечал староста.
– Чем он занимается?
– Да так: то то, то се: там попасет, там что…
– Хорошо, я подумаю…
Чиновник достал из тарантаса булку и дал ее мальчишке. Мальчуган тотчас же сел к плетню, натянул подол рубахи на свои колени и с великой осторожностью принялся за трапезу, так что ни одна самая ничтожная соринка хлеба не оставалась попусту в его подоле, над которым он держал булку. Это были счастливейшие минуты в его жизни.
И долго уже после отъезда чиновника опустевшая улица и безмолвная сборня невольно наводили мальчугана на мысль о барской булке.
«И что ж это, милые мои, за еда! – сладко думал он. – Уж еда! Ежели этак-то бы побольше поесть, – бесприменно с радости поколеть можно!..»








