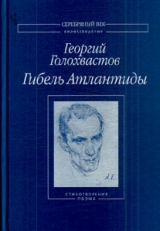
Текст книги "Гибель Атлантиды: Стихотворения. Поэма"
Автор книги: Георгий Голохвастов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц)
«Покаянное письмо было ответом-шуткой на упрек за опоздание с передовой статьей для газеты Р.С.Т. Печатается впервые, как образец легкости, с которой Георгий Владимирович владеет стихом на задуманную рифму.
Б.З.
Добрый друг мой, Борис, сын Аркадия!
Сам себя в своих винах виня,
Умоляю тебя, Бога ради, я:
Не сердись, не гневись на меня.
Ведь бумаги не меньше тетради я
Измарал, – да не вышла статья,
Так как, друг мой Борис, сын Аркадия,
Вновь в упадке был временно я.
Подошла та нелепая стадия,
Когда жизни теряется смысл,
И когда, друг Борис, сын Аркадия,
Я бываю подавлен и кисл.
Что унынье и косность – исчадия
Слабоволья, я знаю, но всё ж
Их сношу, друг Борис, сын Аркадия,
Как в клубок завернувшийся еж.
Но, как видно, для противоядия,
Кстати гостя судьба мне дала:
Словно врач, друг Борис, сын Аркадия,
Прибыл общий наш друг – Магула.
Свойства дружбы таинственней радия.
Не она ль Галаадский бальзам?
Не она ль, друг Борис, сын Аркадия,
Бытия открывает Сезам?
И вот снова на жизненной глади я
Всплыл из омута сплина, и рад,
Добрый друг мой Борис, сын Аркадия,
В Р.С.Т. сделать в августе вклад.
Но дабы из волос моих пряди я
Здесь не дергал, душой изболев,
Напиши, друг Борис, сын Аркадия,
Что сменил ты на милость свой гнев.
21 июля, 1936 г. Locust Valley, L.I.
Полуоправдание. (Ответ критику)
1
Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда…
2
…………….а вот
Полу-журавль и полу-кот.
3
И счастья баловень безродный
Полудержавный властелин.
Стихотворение «Полуоправдание» было написано 28 ноября 1931 года в ответ критику, осудившему не столько содержание сборника «Полусонеты», сколько самое название или даже слово, определяющее форму стихотворений. «Полуоправдание» является лишним подтверждением мастерства Г. В. Голохвастова в пользовании русским словом для передачи мысли (шутливой или глубокой) в художественной форме.
Б.З.
Обруган в пух и прах, судье с полупоклоном
Хочу, полусмеясь, сказать на суд в ответ,
Что я в намек и в яд, полусокрытый в оном,
На полуслове вник и понял весь секрет:
Полупрозрачно мне был дан в укоре строгом
Полуневежды чин… Смиряюсь – я не горд…
Но всё ж, хоть Пушкин был и будет полубогом,
Не страшен мне ничуть его полу-милорд.
Пусть я полу-поэт и средь поэтов парий,
Застряв в полугоре при всходе на Парнас,
Но ярославский слух мой «полу» чтит исстари
И полусотню их лелеет про запас.
Так под запрет идя, я счел бы полумерой
Один полусонет похерить; но могу ль
Я полушарье крыть с испуга гемисферой,
Иль полуостров звать со страху пенинсуль.
Нет! нет…. «Полу-журавль» милей таких увечий.
Не зря ведь русский труд полутора веков
За полушагом шаг теснил из русской речи
Весь полубарский шик смешенья языков.
И вот, страны родной изгой полуопальный
И только полугость в получужих краях,
Я до полуночи на полулист начальный
Всё новые слова вносил в полусердцах.
Полузабытый Даль – маститый мой сотрудник:
В нем много добрых слов; там встретим полутон,
Отметим полупух, получулки, полудник…
Мне могут возразить, что дик «полуопон»,
Что в редкость полупар и утки полукряквы,
Что полуповод стар, что чужд нам полуплуг,
Но полусаблю всё ж не выведете в брак вы,
Вы полубархат взять не в силах на испуг.
Я верю, Пушкин сам, блеснув «полудержавным»,
Любил полузипун на русском мужике
И грамоты царей с письмом полууставным
И с полудюжиной печатей на шнурке.
А нам, не люб ли всем нам снег полуаршинный?
В походе знали мы в полупути привал,
По полугодиям жизнь вел школ уклад старинный,
Ценил, покаюсь вам, я полуимперьял.
В церквах любил я тишь напевов полугласных
И полутемный Лик с всеблагостью в очах,
Дрожащий полусвет лампад иконостасных,
И полуталый воск, оплывший на свечах.
В своем полку родном любил я полуроту
(Как, верно, Фет-улан свой полуэскадрон),
Полуденных часов кипучую работу
И получасовой дневной, бодрящий сон.
Любил я лагеря под Красным полуссылку
И летний Петербург, в жару полупустой,
В «Аквариум» наезд, вина полубутылку
И с полухмеля шум пирушки холостой.
Как в полусне, поднесь я грежу о цыганах…
От полувечера до утренней росы
Чавалов истовых в усах, в полукафтанах,
Полупропитые, гудящие басы.
В их песне то разгул кочевья полудикий,
То с полутакта, вдруг, щемящая печаль…
А в полумраке смех… и дерзко мечет блики
Цыганки пляшущей цветная полушаль.
Полупорожние покинуты бутылки,
И в полузабытьи играет кровь живей —
Полураскрытых губ так нежит трепет пылкий,
Так близок полукруг изогнутых бровей.
От дрогнувших ресниц упали полутени,
А где-то в глубине полусмеженных глаз
Зарницей блещет страсть с налетом полулени,
И кроется посул в загадках полуфраз.
Полуживая быль… Но сразу от цыганок
Я, полуночник, в даль стремлюсь в моей мечте:
Мне снится лента рельс… ряд станций… полустанок…
И вот от дома я уже в полуверсте.
Вот полупьяный Клим, в рубахе без поддевки
(Иль в полушубке Клим, коль дело по зиме),
Сажусь… удар вожжей, и лихо полукровки
Со звоном бубенцов уж мчатся в полутьме.
В полудороге спуск; река за перелеском,
По зыби, не спеша, ползет полупаром, —
А полулунья серп мерцает бледным блеском,
И полусумрак весь пронизан серебром.
Но дом наш полумертв… В нем шумы, шорох, шелест.
Как полувнятный сказ минувших катастроф;
Уж полусгнивший пол в пустынном зале щелист,
Полуистлев, повис в клочках обойный штоф.
А здесь… давно ли здесь, полураздетый в спальне
При полумесяце я грезил… Жизнь прошла…
И полувековой души мечты печальней,
Как полугара хмель лет память тяжела…
И, полулежа, я по хмелю, вдруг, в затишьи
Душой затосковал… Смирновки полуштоф
Так ясно стал в уме, что чуть на полустишья
Не бросил я своих полупечальных строф,
Решив, что «полу» вздор, что правы вы в оценке,
И что исход один: хороший полувзвод —
Без жалости Полубояриновых к стенке
И Полуектовых без милости в расход.
СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В СБОРНИКИ[1]1
Стихотворения этого раздела, кроме двух последних, печ. по: Из Америки. Стихотворения / Е. А. Христиани, Г. В. Голохвастов, Д. А. Магула, В. С. Ильяшенко. – Нью-Йорк, 1925.
[Закрыть]
ПесняБезумье
Песнь крылатая, детище мысли недремлющей,
Птицей пленной томится и бьется в мозгу
В жажде жизни для грезы всесильно объемлющей:
«Отвори! Отпусти!» – Но что я-то могу?..
Только сердце одно властно ключ заколдованный
Подобрать к неизведанной тайне замка
И тюрьму распахнуть, чтобы узник взволнованный —
Песня вырвалась вольно, светла и звонка.
Радость
Грезы безумца, влюбленного в сны, —
Гордые вещие птицы,
Гостьи для нас недоступной страны,
Вестницы новой весны,
Бога, нам чуждого, жрицы.
Грезы безумца, влюбленного в сны, —
Небо иного зарницы,
Странные тайны морской глубины,
Сказок далеких страницы,
Жалобы близкой струны…
«На тебе бесстрастья тога…»
Закрой пророчеств грозных книги,
Прочь страх, суровый поводырь!
Сбрось отречения вериги, —
Строй новый, праздничный псалтирь
И в ощущеньи ярком Бога,
Не видя в радости греха,
Будь сыном брачного чертога
При светлой встрече жениха!
Ночью
На тебе бесстрастья тога:
Нет желаний, спит тревога,
Сны не снятся наяву…
И, как нищий, у порога
Недоступного чертога
Тщетно я тебя зову.
Мгновенье
Волна наш челн слегка качала,
Переливая лунный блеск.
Зыбь серебрилась, даль молчала,
Баюкал вёсел мерный плеск.
Как бы исполненный печали,
Тих был храм ночи… И, полны
Тревогой странной, мы молчали
Под сказки моря и луны.
После грозы
Распахнувши звездный полог,
Ночь прониклась тишиной.
Очертанья стройных елок
Серебрятся под луной.
Светлый миг! Но как недолог,
Как неверен свет ночной…
Песня, прежних дней осколок,
Гаснет с ним в глуши лесной!
Похмелье
Миновала гроза, тают тучи,
Глух в дали замирающий гром,
Дождь прошел молодой и пахучий,
Только капает с веток кругом.
Пряно пахнет землею сырою
И из сада, с оживших куртин,
Ветер веет в окно резедою
И кадит ароматом жасмин.
А закат раскаленною лавой
Разлился и пылает, рядя,
Как в рубины, игрою кровавой
Непросохшие слезы дождя.
Зов смерти
Жизнь пуста. Заманчивою целью
Не зовет враждебная мне даль…
Я отдамся светлому похмелью:
Пусть уступит ложному веселью
Неподдельная щемящая печаль.
Прочь тоска от звонкого бокала!
Эй, вина! Скорей еще вина,
Чтоб струя, запенившись, сверкала,
Чтоб победно в душу проникала
Грез хмельных мятежная волна!
Звездочет
Чем больше близких сердцу сходит
В навечный сон глухих жилищ,
Тем чаще чувство нас приводит
К молчанью мирному кладбищ.
Там, в тишине, в кудрявой чаще
Смерть не страшна и не чужда,
Но всё желаннее и слаще
Мысль о покое навсегда.
И, словно шепот губ незримых,
Мы в ветре слышим, не скорбя:
«Иди же! Средь могил родимых
Найдется место для тебя!..»
«Ночь поет тишиною безбрежной…»
Планет таинственнее сдвиги
И смысл сплетенья их орбит
Прочел я в знаках звездной книги,
Путей небесных следопыт.
В них сочтены все жизни миги;
В них Рока путь… И дух скорбит,
Внемля тяжелый гул квадриги
И топот кованных копыт.
Песни жизни
Ночь поет тишиною безбрежной
Колыбельную песню земле
И ее убаюкала нежно
На своем тиховейном крыле.
Сын земли непокорный и блудный,
Изнемог я и грезу таю,
Чтоб овеял покой непробудный
И бессонную душу мою.
Суд
С напева тихой колыбельной
Со «Со святыми упокой»
Все песни жизни неподдельно
Звучат глубокою тоской.
И, по отчизне запредельной
Томясь, бессмертный дух людской
О небесах скорбит смертельно
В гостях у пошлости мирской.
Но – будет день: в минуту тлена
Его земного естества,
Свободный дух от уз и плена
Умчится с песней торжества.
Суд же состоит в том, что Свет пришел в мир.
От Иоанна 3, 19
Курган в степи
Творящий злое – свет ненавидит,
Боится света и льнет во тьму,
Страшась, что в свете весь мир увидит
Его паденье, на стыд ему.
В добре живущий, как счастье, встретит
Луч каждый света, он любит свет,
Который в сердце его осветит
Господней правды святой завет.
Но день настанет. И Свет Грядущий
Всех осияет – и прослывут
Творящий благо и в зле живущий
По их деяньям… И в этом – суд…
Осень
Здесь встарь шумел военный стан,
Мечи бряцали перед боем,
Пел славу витязям баян;
Здесь рать орды с зловещим воем
Толпой сшибалась с тесным строем
Победоносных россиян.
Теперь же радостным покоем
Объята степь. День, полный зноем,
Не грезит кровью страшных ран…
Лишь над неведомым героем
Безмолвный высится курган
И в полночь бледным смутным роем
Выводит призраков туман.
Встреча («Ты мелькнула трепетною тенью…»)
Осень бледная тихой царицей идет,
Хмурый лес в позолоте с багрянцем.
Рдеют гроздья рябины, листов хоровод
В ветре кружится трепетным танцем.
Небо сине еще, солнце ярко блестит,
Но уж холоден воздух хрустальный,
И природа о лете ушедшем грустит,
Час разлуки встречая прощальный.
Умирает природа… Но как хороша
Эта смерть с ее светлой печалью.
Умереть бы теперь, чтоб слилася душа
С этой чистой, хрустальною далью…
Доверчивости
Ты мелькнула трепетною тенью
На моем сердечном пустыре,
Но ушла, как тучка на заре,
Не ответив страстному смятенью.
Ты ушла, беспечна и ясна.
Миг солгал и снова запустенью
Сердца жизнь без смысла предана.
Суеверия
Оскорбленный, угрюмый, на тризне
Прожитого, – дивлюсь я, как ты
Можешь счастья лелеять мечты
В нашей страшно поруганной жизни!
Но так детская вера светла,
Что мне жаль, волю дав укоризне,
Сжечь твой храм упований дотла.
Призыв
Гневом правили древние темные боги,
Сторожила людей их неправая месть,
И в те дни человек, полный вечной тревоги,
Всюду казни грозящей подслушивал весть.
Бедный ум уловлял жути полные знаки,
Робко чуяло сердце предвестье беды —
В дальнем гуле грозы, в лунном вое собаки,
В криках воронов злых и в паденьи звезды.
Кроткий Бог просиял… Но напрасно монахи
Проповедуют благость и царство любви:
Живы в сердце поднесь заповедные страхи,
Отголосок былого, наследный в крови.
Будят трепет каких-то тревог безотчетных
Огоньки на погосте, плач жалобный сов,
Черной полночью стоны в затонах болотных
И неясные шумы полночных часов…
И я странно люблю эту власть суеверья,
Темный страх дикаря в наши мудрые дни,
Точно им с миром древности слит и теперь я,
Давним пращурам снова как будто сродни.
Словно так же, как в прежние темные годы,
Говорит мне яснее бесчисленных книг
Голос птиц и зверей, речь немая природы
И событий мирских сокровенный язык.
Я в миру не чужой. Эти птицы и звери —
Мне друзья, и порой дружелюбная речь,
Чуя бедствий приход, зная близость потери,
Хочет сердце мое наперед остеречь.
Остеречь стародавней приметой намека,
Что недобрым грозит мной задуманный шаг,
Что сулит неуспех воля тайного рока,
Что замыслил удар неожиданный враг.
И я верю… И жду неизбежной невзгоды…
Ведь всё тот же мой ближний, мой брат-человек,
И всё та же судьба в наши мудрые годы,
Как и в мраке столетий, в прадедовский век.
На кладбище
Ты позвал – и я бреду
В неизведанном бреду
К высотам пустыни горной,
Днем – по солнцу, ночью черной —
На далекую звезду.
Труден путь… Иду упорно
Без раздумья на ходу,
Только веруя покорно,
Что с водою животворной
Твой источник я найду!
Сомненья
Мирно на кладбище старом…
Тишь за чертой городской.
Запад огнится пожаром,
Веет вечерний покой.
Дремлют березки и клены,
Лист на ветвях не дохнет,
Медленно в чаще зеленой
Благовест мерный плывет.
В песне звучит колокольной:
«Путник, приляг и дремли,
Здесь отдыхают безбольно
Дети усталой земли…»
Победа[2]2
Печаль… Деревьев голых прутья,
Как пальцы, тянутся в туман,
И туч разорванных лоскутья
Осенний гонит ураган.
В сомненьи новом, у распутья,
С ожившей болью старых ран,
Кляну исканья и вернуть я
Молю мне прошлых дней обман.
Четырнадцать. Кружок русских поэтов в Америке. – Нью-Йорк, 1949. С. 47.
[Закрыть]
Святая могила. Старо-Крымская легенда[3]3
Вновь за Окой орда раскинула шатры,
Опять для дани в Кремль пришел посол со свитой
И зван он на прием в палате Грановитой,
Где в окна бьют лучи полуденной поры.
Над царским местом сень; пушистые ковры;
У трона – знамени полотнище развито.
Бояре в золотах застыли сановито,
И на плечах у рынд мерцают топоры.
В венце и бармах царь. Он поднял Русь из праха,
У Византии взял он блеск и мощь размаха, —
Татарским данником невместно быть ему:
И увидал баскак, затрепетав от страха,
Что Иоанн ступил на ханскую басму.
А солнце крест зажгло на шапке Мономаха.
Новый Журнал. Нью-Йорк. 1944. № 9. С. 156–161.
[Закрыть]
I
Три сотни лет – не малый срок,
Но триста лет назад, как ныне,
Со скал сбегающий поток
В камнях змеился по долине.
И также триста лет назад
Шумел бессонно лес зеленый,
Одев, как свежий Божий сад,
Окружных гор крутые склоны.
А четкий в небе минарет
У пестрой каменной мечети
Уже и в дни тех давних лет
Повит был памятью столетий.
И Курд Тадэ-хаджи в те дни,
Спокойный в мире суетливом,
Уединенно жил в тени
Густого сада над обрывом.
Хаджи был мудр. В толпе людской
Никто, ни раньше, ни позднее,
Не встретил благости такой,
Души теплей, ума яснее.
Не исходило слово лжи
Из уст Тадэ. Участлив в горе,
Судьей правдивым был Хаджи
И благосклонным в приговоре.
Земных соблазнов зная сеть,
Прощать умел он человеку…
Не потому ль ему узреть
Судил Аллах три раза Мекку.
И, по обету, он в пути
Колодезь вырыл, чтобы каждый
Усталый путник мог найти
Там утоленье жгучей жажды.
Святое дело. Кто зарок
Такой исполнил, – умирая,
Тот будет счастлив: сам Пророк
Пред ним раскроет двери рая.
Премудрых чтить – велит Коран.
И, Курд Тадэ завидя, люди
Пред стариком склоняли стан,
Прижав смиренно руку к груди.
Когда через аул старик
В часы намаза шел к мечети,
Его встречал ребячий крик, —
Незлобных сердцем любит дети.
И поднимался от земли
На минарет он без усилья,
Как будто к небу, в высь, несли
Святого ангельские крылья.
II
Но никогда сказать нельзя,
Что жизнь окончена, доколе
Ее судьбы земной стезя
Не прервалась по Высшей воле.
Как Курд Тадэ ни стар, но вдруг
Весь озарялся он улыбкой,
Когда Раймэ среди подруг
Скользила в пляске змейкой гибкой
Когда порой ее напев
Тревожил грустью сон ущелья,
Иль смех ласкался, прозвенев
Как колокольчик, в миг веселья.
Он, воплотив мечту свою,
Обрел в Раймэ прообраз гурий,
Сужденных праведным в раю,
В благоухающей лазури.
Когда же падала фата
И, в самовластия горделивом,
Очей бездонных темнота
Манила сладостным призывом, —
Смущался праведный старик
Пред женской вкрадчивою властью
И в сердце, чистом как родник,
Невольно кровь вскипала страстью.
Едва Раймэ любви слова
Ему шептать украдкой стала,
Сдался он чарам колдовства
И словно начал жизнь сначала.
Как прежде, снились счастья сны
И мир был молод, как бывало…
И было б так. Ведь в дни весны
Чье б сердце вновь не ликовало,
Что пробужденная землям
Срывает узы спячки зимней,
Кто б не был счастлив вновь, внемля
Привет любви в весеннем гимне.
Любовь хаджи была ярка
Всей мощью страстного горенья,
И знало сердце старика,
Что нужных слов благодаренья
В бессильной нашей речи нет,
Чтоб принести к стопам Пророка
За клад любви на склоне лет,
За сказку счастья – после срока.
А время шло. И, как волной,
Смывала дни рука Господня:
Что завтра даст удел земной,
Никто не ведает сегодня.
III
С работ в саду вернувшись раз,
Хаджи застал Раймэ в печали:
Потухший взор любимых глаз
Туманом слезы застилали;
Зловещей тенью налегла
Печать неведомых страданий
На очерк чистого чела,
И грудь терзал наплыв рыданий.
«Раймэ, Раймэ, о, что с тобой», —
Вскричал хаджи, но смолк мгновенно,
Уста Раймэ, с немой мольбой,
Замкнулись в думе сокровенной.
А ночью, в лунной тишине,
Пахнул душистый ветер горный
И старику в тревожном сне
Навеял скорбь, как призрак черный.
Он слышал стон и зов в тиши;
«Люблю, – шептало эхо ночи, —
Вернись, желанный, – жизнь души!
Недолго ждать: уж скоро очи
Смежит старик, и нас любовь,
Как раньше, сблизит неразлучно…»
Опять и снова зов, и вновь
«Люблю!» – вздыхает эхо звучно.
Хаджи очнулся. Страшный сон…
И вдруг душа похолодела;
Не ощутил на ложе он
Своей подруги юной тела.
Спеша, он встал. Дрожат уста,
Трясутся старые колени.
А сакля тихая пуста
И настежь дверь из сада в сени.
А на скамье из гладких плит;
В туманной дымке у обрыва,
Раймэ рыдает и твердит
Слова любовного призыва.
Еще темно в низах долин,
Но уж светлеет над мечетью;
И, верно, скоро муэдзин
Уже споет молитву третью.
Тайком, боясь Раймэ вспугнуть
В ее печали одинокой,
Хаджи ушел, направив путь
К горам, к Папас Тепэ высокой.
Взойдя тропинкою меж скал,
Старик на дремлющей вершине
К ее груди немой припал,
Безмолвный в ропщущей кручине.
IV
Как тайный яд, двуличья ложь
Сжигала кровь его пожаром,
Меж тем, как ледяная дрожь
Росла ознобом в сердце старом.
Хаджи в смятеньи изнемог,
В чаду ревнивого тумана
Уже, казалось, он не мог
Простить змеиного обмана,
Он, тот, кто всё прощать привык.
Но вдруг душа прозрела снова
И громче совести язык
Был человеческого слова:
«Я знал весь круг земных утех,
Давно свою изведал часть я
Восторгов сладостных, и грех
У юных вырвать кубок счастья.
Пусть молодое с молодым
Соединяется победно,
Пусть жизнь моя, как легкий дым,
Теперь развеется бесследно,
И, если прав я, пусть Творец,
Благословив мое решенье,
Для счастья любящих сердец,
Дарует помыслу – свершенье».
Так, сам восставши на себя
И победив в неравной битве,
Томясь, прощая и любя,
Забылся Курд Тадэ в молитве.
И отошла его, душа
От обессилевшего тела:
Блаженной радостью дыша,
Она, как птица, отлетела
Туда, где вечен и един
Царит Аллах в бессмертном свете…
А в это время муэдзин
Пел третий раз на минарете.
Велик Аллах. Прошли века,
Забылось всё, что прежде было,
Но холм могильный старика
Поднесь слывет Святой Могилой.
И вера есть у жен и дев,
Что, если грудь теснит утрата
И сердце ждет, осиротев,
Любви потерянной возврата,
Тогда над гробовой плитой
Целебен жемчуг слез влюбленных:
В раю внимает им святой
И вновь сближает разделенных.
ГИБЕЛЬ АТЛАНТИДЫ. Поэма (Нью-Йорк, 1938)
Владимиру Степановичу Ильяшенко
Хочу, мой друг, почтить те часы задушевности,
Когда с тобой вдвоем уносились мечтой
От скучных будней мы к незапамятной древности,
Туда, где мир легенд – как мираж золотой.
Змеясь в горах, в лесах и в пустынях молчальницах,
Сквозь тлен вела нас цепь знаменательных вех:
Под лавой ряд колонн, письмена в усыпальницах,
В пещерной тьме чертеж и средь джунглей кромлех.
Единый веял дух с пепелищ созидания,
Дышала жизнь одна в запустеньи руин;
Родились силой уз и преемством предания
Сумер, Египет, Крит, Джамбудвина и Син.
Манила истин весть за обрядностью жреческой;
Шептал о правде миф. Всех божеств Пантеон
Сливался в мысль одну для души человеческой:
В ней зрел бессмертья сон… нерастраченный сон…
Он смертным снился встарь лишь в тиши одиночества,
Но вечный смысл его пред тобой был раскрыт;
Познав мистерий суть, прозревая пророчества,
Всё в глубь ты звал меня, проводник-следопыт.
Ты шел и вел всё в даль за мечтой человечества.
Как мощь прибоя, рос откровений наплыв…
И вдруг воскресло всё… Словно зов праотечества,
Из бездн дошел до нас Атлантиды призыв.
Возник блаженный край. И чудесно-загадочный,
Соблазна полный, всплыл мужеженственный Лик…
О, этот древний бред! В нем восторг лихорадочный,
В нем дум мятежных вихрь, в нем созвучий родник.
Единству гимн гремел в первобытной напевности,
И только вторил я сладкозвучной волшбе…
Прими! Я грезу-быль, завещание древности,
Тобой добытый клад, посвящаю тебе.
26 ноября 1935 года Нью-Йорк
I.ЧАРЫ АТЛАНТИДЫ
Deep into that darkness peering, long I stood there
wondering, fearing,
Doubting, dreaming dreams no mortal ever dared
to dream before…
Edgar Allan Poe
Стемнело. Вечер короткий угас;
Владеет полночь умолкнувшим домом.
А я, бессонный, в задумчивый час
Склоняюсь вновь над разогнутым томом
Трудов Платона. Как прежде, опять
Я внемлю старцу, но с новым подъемом
Теперь пытаюсь прозреть и понять
Впервые что-то в рассказе знакомом.
Так внятен сердцу преданья язык,
И брезжит даль, где небесных владык
Пронесся гнев сокрушающим громом:
Там Атлантиды пленительный лик,
Подобный сфинксу, загадкой возник,
Маня улыбкой с печальным изломом.
И, знаньем гордый, наш мир обольщен
Мечтой чудесной, родной испокон.
Но в грезе этой не сказки прикраса,
Не бред, а быль. Не со всех ли сторон
В потемках мифов, в намеках письмен
Мы слышим весть о потомках Атласа?
И прах развалин, и тлен похорон
Их жизнью веют; их след сохранен
У дельты Нила, в глуши Гондураса,
Близ волн Бискайских, где жил кро-маньон,
И там, над Тигром, где правил Саргон,
Где встарь к дворцу с зиггуратом терраса
Вздымала лестниц и сходов уклон;
Поднесь, как эхо, их быт отражен
Чертой нежданной в быту папуаса,
Их мыслью в солнце Атон воплощен,
И в мудрость Вед, в изощренный канон,
Их дух вковал вдохновенный Виаса.
И странно дорог и близок мне он,
На утре жизни приснившийся сон:
Блаженный край; величавая раса —
Венец творенья, праматерь племен…
И – смерть… Всё так же горит Орион,
Всё так же ярки огни Волопаса,
Но дивный Остров стихийно сметен…
То суд ли Божий? Природы ль закон?
Никто не знает! Оракул Парнаса
Молчит, не выдав ни дел, ни имен;
Молчат пророки древнейших времен,
Не помнит странник из Галикарнаса
О том, что слышал в Саисе Солон,
И даже сам провозвестник Платон
Скрывает правду последнего часа…
И вновь, и вновь я, внимательный чтец,
Вникаю в повесть, в тревожный конец,
Где, в страшный срок воздаянья, мудрец
Приводит нас на совет чрезвычайный,
Когда в престольном чертоге небес,
Откуда мир открывался бескрайный,
Воззвал к богам о возмездьи Зевес.
Но прерван сказ. Обаяние тайны —
Как тишь во храме за шелком завес…
Зачем же смолк ты, сокрытых чудес
Последний в мире наследник случайный?
На чем прервал летописную нить?
Какую правду не смел возвестить?
Ответа нет. И рассудок холодный
Еще сегодня доказывал мне,
Что стал легендой пра-остров подводный,
Что в думах наших о дивной стране
Напрасно ставим всё тот же вопрос мы,
Когда над жертвой пучины веков
Пучина вод разметала, как космы,
Седые гривы лохматых валов,
И лишь тоскливый напев панихиды
Порывы бурь безымянно поют
Над черной бездной, где быль Атлантиды
Нашла навеки последний приют.
Пусть гордый разум был прав непреложно!
Но в полночь к сердцу прихлынула рать
Надежд крылатых, и в близости ложной
Мечте казалось легко и возможно
Сломать на свитке запретном печать…
Хочу! Я должен, мне надо узнать!
Мне шепчет память, мерцая украдкой,
Что в древнем мире с далекой загадкой
Я властно скован незримым звеном,
Что в эту полночь о близком, родном
Мой дух тоскует в разлуке и сладкой
Мечтой живет, что придет череда
Для встречи новой!.. – Но где и когда?..
А в мертвом свете у лампы настольной
Всё так же ждет недомолвка страниц,
И мысль над нею томится невольно,
Будя немое молчанье гробниц…
Узнать! Издревле забытую повесть
Узнать я вправе! Бессмертная совесть
Укор твердит мне. Какой же виной
Я встарь навлек приговор Немезиды,
Чтоб мог с тех пор тяготеть надо мной
Безвестно-страшный конец Атлантиды?!.
Я грежу… В книге, как в тайном письме,
Сквозь строки букв, словно яркие маки,
Огнем горят начертанья и знаки.
И бред ли вызвал виденья в уме,
Иль я читаю прошедшее в книге,
Но древний мир мне открылся во тьме,
Из бездн исторгнут в насильственном сдвиге.
Всё то, что знало и смерть, и распад,
Встает из гроба под властью наитья,
И вновь столетий потухших события
Руслом пройденным струятся назад:
Идут, как волны, и против теченья
Текут к истокам зоны земли,
Мечты вселенной опять расцвели,
Полны былой красоты и значенья.
И, словно глядя в волшебный хрусталь,
Я вижу мира прожитую даль.
Исчезли чудом пространство и время;
Мне виден путь человечества – весь:
От благ житейских, достигнутых здесь,
До зорь, согревших начальное семя
Всемирной жизни. И пестрая смесь
Картин цветет пред расширенным взором
Единым, тканым в эфире узором.
Бушуют ветры, огонь и вода.
Но люди стойки; и жизни побеги
Победу воли, ума и труда
Несут от мрака ночного и льда
К вершинам славы, познанья и неги:
В пустынях прежних шумят города,
По горным кручам кочуют стада,
В морях враждебных бесстрашно набеги
К безвестным странам свершают суда,
И ход тяжелый скрипучей телеги
Упорно в чащи врезает свой след;
Горит религий восторженный бред,
Дрожат на лирах созвучья элегий,
И сонмы старцев в затишьи бесед
Чеканят мудрость для Библий и Вед.
Но жутко слиты химеры утопий,
Искусств и знанья изысканный культ
С огнем пожаров, с угрозою копий
И грузным лётом камней с катапульт.
Идут фаланги; грохочут квадриги.
Дают отпор легионам – орды.
Защита чести под знамя вражды
Зовет вассалов; во имя религий
На брань скликают и Крест, и Луна;
И в жажде славы Цари и Стратиги
На бой ведут за собой племена.
Народ встает на народ… И война
Заветы правды попрала и стерла.
Весь мир охвачен похмельем борьбы.
Звучат напевы походной трубы,
Дымятся пушек нагревшихся жерла,
Земля и воздух дрожат от пальбы,
Сшибаясь, кони встают на дыбы,
И, словно вопль из единого горла,
Несутся стоны, проклятья, мольбы.
Бессильны в храмах орган и молитвы,
И гибнет труд человеческих дел,
Когда на грудах растерзанных тел
Решают кровью безумные битвы
Царей и царств мимолетный удел.
В кипении буйном, в смятеньи великом
Всплывают явью виденья веков,
Неся с собою, в сплетении диком,
Торговли гомон с воинственным кликом,
С призывом отрасти – молитвенный зов.
Всё ближе, ярче, яснее виденья,
Всё громче, громче нахлынувший гул,
И нет меж мной и былым средостенья:
Уже в лицо мне порывом дохнул
Далекий ветер чужих поднебесий,
И в душу влил, в одуряющей смеси,
С других земель и с иных берегов —
Дымок согретый людских очагов,
И теплый пар первоподнятой нови,
И нард курений, повивших алтарь,
И чад пожаров, и пороха гарь,
И душный запах дымящейся крови.
Он мой, он мой, этот явственный вздох!
Преграды пали, и сроки созрели:
Живой вне жизни, как древний Енох,
Вхожу я в призрак минувших эпох.
Мой зов услышан! Теперь неужели
Мне правды жданной не скажут века?
Где ж ключ к Познанью? Пора! Я у цели
И тайны темной разгадка близка.
Теперь с надеждой, внезапно зажженной,
Устав просить, как я прежде просил,
Я только жажду. Дрожат напряженно
Все струны в сердце, исполненном сил.
Я весь в едином желаньи до боли,
Я весь в одном устремленьи души;
А звучный голос настойчивой воли
Внушает властно: – «Начав, заверши!
Желай и будет! Ты избран – исполни!..»
И вот… вот грянул раскат громовой,
Зарделось небо; от пламени молний,
И ночь прожег ураган роковой, —
Взметая звезды, как дождь огневой.
То гнев ли Неба? Предсказанный час ли
Призыва громких архангельских труб?
Но вихрь промчался, и тая, как клуб
Тумана тает, виденья погасли;
С бессильным криком, сорвавшимся с губ,
Язык мой замер; мой слух, словно воском,
Беззвучьем залит, и взор мой ослеп;
Не дрогнет тишь ни одним отголоском,
Нависший мрак – замурованный склеп.
Умолкнув, сердце во тьме безглагольной
Стоит, как жернов, уставший молоть,
И, точно пепла сухая щепоть,
Без, тленья, в быстром распаде, безбольно
В летучий прах рассыпается плоть.
Не это ль смертью зовем до сих пор
Привычный мир ощущений потух,
И стал свободен очнувшийся дух
От уз непрочной, коснеющей формы,
А взор бесплотный извне обращен
Опять к виденьям отживших времен.
Из далей снова столетья-минуты
Скользят, как цепь неразрывных колец;
Былое живо – бессмертный мертвец:
Народов гордость и рабские путы,
Любовь и скорби бессчетных сердец,
Триумфы, распри, удачи и смуты,
Ценой падений – познанья венец,
И труд бесплодный, нуждою пригнутый.
Чреда событий: Столетья-минуты
Бегут, как цепь неразрывных колец:
Бегут и гибнут. Вот грозный Кортец,
И царства Майев несчастный конец;
Вот Крест Голгофы, позорный и лютый;
Уста Сократа над чашей цикуты,
Псалмы Давида средь стада овец,
Египет – тайн нераскрытых творец,
И Ур-прапращур… Столетья-минуты
Бегут, как цепь неразрывных колец.
А там, там дальше, где, с бурями споря,
В просторе мрачном шумит океан,
Исходит Остров зеленый из моря,
И древний город, как страж-великан,
Стоит в сединах величья и бедствий.
И воздух дрогнул при клике: «Ацтлан!»
Что это? Зов?.. И не сам ли приветствий
Привычный клич я бросаю в туман?
Ацтлан, Ацтлан!.. И, как отклик, оттуда,
Из этих далей я слышу ответ.
Снопами брызнул прорвавшийся свет,
А тишь проснулась от дальнего гуда,
И я охвачен предчувствием чуда.
Мой дух разбужен в своем забытьи;
Родятся сил животворных струи,
И слышу я, что в зыбях их слияний
Зачатья тайна опять свершена,
Что теплой крови густеет волна,
Что снова ткутся телесные ткани,
Что в плоти дрожь бытия зажжена.
Ваятель Вечный заботливо лепит
Живое тело, амфору души.
И так лучи естества хороши,
Так жгуч костей оживающих трепет,
Удары сердца так звучны в тиши.
Никем из смертных, воистину, не пит
Восторг подобный! Дарован возврат
Мне в бренный мир от неведомых врат!
Прекрасна жизнь после краткой разлуки:
Тепло, сиянье, и звуки, и звуки.
Играет в жилах горячая кровь,
И тело бодро, и трепетны руки,
И дышит грудь с наслаждением вновь.
Невольно жмурясь от света, сперва я
Бросаю взгляд из-под дрогнувших вежд.
И вижу: вьется тропа полевая;
Иду я; складки широких одежд
Шуршат, колосья в пути задевая;
А посох, крепкий, как прочный костыль,
Концом уходит в глубокую пыль;
Мой лоб, повитый повязкой свободной,
Овеян солью и влажностью водной,
И ветер с шири лазурной воды
Колышет пряди седой бороды.
Легко и гордо звучит на чужбине
В затишьи поступь неспешных шагов.
И свет, и радость в окрестной картине:
Смеются волны в кайме берегов,
Ручьи лепечут, змеясь по равнине,
Луга зовут в свой росистый простор;
За ними – город под дымкою синей,
Над ними – главы серебряных гор.
Всё так мне близко, желанно и мило.
А в небе всходит дневное светило,
Разлив в лазури багряный пожар;
И сыплет миру пылающий шар
Лучей потоки, как благостной силой
Творящей жизни исполненный дар.
Пред светлым Ликом, курясь, как кадило,
Земля томится; алеющий пар
В горах клубится на снежных вершинах,
Цветы струят благовонье в долинах,
Леса вздыхают росой и смолой.
И я пред Диском с простою хвалой
Поник, дивясь воскресения чуду,
Молясь за новый нежданный удел!
И слышу, голос как гром прогремел,
Могучий, грозный и слышный повсюду:
«Я был, Я есмь, Я вовеки пребуду
Един бессмертен и целостно-цел».
И хлынул свет в прояснении мысли;
Весь смысл былого восстал предо мной:
Закон Единства – закон основной!
Над ним угрюмо, как полог, нависли
Века забвенья; минувшего даль
В обманах скрыла Завета скрижаль…
Но Солнце Правды над мраком и ложью
Победно всходит. Я вдруг узнаю
В стране безвестной отчизну свою,
И сердце старца охвачено дрожью.
Не гость я здесь, а в родимом краю,
В старинном царстве великих Атлантов.
Я знаю каждый изгиб берегов,
Роптанье моря, приволье лугов
И выси горных молчащих гигантов;
Я знаю ширь полевого ковра,
Селений мирных радушные виды
И мощный город, шумящий с утра.
Всё это было, как будто вчера!
Я вспомнил! Вспомнил! Я – жрец Атлантиды,
Верховный маг светозарного Ра.
Декабрь, 1931 года, Нью-Йорк







