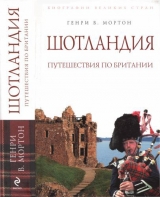
Текст книги "Шотландия: Путешествия по Британии"
Автор книги: Генри Мортон
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 36 страниц)
Однако по сути Арран остается неизменным. Хотя современная транспортная система связала его с материком, в духовном смысле он остается частью Внешних островов. Долгими зимними вечерами, когда над проливом Килбраннан завывают атлантические ветры, арранцы собираются у своих камельков, и я уверен, что там, как встарь, звучит гэльская речь.
Этот остров чудом уцелел. Вполне могло бы статься, что он исчез с современной карты Шотландии. Достаточно было клану Гамильтонов хоть на время ослабить хватку или же дать больше воли земельным спекулянтам, чье понятие о красоте определяется размерами дневной выручки, – и нам пришлось бы навсегда распроститься с Арраном. Он превратился бы для нас в место, которое лучше обходить стороной. В Шотландии столь часто ругают землевладельцев, что думается, будет справедливо сказать несколько теплых слов в их адрес. От имени всех, кто любит и ценит природу Шотландии, я хочу принести благодарность владельцам Аррана за их твердую и принципиальную позицию в вопросах застройки острова. Именно их стараниями удалось спасти прекрасные арранские берега от незавидной участи парка развлечений.
Гордостью и красой острова является долина Сэннокс. Представьте себе три мили самого дикого хайлендского пейзажа. По обеим сторонам долины вздымаются крутые холмы, голые и суровые. В первый момент на ум приходит сравнение с Гленко, но стоит присмотреться, и вас осеняет: да это же копия долины Слайгахан на острове Скай! То же величественное уединение и жутковатое ощущение, что вы очутились на краю мира. Мне трудно передать это впечатление словами. Когда вы находитесь в Гленко, то осознаете, что тамошняя дикость и бесприютность – при всем ее давящем и пугающем воздействии – не бесконечна. Подобно путнику, идущему по темному туннелю, вы знаете, что скоро все окончится, и вы выйдете на свет. Так и в Гленко: вас согревает знание, что суровая долина скоро выведет вас в гостеприимную местность Баллахулиш, где вы отдохнете душой. В Слайгахане все обстоит совсем иначе. В этой долине присутствует нечто гипнотическое. Перед вашим внутренним взором постоянно маячит призрак ужасных гор Кулинз, и вас не покидает чувство, будто ваше путешествие если и завершится, то неведомо где. Скорее всего, это будет озаренная призрачным светом голубая земля, где обитают фантастические звери и птицы. Крохотная арранская долина Сэннокс производит столь же тягостное впечатление. Так и кажется, будто некие сверхъестественные силы похитили ее из Валгаллы и перенесли на остров Арран.
На исходе дня мы вышли из Корри – я и мой знакомый, который ловил макрель на удочку. Стоял тихий вечер, ни малейшего дуновения ветерка. Мы пересекли прибрежную галечную полосу, по которой были разбросаны огромные валуны. Должно быть, эти камни попали сюда из Скандинавии еще во времена ледникового периода. Мы погрузились в лодочку моего приятеля и вышли в зеркально спокойное море. Всякий раз, когда весла поднимались в воздух, с них падали блестящие капли расплавленного серебра. Солнце уже опустилось за горизонт, на небе пламенела вечерняя заря.
Пока мой товарищ забрасывал леску в неподвижные воды, я правил ближе к берегу. Слева от нас вырисовывались очертания Аррана. С каждой минутой – по мере того, как меркнул дневной свет – остров казался все темнее и массивнее. Цвета теряли свою мягкость и постепенно перерастали в беспощадный черный. Остроконечные вершины холмов четко выделялись на фоне неба. Откуда-то издалека доносился лай собаки, слышно было, как на берегу поют дети. Внезапно в воде возникло какое-то конвульсивное движение, и рыбак, быстро перебирая руками, стал тянуть лесу. На конце ее металось нечто серебряное, и его безумные движения разрушили безмятежное спокойствие морской глади. Вот оно взлетело наверх в пылу схватки и с плеском шлепнулось обратно. А уже через секунду рыбак снял макрель с крючка и бросил на дно лодки. Я посмотрел на нее – чудесное серебристое создание, чья чешуя отливала голубым и золотом. Тем временем окончательно стемнело. Над морем взошла огромная желтая луна (своими неправдоподобными размерами она напоминала луну из местных легенд), и в ее призрачном свете рыбак вытаскивал одну рыбину за другой. Каждая из них блестела серебром, подобно детищу лунного света. Мы не говорили ни слова, тишину нарушал лишь скрип весел в уключинах да тихий плеск воды о борт лодки.
Вскоре рыбалка была окончена. Все так же молча, не нарушая очарования этой ночи, мы заскользили по неподвижной поверхности воды к острову – туда, где лунный свет падал с неба подобно зеленому дождю. Раздался короткий скрежет – это лодка прошлась килем по прибрежной гальке. И вновь наступила тишина.
Рано поутру я направился на пирс и сел на судно, которое должно было доставить меня на материк.
5
Очутившись в Ардроссане, я задумался, каким образом лучше добираться до Глазго. Следует ли избрать долгий окружной путь по прибрежной дороге через Гринок и Клайд или же двигаться напрямик через Пейсли? После недолгих колебаний, подгоняемый неотложной необходимостью попасть в Глазго еще до закрытия магазинов, я остановился на втором варианте. Моей поспешности существовало весьма простое объяснение: дело в том, что за время путешествия я израсходовал весь свой запас носков. Не сомневаюсь, что когда-нибудь – в прекрасном, но далеком будущем – наша наука шагнет вперед, и благодаря ее достижениям мужчины смогут перемещаться по миру без обременительной необходимости запихивать целую кучу личных вещей (а сюда входят: крахмальные воротнички, рубашки, галстуки, носки, гетры для гольфа, костюмы, пижамы, туфли и проч.) в чемоданы, которые подозрительно день ото дня сокращаются в размерах. Должно быть, во мне есть нечто такое, что заставляет раздвижные саквояжи – даже самых разумных конструкций, включая те, которые названы в честь уважаемого мистера Гладстона – сжиматься и с каждым разом вмещать в себя все меньше вещей. Возможно, впрочем, это объясняется степенью твердости и упругости материала. Но вот что, безусловно, раздражает, так это когда наглаженные брюки и свежие носки исчезают по чьей-то беспечности и глупости. Странное дело, в маленьких дешевых гостиницах у вас ничего не теряется. Но стоит вам попасть в первоклассный отель, и целая армия вышколенных слуг накидывается на ваш гардероб и, подобно сорокам, растаскивает его по всяким неподходящим местам, чем доставляет массу неудобств несчастным клиентам. Что касается меня, я абсолютно убежден, что все шкафы следует снабдить стеклянными дверцами. Впрочем, прошу прощения за свое ворчание…
Приближаясь к Пейсли, я вспомнил обещание, которое давным-давно дал одному пожилому, умудренному жизнью шотландцу.
– Если вы когда-нибудь окажетесь неподалеку от Пейсли, – сказал он мне тогда, – вам следует развернуться к нему спиной и со всех ног бежать в Килбархан. Представьте себе, эта деревушка располагается всего в нескольких милях от Глазго, и никто о ней не знает. А ведь это одно из интереснейших мест в стране! Пообещайте мне побывать там.
Вот так и получилось, что я вышел в Джонстоне и направился туда, где заканчивались трамвайные пути города Пейсли. Моим глазам предстал длинный холм с крутыми склонами, на самой вершине которого притулилась деревушка Килбархан. Это последнее место в Шотландии, где еще сохранились традиции ручного ткачества знаменитых семейных тартан.
Я разглядывал узенькие улочки, которые карабкались вверх и вниз, повторяя контуры холма. Вдоль них плотными рядами выстроились крепенькие, беленые домики, фасадами выходившие прямо на мостовую. Внешний вид деревушки красноречиво свидетельствовал: восемнадцатый век не ушел безвозвратно, что-то от него сохранилось в нашем двадцатом столетии. Действительно, Килбархан – удивительное место, и весьма символично (и приятно), что городские трамвайные пути кончаются на его пороге. Все то, что формирует внешний облик Глазго, Пейсли и прочих ланаркширских городов-спутников, становится ненужным и посрамлено замирает у подножия холма Килбархана. Наверху же живет своей жизнью маленький городок, одной ногой стоящий в восемнадцатом веке. Сам факт его выживания тем более замечателен, что географически Килбархан располагается в самом сердце крупнейшего индустриального района Великобритании. Я до сих пор не понимаю, как жителям Килбархана удается сопротивляться дешевым и доступным соблазнам нашего времени.
В небольшой нише церковной колокольни установлен памятник самому знаменитому жителю здешних мест. Он является покровителем Килбархана, так сказать, воплощая лари пенатовв одном лице. Это Хэбби Симпсон, местный волынщик. В 1660 году Роберт Семпилл из Белтреса сложил о нем поэму, первую из тех непритязательных элегий, которые затем развил и довел до совершенства в своем творчестве Роберт Бернс. Фигура Хэбби вырезана из дерева, он стоит с волынкой на плече и взирает на родной город. Надо сказать, вполне подходящая кандидатура в святые покровители городка, который живет в прошлом.
Проходя по улице, я заглянул в окно одного из домов, которое, подобно другим окнам, располагалось низко над мостовой. Перед ручным ткацким станком сидела пожилая женщина. Слышно было клацание, которое издавал движущийся челнок. Последние лучи заходящего солнца освещали полоску красной тартаны, над которой трудилась ткачиха. Я долго наблюдал за нею. Время от времени мастерица сверялась с образцом, который висел перед ней на станке, и меняла челноки. Вместо одного – заряженного красной нитью – устанавливался челнок с зеленой нитью, и снова раздавалось мерное клак-клак, клак-клак: по краю красной полосы появлялась тонкая зеленая линия, которая постепенно расширялась и образовывала рисунок.
Я зашел в дом и поздоровался с ткачихой. Она посмотрела на меня поверх очков в простой оправе и вернулась к работе, попутно отвечая на мои вопросы. Женщина рассказала мне, что Килбархан – последний оплот ручного ткачества в Шотландии, единственное место, где тартаны изготавливаются по старинке, вручную. Жители городка, занимающиеся этим ремеслом, как правило, уже пожилые люди, всем далеко за пятьдесят. Большинство из них – женщины, но есть и один мастер – мужчина, которому перевалило за восемьдесят.
– Рано или поздно мы помрем, – говорила ткачиха со своим неповторимым шотландским акцентом, – и никого больше не останется. Ведь нонешняя молодежь не желает учиться ремеслу!
Она поведала мне, что полвека назад в Килбархане насчитывалось восемьсот ткацких станков, и все они день и ночь трудились над тартанами для шотландских кланов. Сегодня же таких станков осталось всего двадцать, и, что еще хуже, у старых мастеров совсем нет учеников. Сегодняшние юноши и девушки любят деньги и совсем не уважают тяжкий труд.
Поговорив с ткачихой, я отправился на поиски мистера Джона Борланда – человека, который знал все о ткачах Килбархана. Он оказался семидесятилетним стариком, чьи ярко-голубые глаза смотрели по-прежнему живо и ясно, как и сорок лет назад. Одет он был в твидовый пиджак, брюки с алым кантом и форменный жилет почтальона. Джон Борланд подтвердил мне, что все это правда. Очень скоро ручным тартанам придет конец – как только умрут двадцать мастеров из Килбархана. Пока еще в Шотландии есть «большие шишки» – хиеланмены, – которые желают во что бы то ни стало носить сделанные вручную тартаны. Они настаивают, чтобы все было, как во времена их отцов и дедов. Материя должна изготавливаться на ручных станках. И чтобы никакой химии, красители должны быть обязательно природного происхождения. Тогда и тартана выйдет на славу – плотная, прочная, вовек не сносится. Короче, не хуже, чем в старые времена.
Так говорил Джон Борланд.
Я с большим удовольствием вспоминаю свой визит к последним мастерам Килбархана. Это стало одним из самых приятных впечатлений за все путешествие по Шотландии.
Меня ввели в маленький домик. Гостиная была заполнена ткацкими станками. Хотя уже наступили сумерки, все они щелкали и клацали, как сумасшедшие. Ведь, как пояснила одна из старушек, «никто из ткачей не упустит дневного света». В углу сидела седовласая женщина (большинству местных ткачих от пятидесяти до семидесяти лет) и ловко крутила колесо прялки. Выходившая из-под ее рук шерстяная нить сразу поступала на ткацкий станок подруги.
Легкий характер, добрый юмор и ненавязчивая учтивость, равно как и простота этих людей навсегда завоевали мое сердце. Они знали лишь одно – как изготавливать тартаны, которые затем перейдут в руки торговца материей. Он был их заказчиком, он же снабжал их шерстью и образцами узоров. От ткачих требовалось точно следовать полученным инструкциям: столько-то нитей зеленого цвета, столько-то – красного, белого и так далее. Проворная мастерица обычно изготавливала от семи до десяти ярдов в день. Мисс Белла Борланд – одна из самых опытных ткачих – вырабатывала по десять ярдов ежедневно. За ярд платили одиннадцать с половиной долларов или один шиллинг.
Эта цифра показалась мне непомерно малой, ведь изготовленная вручную тартана уходит по цене пятнадцать или двадцать шиллингов за ярд, а может быть, и дороже. Однако здешние ткачихи не чувствовали себя обделенными.
– Это ведь самая лучшая мериносовая шерсть, – говорили они, – знаете, какая она дорогая! И потом, у нас ведь никакой ответственности. Знай себе сиди за станком и тки…
С заметной гордостью они выложили передо мной свою продукцию – пять различных кусков материи: тартаны кланов Манро, Маккензи, Маклинов из Дуарта, кричаще-желтый тартан Бьюкененов и самый сложный из всех – Огилви.
В тот день я познакомился с Сэнди Грэем – ткачом, которому уже перевалило за восемьдесят. Заниматься своим ремеслом он начал семьдесят лет назад. Грэй стоял на Челночной улице (лучше названия не придумаешь!) и рассказывал мне, как звучал Килбархан во времена его молодости, когда в городе работало восемьсот ткацких станков. «Шум стоял от зари до зари, – говорил он. – На каждой улице было слышно клак-клак, клак-клак…»
Также мне представили и «молодежь» Килбархана в лице Уильяма Мейкла, которому только-только исполнилось пятьдесят. Пройдет не так уж много лет – ткацкие станки один за другим умолкнут, и великое историческое производство неминуемо умрет.
– Да что там и говорить-то, – вздохнул Уильям Мейкл, – беда, да и только. Посудите сами, разве сыщется другое такое ремесло! Чтобы человек зарабатывал деньги прямо на дому: сидит себе у станка, одним глазом на работу поглядывает, а другим цветочками во дворе любуется…
С Уильямом Мейклом произошло нечто странное: искусству ткать тартаны он обучился лишь после войны. Вернувшись из армии – а служил он в частях горцев Аргайла и Сатерленда, – Уильям решил приобщиться к ремеслу своих предков. На сегодняшний день он является единственным человеком в Шотландии (а, возможно, и в целом мире), кто умеет ткать две тартаны одновременно.
Его «конек» – двусторонние дорожные пледы.
С одной стороны он выводит тартану мужа, а с другой – жены. Я наблюдал Мейкла за работой: он изготавливал плед с узором Грантов, а на изнанке получалась тартана Маклинов. Могу засвидетельствовать, это исключительно сложный процесс.
– Во имя всего святого, как вы это делаете? – поинтересовался я.
– Ну, я смотрю на узор Маклина, а в уме держу Гранта.
Полагаю, это одна из самых трудных операций в ремесле ткачей.
– Наш Килбархан во многих отношениях странное место, – разоткровенничался со мною Уильям Мейкл. – К примеру, если девушка из соседнего городка выйдет замуж за уроженца Килбархана, то она так и будет до конца своих дней считаться здесь чужой. Опять же, если кто из наших девушек выйдет замуж на сторону, то никто не станет ее называть по фамилии мужа. Где-то там она может быть миссис Блейк, но когда идет по улице Килбархана, все говорят: «О, смотрите, Джанет Мур вернулась домой…»
Мне довелось выслушать из уст Уильяма Мейкла немало обличительных речей в адрес больших городов. Наверняка подобные диатрибы порадовали бы тех патриотов, которые полагают, что нация черпает свою силу не в огромных мегаполисах-космополитах, а в исконных маленьких городках и деревеньках.
– Эти большие города пьют из нас все соки, – доказывал Уильям Мейкл. – Я помню время, когда мы устраивали у себя концерты, на которых выступали наши местные килбарханцы. До двадцати человек собирались запросто – пели песни, читали стихи и все такое прочее. А сейчас? Хорошо, если один такой артист сыщется… А посмотрите, что на уме у молодых парней и девушек! Им бы только на танцульки сбежать. Или вот еще… повадились кино смотреть, ездят за этим в Глазго или Пейсли. Теперь ведь все просто – трамваи до самого холма доходят, садись и езжай. Килбархан, видите ли, уже недостаточно хорош для молодежи. Работают на стороне, развлекаются там же, сюда только спать приходят. Я так думаю, в прежние времена люди были лучше. Мы, например, любили свой город и гордились им…
И Уильям Мейкл с досадой грохнул кулаком по столу.
Меня покорило то доверие и безудержное дружелюбие, которое я обнаружил в Килбархане. Я просто не находил в себе сил расстаться с ним и уехать в Глазго. Новые друзья повели меня смотреть гордость и красу Килбархана – древний пожарный насос. Это экспонат, доложу я вам, который не стыдно выставить в музее науки Южного Кенсингтона. Насос купили сто лет назад в Лондоне, и он до сих пор работает – на радость горожанам, почти его современникам. Насос можно перевозить вручную или при помощи лошади. И, как сказали мне, если приложить побольше рук и качать как следует, то ветеран пожарного дела выдает струю высотой до макушки самого Хэбби Симпсона!
К тому времени меня уже окружала плотная толпа возбужденных старичков и старушек. Со всех сторон слышались шутки и смех. Сколько радости и беззубого веселья! Как мило они подтрунивали друг над другом, похлопывая соседа по плечу или подталкивая локтем в бок. В какой-то момент вся компания очутилась в жарко натопленной гостиной одного из домиков. Шум разбудил детвору, и над встроенными в стену кроватями показались несколько взъерошенных головок. Меня радушно пригласили остаться к чаю, попутно представили хозяйкам дома – миловидным и острым на язычок пожилым леди. Все было так просто и естественно, что через полчаса я почувствовал себя старожилом здешних мест. Килбархан завладел мною, мне казалось, будто я живу здесь всю жизнь. И еще мне подумалось: а ведь подобное было бы, пожалуй, невозможно у нас в Англии. Можете себе представить, чтобы некий любопытный иностранец забрел в английскую деревушку и услышал от местного жителя: «Да ладно, приятель! Ни за что не поверю, будто ты англичанин по фамилии Мортон». А именно так меня приветствовали в одном из домов Килбархана, и я почитаю это за величайший комплимент, какого когда-нибудь удостаивался. В другом месте меня провели в глубь дома. Из теплой, пропахшей сдобными булочками кухни я попал в сумрачные комнаты, полные колченогих стульев, кружевных салфеточек и семейных портретов на стенах. Со старых увеличенных фотографий на меня смотрели строгие джентльмены в жестких крахмальных воротничках и с козлиными бородками. Рядом стояли не менее суровые пожилые леди с волосами на прямой пробор и в черных, наглухо застегнутых платьях. В этих мрачных, не располагающих к уюту комнатах (настоящее преддверие кладбищенского склепа) моему вниманию было предложено изображение престарелого хозяина дома в спортивном костюмчике времен его молодости, и я искренне залюбовался его атлетическим телосложением.
Затем все общество перекочевало в уютную залу сельской гостиницы. Здесь мы расположились перед очагом вокруг просторного стола из сосновых досок. Чем дальше, тем больше восхищения вызывали у меня собеседники, я и не подозревал, что на земле сохранились такие колоритные характеры. Рядом со мной сидел невысокий мужчина в мешковатой визитке и черной фуражке яхтсмена. Он важно кивал всем присутствующим и задумчиво расчесывал свои топорщащиеся седые усы мундштуком трубки. Как выяснилось, он много лет провел в море (отсюда и форменная фуражка), и сей факт давал ему основания претендовать на роль оракула во всем, что касалось жизни за пределами Килбархана. Тут были тощие угловатые старики – седобородые, но с пронзительными голубыми глазами. Были и медлительные увальни сельской наружности, способные своими однообразными «ну да» и «да нет» кого угодно довести до отчаяния. На фоне этого сборища Уильям Мейкл выглядел неприлично молодым, почти подростком.
Старый Джон Борланд изложил нам свои политические взгляды. Он заявил, что никогда еще консервативные речи не заканчивались в Килбархане, хотя многие из них начинались здесь. Борланд продемонстрировал столь пламенный радикализм, что посрамил бы самого Железного герцога Веллингтона. Мне даже показалось в какой-то миг, что сквозь его вдохновенные речи пробивается гул разгневанной толпы, спровоцированной биллем о реформе. Но нет, все присутствующие одобрительно кивали, и я подумал: если наш отечественный радикализм достаточно долго выдерживать, он превратится в весьма плодотворный консерватизм. Очередная смена напитков, очевидно, сбила настрой Джона Борланда, и он резко сменил тему разговора. Прихлебывая из своего стакана, он поведал мне, что ему стукнуло – ни много ни мало – сто двадцать лет.
– Да-да, сэр, – важно кивал он, – я старше любого ирландца на земле. Посудите сами: тридцать лет я трудился ткачом и еще тридцать фонарщиком – в сумме шестьдесят. Затем по тридцать лет я был сельским почтальоном и капитаном пожарной команды – это еще шестьдесят!
Борланд победоносно взглянул на меня и азартно хлопнул по столешнице:
– Так что сами можете подсчитать. Сто двадцать лет, и никак не меньше!
Его тирада вызвала взрыв дружного смеха, и в залу вошел молодой человек в фартуке, чтобы снова наполнить наши кружки и стаканы.
Беседа становилась все более шумной и несвязной. Подчас она принимала и вовсе забавный оборот. Маленький тихий старичок в фуражке яхт-клуба все порывался мне что-то рассказать, но всякий раз, когда он нагибался и тянул меня за рукав, кто-то вмешивался и прерывал наше общение. Старичок недовольно морщился и вновь принимался расчесывать свои седые усы. Уильям ударился в социологические рассуждения, в Джоне проснулся шотландский патриотизм, что вызвало немедленный отклик у компании… В воздухе витал дух любви и единения. Все просто источали добродушие и дружелюбие. Казалось, вот-вот наступит тот кульминационный момент, когда, как в былые времена, кто-нибудь выхватит нож и воткнет его в своего соседа. По счастью, закон – в лице все того же молодого человека – положил конец нашей вечеринке и обязал всех покинуть помещение. После короткой уличной сцены прощания (когда все уверяли друг друга в любви и желали спокойной ночи) я обнаружил, что медленно бреду по улице в обществе старичка в визитке и морской фуражке. Он все еще был преисполнен желания общаться, причем немедленно. Добравшись до вершины пологого холма, он остановился и заглянул мне в лицо. Наконец-то я был в его полном распоряжении. Теперь никто не мог мне помешать выслушать его историю, но старичок почему-то медлил. Он посмотрел на меня сияющими глазами и приподнял над головой фуражку с эмблемой яхт-клуба – волосы у него были такие же серебристо – белые, как и усы. Затем произошло нечто неожиданное: старик начал отбивать ритм своей палочкой и вдруг запел высоким надтреснутым голосом:
В небесах сияли зори,
В рощах пели соловьи
Там, где с милой Энни Лори
Мы дали обет любви.
На этом месте он остановился, посмотрел себе под ноги и взмахнул в воздухе фуражкой, от чего над узкими улочками Килбархана, казалось, повеяло экзотическим океанским бризом. Затем продолжил песню, но уже понизив голос:
И в радости, и в горе,
В аду, да и в раю
За нее, за Энни Лори
Я жизнь отдам свою.
Тут старик сделал драматическую паузу, шагнул ко мне поближе и повторил угасающим, почти неслышным шепотом: «… я жизнь отдам свою».
Ну, что тут скажешь? Я молчал, хотя и чувствовал себя растроганным.
– Ну, как? Вам понравилась песня? – спросил старичок.
– Да, я слышал ее раньше.
– Доброй ночи, – оборонил он, резким движением протягивая мне руку.
Затем отвернулся и, тяжело опираясь на трость, побрел вверх по холму.
– Н-да, – вздохнули за моим плечом, – сдает старикан. Ему ведь уже за восемьдесят. А был великим путешественником, поколесил по всему белу свету.
– Он спел мне «Энни Лори».
– Вот как? Можете считать это комплиментом.
Спускаясь по залитому лунным светом холму, мы повстречали высокого, сухопарого мужчину с весьма примечательной внешностью – спокойное, умиротворенное лицо, прямой нос и коротко стриженая седая борода. Он смахивал не то на поэта, не то на святого. У меня возникло такое чувство, будто здесь, на узкой улочке Килбархана, я увидел Марка Аврелия в домотканом плаще. Под мышкой он нес объемистую стопку книг. Как выяснилось, это был Дэниел Борланд, возвращавшийся из вечерней школы. Ах, как же мне в тот миг не хватало Уильяма Орпена, дабы его гениальная кисть смогла увековечить местную знаменитость. Вы бы видели просветленное лицо Борланда, когда он задумчиво стоял в лунном свете – истинное воплощение стремления шотландского народа к знаниям. Кто-то из моих новых знакомых шепотом поведал мне, что Борланд – ботаник, орнитолог и вообще великий ученый.
– Он знает латынь, – сообщили мне в качестве последнего сногсшибательного довода.
Если смотреть на Килбархан снизу, от подножия холма, то кажется, будто городок притаился в темноте. Я шел осторожно, не спеша, чтобы (как заметил сам себе с улыбкой) «не наступить случайно на призрак Рэбба [5]5
Рэбб Незбит – персонаж народного городского фольклора, бездомный и безработный житель Глазго, большой любитель выпить и вставить острое словцо.
[Закрыть]».
Довольно скоро я вошел в ночной Глазго.
6
В Глазго располагается фабрика по производству волынок, которую мне давно хотелось посетить. Здешние волынки пользуются огромной популярностью, их экспортируют во все уголки мира. Если взять только три страны – Канаду, Индию и Новую Зеландию, – то в них можно насчитать больше волынок, чем во всей Шотландии.
Немного истории. Волынка – очень древний музыкальный инструмент, возможно, один из старейших в мире. Его азиатское происхождение сегодня уже считается доказанным. Наверное, именно этим объясняется тот факт, что из всех западных музыкальных инструментов на Востоке любят и признают одну лишь волынку. Как-то раз в Сахаре, неподалеку от мечети Сиди-Окба я наткнулся на черного, как уголь, нубийца, который восседал на песчаном бархане и играл на волынке. К ней были привязаны лоскутки, в которых я узнал тартану королевской ветви Стюартов. Мне доводилось слышать испанские волынки; а в некоторых отдаленных областях Италии до сих пор в ходу классический инструмент, изготовленный из натуральной овечьей кожи.
В Древнем Египте, Древней Греции и античном Риме тоже играли на своеобразных волынках (известно, что император Нерон даже намеревался принять участие в соревнованиях волынщиков). В Англии этот музыкальный инструмент получил популярность еще в Средние века, он упоминается в произведениях Чосера и Шекспира. Однако сегодня редко можно встретить малую южно-шотландскую (или нортумбрийскую) волынку, снабженную ручными мехами. Не часто удается послушать и ирландскую волынку с ее сладостным, похожим на орган звучанием. Если кому и повезло уцелеть в веках, так это «большой волынке» шотландских горцев, или пип-вор.
Я готов пройти многие мили, чтобы насладиться ее игрой на лоне природы, среди пустынных холмов. Но точно также я готов бежать на край света, лишь бы не слышать волынки в стенах Альберт-холла!
Я не знаю лучшего средства облегчить шаг марширующих, чем звуки волынки. На мой взгляд, пип-вор – это инструмент, идеально приспособленный для передачи двух базовых человеческих эмоций: гнева и печали.
Прогулка по фабрике волынок на Норт-Уоллес-стрит весьма познавательна. И первый вывод, который вам предстоит сделать, таков: в современной волынке практически не осталось ничего шотландского. Ну, может, за исключением того ветра, что наполняет ее сумку. А так – все компоненты заграничного производства. Для изготовления вдувной трубки волынки, ее чантера, басового и тенорного дронов используется африканское черное дерево или же орешина из Вест-Индии. Звуковые трубки (то есть сами дудочки) делают из испанского тростника, а костяной мундштук из африканской слоновой кости. Сама сумка изготавливается из кожи австралийских овец. Тартана, которой ее обтягивают, конечно же, шотландского производства; но вот шелковые ленты (все они различных цветов – в соответствии с клановой принадлежностью), которыми украшают волынки, привозят из Швейцарии!
Лично меня подобное положение вещей уязвило и расстроило: все-таки волынка – национальный музыкальный инструмент, в каком-то смысле воплощение души шотландского народа. Но все мои сентиментальные доводы оказались бессильными перед непоколебимой логикой современного производства.
– Вы хотите невозможного, – заявили мне на фабрике. – Нынешняя волынка – инструмент неизмеримо более тонкий, чем ее предшественница. Собственно, между собой они соотносятся примерно так же, как современное фортепиано и старинный спинет. Сегодня для изготовления качественной волынки требуется самое высокопробное сырье, а достать его можно лишь за границей.
Меня познакомили с первым этапом изготовления трубок для волынки. Африканское черное дерево нарезают и грубо, в первом приближении, растачивают. После этого заготовки отправляют в сушку (иногда процесс длится целые годы). Высушенные детали поступают в специальную мастерскую, где мастера вручную, но с использованием специальных режущих станков изготавливают трубки для волынки. Особая осторожность требуется при сверлении отверстий чантера и дрона.
Я прошелся по фабрике, и у меня создалось впечатление, что это место, где производится большое количество мелких вещей. В состав волынки входят четырнадцать основных деталей из дерева. Собранные соответствующим образом, они формируют большой басовый дрон, два тенорных дрона, чантер и вдувную трубку. К ним прилагаются еще тридцать одна деталь – всякие трубочки, мундштуки и прочее.
В отдельном помещении сидит шорник, который шьет мешки для волынок. Перед ним лежит целая кипа особым образом обработанных овечьих шкур. Для того чтобы мешок получился воздухонепроницаемым, мастеру приходится использовать нитку более толстую, чем иголка. Работа с таким инструментом очень ответственна и требует высокого мастерства. Любая ошибка шорника может иметь фатальные последствия для изделия.
Впрочем, строгий контроль ведется на каждом этапе производства. В конце концов все детали собираются воедино, и специальный человек проводит окончательную проверку – играет на волынке.








