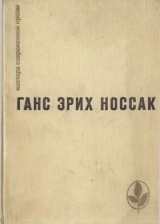
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Ганс Носсак
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 45 (всего у книги 45 страниц)
– Само собой разумеется, я тоже знаю, кто вы такой, – продолжал я. Читал ваши сочинения. Мне известно также, какое влияние вы оказываете на своих сторонников. Весьма благодатное влияние, с моей точки зрения, точки зрения судьи. Простите! Я пригласил вас к себе не для того, чтобы говорить вам комплименты, в коих вы не нуждаетесь. Приговор суда я, к сожалению, не в силах изменить. Мне крайне неприятно подвергать высылке человека, годящегося мне в отцы, по этого требует закон. Я мог добиться лишь того, чтобы было подобрано место ссылки, не вредное для вашего здоровья. Мне доложили, что климат в Таврии мягкий и приятный; сам я там еще не бывал. Я намереваюсь сделать все от меня зависящее, чтобы тамошние власти обращались с вами как можно более деликатно. Но гарантировать этого, к сожалению, не могу. Наместники провинций чрезвычайно высоко ценят свою самостоятельность, из-за этого у нас достаточно часто возникают трудности. В общем, об этом не стоит и говорить, это все вещи само собой разумеющиеся. Я пригласил вас к себе, чтобы обсудить нечто сугубо личное, то есть не как официальное лицо, призванное решать проблемы, по которым мы с вами, к сожалению, придерживаемся разных взглядов. Другими словами, я не могу требовать, чтобы вы вникли в суть моего вопроса, и полагаюсь только на вашу добрую волю. Чтобы уж покончить с этим, сразу же добавлю: эпитет «личное», который я употребил, верен лишь в известном смысле. Моя интуиция – назовем пока так это чувство – подсказывает мне, что вопрос этот затрагивает также и вас, то есть христиан. А может быть, и вообще будущее всего мира, как ни самонадеянно это звучит. По-видимому, мне нет нужды заверять вас, что ни слова из того, о чем мы здесь говорим, не выйдет за стены этой комнаты – во всяком случае, насколько это зависит от меня. Ваше умение разбираться в людях предохранит вас также от подозрения, что моя откровенность, скажем, всего лишь уловка опытного законника, и цель ее незаметно выведать у вас то, что потом можно будет обратить против ваших же приверженцев. Однако мое вступление затянулось, и, чтобы в свою очередь выказать вам полное доверие, я сразу спрошу; известно ли вам, что моя жена – член здешней христианской общины?
Он немного подумал.
– Вашу супругу зовут Клавдия, не так ли? – спросил он.
– Да. – Все же мне было немного неприятно услышать имя жены из его уст.
– Помнится, мне говорили, что она ваша жена. Но потом я совсем об этом забыл. Ко мне ведь очень многие приходят. Иногда устаешь и слушаешь не так внимательно. Извините, пожалуйста.
– Вполне вас понимаю, – заметил я. – Между прочим, Клавдия не сказала мне, что была у вас. И чтобы сразу внести ясность: она за вас не просила.
– Но и я не от нее узнал, что она ваша жена, то есть жена такого влиятельного человека. Об этом мне лишь потом рассказали члены римской общины. Они, конечно, гордятся этим, что само по себе нехорошо. Помнится, мне даже пришлось их за это пожурить. Речь ведь идет не о должности и не об официальном положении, а о человеке. В данном случае – о вашей жене.
– И обо мне, – улыбнувшись возразил я.
– Конечно. Но вы ведь не нуждаетесь в моих советах.
– Вы в этом убеждены?
Он быстро взглянул на меня, потом вновь опустил глаза и улыбнулся. Мы оба вообще довольно часто улыбались.
– Иногда мы открываем другому душу, – сказал он, – но лишь для того, чтобы явственнее услышать собственный голос и потом ему следовать. Со мной часто так бывает. Это совсем не то же самое, что советоваться или советовать. Но с вашей женой дело обстоит иначе. Случай отнюдь не какой-то особый – еще раз извините, пожалуйста, – скорее, вполне обычный. Наша вера распространяется слишком быстро, и нас это очень тревожит, поверьте. Я имею в виду этот по-детски наивный восторг. Словно вера – это новая игрушка. И рьяные ее поклонники только вносят разлад в души, неспособные с ним справиться. Я всегда внушаю женщинам, что они должны свято исполнять свои обязанности. Смирение перед жизнью – первое, чего требует от нас истина. Да только разве меня кто послушает. Женщины, наверное, думают: он старик, ему легко говорить.
– И моей жене тоже это внушали?
– Не в таких выражениях, конечно. Я ведь не знал, что она ваша жена. Он вздохнул и опять улыбнулся. – Наш разговор и впрямь не должен выйти за стены этой комнаты. А то меня еще назовут отщепенцем. Или трусом. И такое бывало. По крайней мере в некоторых посланиях, которые вам, вероятно, довелось прочесть. Мне думается, что истину ложно поняли. Считали, что конец света близок, а оказалось, что это было ошибкой. Ошибку признать трудно, очень трудно. Почти невозможно. Приходится жить дальше, а это намного сложнее, чем быстрый конец. Вот что делает людей недовольными. Он опять вздохнул. – Но это всего лишь мое мнение, к тому же о предмете весьма отвлеченном. Так мы с места не сдвинемся. А ведь мы хотели поговорить о вашей жене.
– Нет, – перебил я его, – мне очень правится, что вы трактуете мой частный случай столь обобщенно.
– Вы не правы, – в свою очередь перебил он меня. – Разрешите мне, как старшему по годам, вам возразить. Жизнь состоит именно из частных случаев, и все они одинаково важны. Что же касается вашей супруги Клавдии – славное у нее имя! – то, насколько я могу судить, тревожиться о ней нет причин. Сейчас у вас, вероятно, кое-что вызывает досаду, я понимаю, однако все обойдется. Она всегда и в первую, очередь пребудет вашей супругой. Я говорю это не потому, что переоцениваю вашу жену – простите мне этот глагол, – а потому, что ее супруг – вы. Такова уж ее судьба – стало быть, в этом истина. – Внезапно его лицо озарилось светлой и лукавой улыбкой. Слово «судьба» я не должен бы произносить вслух.
Некоторое время мы сидели молча. Я размышлял, он терпеливо ждал.
– Оставим пока мою семью в покое, – сказал я потом. – Я хочу задать вам совсем другой вопрос, который кажется мне намного более важным. Вопрос этот я точно так же не должен бы произносить вслух, как вы слово «судьба». Однако отвечать на него вы не обязаны. Молчание лучше, чем уклончивый ответ. Многим из ваших почему-то доставляет удовольствие называть меня сыном. «Сын мой, я буду молиться за вас» или еще что-то в этом духе. Зачастую они моложе меня, и обращение это звучит просто странно. Я человек старой закалки и привык с почтением относиться к старшим. Должность, которую я благодаря стечению обстоятельств занимаю, ничего в этом смысле не меняет. Короче говоря, я обращаюсь с этим вопросом не к христианину, а к человеку, который мог бы быть моим отцом. Я никак не ожидал услышать от вас, что вы высоко цените жизнь. Полагаю, что вы имеете в виду жизнь вообще, то есть существование рода человеческого. Допустим, к примеру, что вы, то есть христиане, в наши дни не слишком многочисленные, через какое-то обозримое время иди даже через несколько столетий одержите верх. Такое допущение само по себе мне, естественно, крайне неприятно, все во мне против него восстает. Но как разумный человек я не должен отгораживаться от фактов и обязан принимать в расчет и такую возможность.
– Вы это всерьез? – спросил он удивленно и, как мне почудилось, даже испуганно.
– А что? Почему вас это удивляет? Мне кажется, эта мысль напрашивается сама собой. Когда я обдумываю такую возможность, я исхожу вовсе не из силы вашего движения, а из нашей слабости. Или, если угодно, из утраты нами естественных устоев. Я вижу, что пропасть между привычным и истинным расширяется. И нет между ними ничего, кроме убийственной для нас растерянности, которую христиане, с моей точки зрения, весьма умело используют. Не сочтите мои слова за хулу. Но ведь мы с вами встретились не для того, чтобы удовольствоваться констатацией отдельных и слишком очевидных недостатков. Возьмем для примера хотя бы конкретный случай с моей женой.
– Эта мысль ужасна, – сказал он, не пытаясь скрыть испуга.
– Что же тут ужасного? Ведь вас должно радовать, что ваш противник так высоко оценивает перспективы христиан?
– Противник?..
– Ну, хорошо, я неудачно выразился, извините. Скажем так: тот, кто думает иначе.
– Речь не о нас, а о вас, о вас лично.
– Ах, оставим это. Вы же прекрасно знаете, что речь не обо мне. Не нам с вами решать, насколько оправданны те меры, которые я принимаю по долгу службы. Это решит история. Что до меня лично, то у меня нет никаких сомнений насчет того, как мне надлежит поступать. Я, так сказать, не меньше христиан уверен в правоте своего дела. Пользуясь вашим же выражением, я скажу, что собираюсь действовать так, как требует от меня истина, и все.
– Да, понимаю.
– Выражение не мое, как я только что подчеркнул. И на мой взгляд, ваши люди пользуются им излишне часто, извините. Словно это какая-то модная новинка для домашнего обихода. По опыту знаю, что истина перестает быть истиной, как только о ней начинают кричать на всех углах.
– Да, понимаю.
– А я не понимаю, чего вы так испугались.
– Своего бессилия, – прошептал он.
– Ну, хорошо, значит, мы оба признались в своем бессилии. Но мы совсем ушли от вопроса, который я хотел вам задать. В трактатах христиан то и дело читаешь, что они не стремятся к обладанию властью. Основатель вашего вероучения будто бы сказал, что его царство не от мира сего. Что бы ни подразумевалось под иным миром, мысль сама по себе не нова. Вы изучали философию и знаете это лучше меня. Но, как вы сами выразились, это предмет весьма отвлеченный, так сказать, чистая теория. Философам и фантазерам легко рассуждать о мире ином, они не несут ответственности за порядок в этом. А мы – извините, что я включаю и себя в это «мы», – мы, стремящиеся мыслить логично и трезво, ясно осознаем, что речь идет просто-напросто о власти. И это по-человечески вполне понятно и естественно. Короче, ныне существующему порядку объявлена война ради другого, нового и никому пока не известного. Спорить об оправданности этой тенденции я не собираюсь, но здесь-то и коренится мой вопрос: у меня в голове не укладывается и даже задевает за живое, как это такой человек, как вы, может всерьез полагать, будто какой-то небывалый доселе порядок можно создать и сохранить вообще без веры в богов…
– Мы ведь не хотели спорить о религии, – вставил он.
– Конечно, нет, ни один римлянин не станет этого делать. Но полное отрицание могущества богов – вот чего мы не можем вынести. Оставим пока в стороне высокие материи и возьмем просто в качестве примера обыденный случай с моей женой. Такие конкретные примеры из повседневной жизни значат подчас больше, чем пышные философии.
– Да, понимаю. В эту последнюю минуту, так сказать, то есть перед самым моим отъездом…
– Вы не хотите ответить на мой вопрос?
– Я не могу на него ответить. То, что я мог бы сказать, написано в книгах и для вас всего лишь отвлеченная теория. Но в эту минуту… Нет, с верующим человеком я не могу спорить о вере. Я совершенно бессилен.
– Что вы все отговариваетесь своим бессилием! Предоставим эту пустую фразу рядовым христианам, вам она не к лицу. Я сказал, что мог бы быть вашим сыном, и сказано это было всерьез. Я очень хотел бы услышать из уст отца, как он представляет себе новое устройство мира.
– Я бессилен, ибо вижу… Да, вот именно, ясно вижу, что вы не нуждаетесь в чьей-либо помощи…
– Оставим мою особу в покое, – нетерпеливо перебил я его. – Мы уклоняемся от темы.
– Нет, не уклоняемся. Она ужасна, эта тема, ужасна для меня. Сейчас, в эту последнюю минуту… Легче вынести ссылку или казнь, чем собственное бессилие.
Я не мог понять, что с ним. Может, я что-то не так сказал. По всей видимости, он не лгал, признаваясь в бессилии; это не было позой. Но что он подразумевал под «последней минутой»? Я отнюдь не жаждал убедиться в его бессилии. Я на самом деле хотел услышать его мнение.
– Ну что ж, нет так нет, – сказал я, – оставим в покое религию. Напрасно я о ней заговорил. История учит, что государства, народы и религии сменяют друг друга, хотя поначалу каждая система считает себя вечной. И что бывают переходные периоды. Они отличаются неустойчивостью во всем. Вероятно, мы живем в один из таких периодов. Современникам трудно судить о своем времени. Но и в переходные периоды люди как-то живут и, в общем, хотят жить. Этому тоже учит история, равно как и тому, что сами эти периоды преходящи. Я хочу этим сказать: системы конечны, а жизнь бесконечна. И бесконечен человек. Но главное… Видите, я избегаю слова «боги», потому что в трактатах христиан утверждается, что наших богов нет. Да разве дело в словах? Они тоже не вечны, как и все исходящее из человеческих уст, но главное – вечны те, чьей волей мы существуем, вечны бессмертные.
– Понимаю, – тихо сказал он.
– Вам тоже придется с ними считаться, по крайней мере когда-нибудь. Вам прядется сообразовывать устройство своей системы с волей бессмертных, хотите вы того или нет. В противном случае вы просто погубите и природу, и жизнь, и человека. Бессмертные умеют ждать. Тысячу лет или две тысячи. Того, что мы зовем историей, на самом деле нет. Разве это не счастье также и для вас, мой досточтимый отец, – ждать вместе с ними?
– Да, понимаю.
– Что вы все повторяете «понимаю» да «понимаю»? Это не ответ.
– Отчего же. Это правда данной минуты. Ужасная правда.
– А почему «ужасная»? Правда всегда естественна и самодостаточна.
– Да, понимаю. Простите. Я явственно вижу. Я вижу бессмертных за вами и вокруг вас, вижу, как они радуются своему бессмертию, потому что есть вы, вверяющий себя их молчанию. Моей ничтожной и преходящей молитве не справиться с ними. Я могу лишь смиренно склониться перед вами. Прошу вас, позвольте мне теперь уйти.
Он с трудом встал с кресла и на самом деле склонился предо мной. Мне это было крайне неприятно. Я счел излишним его удерживать. Ведь все уже было сказано. Поэтому я тоже поклонился, поблагодарил за беседу, которой он меня удостоил, и проводил его до дверей.
Вот и все о нашем с ним разговоре. Остается лишь сделать практические выводы – как для меня лично, так и для государства. В какой мере на ход моих рассуждений влияет тревожная обстановка в моем собственном доме, которую я, вероятно, не совсем обоснованно переношу на общее положение дел, пусть решает кто-нибудь еще. Я не могу отделить одно от другого.
Сначала о том, что касается государства и мер, которые надлежит принять. Полагаю, что в этом отношении могу поделиться некоторым опытом, который окажется полезным для моих преемников.
Мы имеем дело с массовым движением, исходящим из провинций, с перегруппировкой общественных сил, которую остановить невозможно. Она бы неизбежно произошла, даже если бы не было христиан, которые, в сущности, лишь более умело используют тенденции своего времени, чем другие недовольные. Повторяй мы хоть сто раз, что мятежные народные массы не созрели для того, чтобы взять на себя ответственность за судьбы мира, это ничего не изменит в главном: они ощущают себя угнетенными ничтожным меньшинством – Римом.
На эту перегруппировку общественных сил, в которой мы и сами участвуем, у нас обращают слишком мало внимания. Назову только один факт: кто из нас ясно осознает значение того, что наши нынешние императоры уже не потомки древних римских родов, а выходцы из провинций, и что они занимают свое место не по праву рождения, а выдвигаются армией за личные качества. Это можно только приветствовать; нет ничего отвратительнее тупого аристократа, единственное достоинство которого заключается в длинной череде предков. Однако не следует заблуждаться относительно того, что мы, таким образом, отрекаемся от идеи непреложности нашей власти и со своей стороны способствуем ломке тех самых традиций, на которые ополчаются массы.
Что нас меньшинство, само по себе в порядке вещей. И христианам, по тактическим соображениям опирающимся ныне на массы, через какое-то время, может быть, тоже придется не иначе как жесточайшим террором и тупым догматизмом подавить волю этих масс, то есть самих себя разоблачить. Однако до этого пока не дошло.
Намного хуже то, что мы утратили былую чистоту и исконность римского меньшинства, что само понятие «римлянин» стало расплывчатым и даже уже абстрактным. Государственный и военный аппарат пока еще не затронут разложением, но мы только им и держимся. Причем воображаем, будто он у нас в руках, в то время как в действительности мы – его рабы. Чтобы быть конкретнее, я выражу ту же мысль применительно к сфере своей деятельности: теоретически в настоящее время пока еще не очень сложно полностью искоренить неблагочестивые тенденции, даже если для этого потребуются суровые меры. Но мерами этими мы усилим не нашу власть, а только власть аппарата.
И далее: сейчас кто угодно – не только христиане – может завладеть этим аппаратом и обратить его против нас.
Как ни горько это звучит, но на нашу молодежь положиться нельзя. Пока еще считается хорошим тоном служить богам и родине. Хорошим тоном считается также высмеивать вероотступников и издеваться над их варварством. Однако все это не более как обычная заносчивость столичных жителей; за ней нет ничего, кроме духовной пустоты. Эта же молодежь, если того потребует мода, переметнется на сторону христиан и будет считать, что исполняет свой долг перед родиной. Тогда хорошим тоном будет насмехаться над теми, для кого наша религия – непреложный закон жизни. Напрашивается мысль строжайшими указами обязать всех неукоснительно соблюдать наши религиозные обряды. Эта мера уже принята, но послужила она на пользу обрядам, а отнюдь не истинной религии.
Мне, как слуге государства, не пристало изрекать мрачные пророчества. И назначен я на свой пост не для того, чтобы писать историческую хронику или размышлять об общественных процессах. Моя задача – не допустить, чтобы беспорядки создали угрозу существованию империи.
Я совершенно уверен – утверждаю это, исходя из собственного опыта и детального изучения данных проблем, – что мы в состоянии еще на несколько поколений отодвинуть эту угрозу. Я ни на минуту не сомневаюсь в возможности повернуть дело так, чтобы все смутьяны, рядящиеся ныне под христиан, исчезли без следа; нужно лишь выждать: они погибнут от собственной слабости – неверия в могущество наших богов. Правда, в самом движении плебса от этого ничего не изменится.
Поэтому в нижеследующих четырех пунктах я обобщаю накопленный мною опыт, дабы передать его своим преемникам.
1. Необходимо любыми средствами предотвратить превращение Рима в центр христианства. Пока провинциальные города соперничают друг с другом, претендуя на руководящую роль, христианство не войдет в силу. Для этой цели все тактические шаги должны быть направлены на то, чтобы угождать национальному самосознанию провинций.
2. Поскольку христиане возводят страдание в заслугу, необходимо всеми способами уклоняться от любого повода причинить им столь желанные страдания. На практике это довольно трудно осуществить; нельзя требовать от рядового чиновника, чтобы он изо дня в день пропускал мимо ушей оскорбления в свой адрес, а значит, и в адрес императора и наших богов. Но в принципе, вероятно, все же будет правильно – точно так же, как в повседневной и частной жизни, – не ввязываться в спор с завзятыми спорщиками, дабы не разжигать страсти. Лучше предоставить их самим себе, не оказывая им никакого сопротивления и тем самым лишая их возможности испробовать свою мнимую силу в деле. Тогда их задиристость и злобность обратятся против них самих; в жажде страданий они изорвут друг друга в клочья. Эта идея принадлежит даже не мне, а нашему императору Септимию Северу. Африканец по рождению, он обладает более богатым практическим опытом во всем, что касается сект. Рекомендуемая им тактика ясна и убедительна. Люди, проникнутые духом отрицания, не могут не враждовать между собой из-за слов и мнений.
3. Первоочередной задачей, более актуальной, чем изменение тактики, является улучшение экономического положения провинций. Законы, направленные против коррупции и хищений, не принесли желаемого эффекта. Необходимо срочно перестроить всю нашу налоговую политику. В расходах на армию и охрану империи провинции, разумеется, должны принять долевое участие, однако в принципе все налоги, получаемые с какой-либо провинции, должны использоваться в ней же. Нельзя уже больше мириться со сложившимся у нас обычаем стягивать в Рим все доходы как общественного, так и частного характера. Внешний блеск города теряет всякий символический смысл, если им пользуется лишь горстка бездельников, живущих на проценты с состояния, выжатого из провинций; ныне его позолоченный фасад служит приманкой только для беспутного сброда, бегущего из обнищавших провинций. С точки зрения моего ведомства следует действовать согласно простому правилу: дай человеку возможность и надежду улучшить свое материальное положение, и он станет глух ко всем учениям, подрывающим основы государства.
4. И наконец то, что кажется мне самым важным: давно уже вынашивается проект считать римскими гражданами всех родившихся в провинциях. Проект этот до сих пор проваливался из-за сопротивления консервативных кругов. Ясно, что такая мера потребует тщательной юридической подготовки, но ее необходимо ускорить. Предоставлением римского гражданства мы противопоставим упрощенным тезисам христиан столь же простой для понимания факт. Житель провинций перестанет ощущать себя человеком второго сорта. У него пропадет всякая охота примыкать к движениям, враждебным государству, – наоборот, он сочтет своим врагом всякого, кто посягнет на его новые права.
Вот те основные рекомендации, которые я здесь смог изложить лишь в общих чертах.
Как частное лицо я могу принимать лишь решения, касающиеся меня лично. Они не нуждаются в громких словах. Каждый, следуя воле богов, поступает так, как оказывается возможным. Того, кто упускает или превышает свои возможности, постигает неминуемая кара.
На мое решение, несомненно, повлияло и то, что произошло в моей семье, и осознание общей бесперспективности, усугубленное встречей с такой личностью, как старец, при всей своей проницательности принявший сторону недовольных.
Суть проблемы сводится к следующему: что я могу всему этому противопоставить? Как должен поступить человек, убежденный в том, что новые исторические тенденции нельзя надолго приостановить и что раньше или позже они неминуемо одержат верх? Как мне, одиночке, считающему их признаком ухудшения всей жизни, более того, абсолютным отрицанием всего человеческого, найти свое место в таком мире, не обманывая себя, а тем самым и богов?
Что касается Клавдии, то я был бы вправе выслать ее в одно из поместий, выполнив, таким образом, требования законов наиболее безболезненным путем. Каждый одобрил бы эту меру и даже потребовал бы ее от меня. Большинство настаивало бы на немедленном разводе, ссылаясь на возможность жениться вновь и тем спасти брак как общественное установление.
На это я должен возразить: но мой брак иди, вернее, именно этот брак ничем уже не спасти.
Далее, я мог бы уйти в отставку – например, по причине слабого здоровья – и уехать с Клавдией в одно из поместий. Ей я бы наверняка доставил этим большую радость. Но жили бы мы с ней как чужие, рядом, но не вместе: она предаваясь своим христианским таинствам, я – в угоду ей скрывая свое отвращение к ним. Жить в изоляции – при условии, конечно, что я ее вынесу, – означало бы просто плыть по течению. Многие на моем месте поступили бы именно так. Пожали бы плечами и сказали: жить мне осталось каких-нибудь двадцать-тридцать лет. За это время мир не развалится, а с тем, что случится после меня, пусть разбирается следующее поколение.
Я считаю такой образ мыслей недостойным.
Третий выход – перейти на сторону противников, поскольку, как подсказывает разум, будущее принадлежит им, – для меня неприемлем и обсуждению не подлежит. Это было бы тройным обманом: бессмертных богов, движения, неудержимость которого я постигаю лишь разумом, и прежде всего самого себя.
Жизнь, построенная на обмане, не жизнь. Поэтому остается один-единственный выход – тот, к которому с присущей им естественностью в сходных ситуациях прибегали наши предки: добровольно вверить себя бессмертным, поскольку нет иного способа исполнить их волю.
Мои личные дела приведены в порядок. Клавдии не придется терпеть нужду, детям моя помощь уже не требуется. Было бы преступлением ради показного благополучия в семье забыть о долге перед богами и перед самим собой.
От мимолетного огорчения, которое я причиню Клавдии своей преждевременной смертью, я не в силах ее избавить. Но я позабочусь о том, чтобы мою смерть сочли наступившей по естественным причинам. Ни тени вины не должно пасть на ее голову.
Разве можно винить болезнь?
Хотя я считаю, что столь серьезное решение следует и принимать, и приводить в исполнение в полном безмолвии, я хотел бы все же сказать несколько слов о его более общем значении.
Христиане, как известно, прославляют смерть. Они прямо напрашиваются на нее, чтобы иметь возможность кричать о несправедливости. Смерть, как месть обездоленных.
Против этого публичного поругания жизни имеется только одно средство: бежать от презираемого христианами бытия в недоступные глазу смертных просторы – к тем, кто в наше время утраты благочестия не опускается до грубого шантажа, дабы доказать свое существование. Такая добровольная смерть – полная противоположность их демонстративному мученичеству.
Для христиан нет ничего более страшного. Это выбивает бесчестное оружие из их рук. Хотя они наверняка постарались бы представить такую смерть как свой триумф и подняли бы крик о деградации и вырождении. Но если они захотят коснуться сокровенного, надеясь использовать его в своих интересах, они окажутся в полной пустоте. Там их боевой клич не отзовется эхом и превратится в тоскливый вой. И тогда их смерть станет актом отчаяния. А добровольная смерть одиночки – это акт утверждения жизни…
Пер. с нем. Е.Михелевич.








