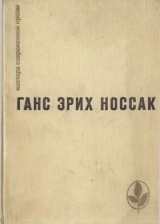
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Ганс Носсак
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 45 страниц)
Ганс Эрих Носсак
Избранное
Предисловие
Жизненный и творческий путь Ганса Эриха Носсака, одного из наиболее значительных и своеобразных писателей ФРГ, отмечен рядом особенностей, которые надо знать, чтобы лучше понять его книги. Последние годы (Носсак скончался в 1977 году в возрасте семидесяти шести лет) он жил крайне уединенно, вдалеке от шумных городов, не принимая никакого участия в общественной жизни. Его замкнутость была давно известна, и он даже бравировал ею. В одном репортаже, где речь шла о встрече с Носсаком, можно было прочесть: «Носсак похваляется тем, что он – самый хорошо замаскированный писатель». Дальше следовало: «Я представлял его себе небольшого роста, мягким и мечтательным. Его девиз: „То, что нельзя увидеть во сне, не имеет отношения к действительности“, – сбил меня с толку. Однако я увидел высокого мужчину крепкого сложения, скорее грубого, чем мягкого, держащегося с нервной и нервирующей настороженностью. Выражение его лица беспрерывно меняется, беспрерывно уходит он от разговора о себе и пытается пренебрежительными жестами изничтожить себя. Это очень мешает. Такое поведение и высказывания вроде: „Если что-то мое имеет успех, то первый мой вопрос: „В чем я ошибся?“ – навлекли на него упреки в высокомерии“» [1]1
Приводится по кн.: Ũber Hans Erich Nossack. Herausgegeben von Christof Schmid. Frankfurt am Main, 1970, S. 124.
[Закрыть].
Эта характеристика помечена 1954 годом, временем, когда Ганс Эрих Носсак работал над своим первым романом «Не позднее ноября» (1955). Мы знаем имя репортера – Бертольд Мёнкен. Тут, однако, необходимо сделать одно дополнение: Бертольд Мёнкен – сам герой этого романа, и написанное им интервью не более как мистификация Г. Э. Носсака, любившего такого рода «игру» с читателем.
Другое псевдоинтервью, относящееся к 1966 году (за два года до выхода в свет романа «Дело д’Артеза», наиболее значительного произведения Г. Э. Носсака), начиналось таким образом:
«Вопрос: Вы пожелали, чтобы вам задавали только деловые вопросы. Итак, вопрос номер один: как хотели бы вы быть похоронены, господин Носсак? Ответ: Браво! Деловой вопрос, и к тому же ловкий литературный ход. Но похороны – это ведь дело тех, кто остается. Вопрос: Вы думаете о тех, кто остается? Ответ: Конечно! Они ведь могут простудиться на похоронах» [2]2
Там же, S. 11.
[Закрыть].
Это «Интервью с самим собой» было озаглавлено отнюдь не иронически, а вполне серьезно, с оттенком горечи: «Прошу без литературных сплетен».
При всей парадоксальной шутливости в этих характерных для манеры Г. Э. Носсака отрывках содержится вполне серьезный автокомментарий. Его творчеству и в самом деле свойственны своеобразное двойничество, постоянное столкновение «сновидений» и «действительности», склонность к интеллектуальной игре и мистификации, самоирония, привязанность к теме самоубийства и смерти. Собственно говоря, Г. Э. Носсак во всем этом не всегда оригинален и, уж во всяком случае, не одинок. В его книгах можно найти мотивы, а подчас и приемы, родственные многим западногерманским писателям, как его сверстникам, так и более молодым – В. Кёппену, А. Андершу, Г. Бёллю, М. Вальзеру и другим. Вряд ли много дало бы для характеристики Г. Э. Носсака детальное изучение вопроса о том, в каких случаях он был первооткрывателем, а в каких разрабатывал подхваченные им идеи. В известном смысле слова можно сказать, что идеи эти носились в воздухе западногерманской литературы. Важнее отметить, что уединенность Г. Э. Носсака была не уходом от злобы дня, а демонстративным отстранением от общества, в котором он жил (и эту жизненную позицию он также делит со многими крупнейшими писателями Западной Германии). Неудивительно поэтому, что долгие годы в ФРГ его практически не замечали. Как говорилось в одной из статей о Г. Э. Носсаке, «одобрение со стороны общества едва ли можно гарантировать или даже просто ожидать там, где само общество становится объектом беспощадной критики и его, казалось бы, неуязвимые институты атакуются с безжалостной остротой» [3]3
По кн.: Ũber Hans Erich Nossack, S. 61.
[Закрыть].
Следует добавить, однако, что эта критика часто выступала у Г. Э. Носсака опять-таки в мистифицированной, завуалированной форме.
* * *
Ганс Эрих Носсак родился в 1901 году в богатой буржуазной семье (отец его был коммерсантом, главой большой фирмы, ведшей торговлю с заграницей), рано покинул родительский дом и начал самостоятельную трудовую деятельность. После окончания гимназии в своем родном Гамбурге и посещения университета в Йене, где он изучал философию и юриспруденцию, Носсак переменил несколько профессий (в том числе пытался создать самостоятельное торговое дело), пока не стал заниматься журналистикой.
Его взгляды формировались в трагическое и трудное время после-версальской Германии, пораженной разрухой, инфляцией, кризисом. Умонастроением, определившим его жизнь в эти годы, была резко выраженная антибуржуазность. Порвав с богатыми родителями, в поисках собственного пути он «десять или двенадцать лет вел неустроенное голодное существование» [4]4
Hans Erich Nossack. Pseudoautobiographische Glossen. Frankfurt am Main, 1971, S. 38.
[Закрыть]. В 1919–1920 годах Носсак был и членом реакционной милитаристской организации, и членом студенческой корпорации, «читал по ночам экспрессионистские и леворадикальные манифесты» [5]5
Там же, S. 136.
[Закрыть]. На склоне лет, рассказывая об этом периоде своей жизни, он писал: «Дело не в том, что детство мое было особенно несчастливым, как, например, детство Горького, который из страданий своих ранних лет создал незабываемые произведения. В этом смысле мое детство не было несчастливым; но оно было, что, по-моему, гораздо хуже, полностью нереальным. Если оставаться в пределах литературы, его можно сравнить – не в том, что касается фактов, а в том, что касается атмосферы, – с „Луи Ламбером“ Бальзака, повестью, которая изображает полную потерянность ребенка в мире буржуазного порядка. Взрослые делают вид, будто знают, что такое счастье, а ребенок уже знает, что их счастье ложно и что они только притворяются» [6]6
Там же, S. 129.
[Закрыть].
На протяжении двадцатых годов Носсак был близок левым кругам немецкой интеллигенции, выступал за радикальное общественное переустройство; революция в России была для него «откровением», хотя, судя по всему, он представлял себе достаточно туманно ее движущие силы. Он был, как сам пишет, членом коммунистической партии, и 1933 год застал его за рядовой партийной работой, которую он некоторое время продолжал подпольно. Приход Гитлера к власти был пережит Носсаком, как и многими другими представителями леворадикальной немецкой интеллигенции, как жесточайшее поражение. Оставаясь до конца своих дней противником и острым критиком фашизма, в котором он видел выражение «негативных сил» «взбесившейся мелкой буржуазии» [7]7
Там же, S. 70.
[Закрыть], он не представлял себе иных путей борьбы с ним, кроме «партизанских действий» «людей духа». В поздних статьях, может быть и с известным смещением во времени, он заявлял, что отказывается принимать выражение «внутренняя эмиграция», поскольку оно многократно служило для того, чтобы «припудривать всего лишь трусливое уклонение» [8]8
Там же, S. 74.
[Закрыть], а об уходе писателей в изгнание говорил не в политическом, а в абстрактно-символическом смысле: «Под изгнанием здесь понимается выход интеллектуала из своего исторического времени, в котором он родился, в духовное время» [9]9
Там же, S. 123.
[Закрыть].
В этих статьях Носсак не раз заявляет о своем принципиальном «антиисторизме»; понятие «родина» он объявляет «старомодным ласкательным словечком» [10]10
По кн.: Ũber Hans Erich Nossack, S. 109.
[Закрыть]. В то же время, противореча самому себе, на деле он постоянно старается объяснить свой жизненный опыт и выводы из него реальной историей немецкого народа. Он пишет: «История учит нас, что „белая“ реакция всегда бывает много ужаснее, чем „красная“ революция. Причины этого ясны: революция, как динамическая сила, ведущая вперед, склонна не обращать внимания на сопротивляющиеся ей элементы и обгонять их, в надежде, что она сумеет позднее привлечь их на свою сторону. Реакция, загнанная в оборону, знает своих противников и безжалостно их уничтожает, потому что она хочет восстановить старый порядок» [11]11
Там же, S. 143.
[Закрыть].
В 1933 году после прихода к власти гитлеровцев Г. Э. Носсаку было запрещено печататься, хотя к тому времени он не издал еще ни одной самостоятельной книги. Он продолжал писать, но, лишенный возможности жить литературным трудом, вернулся к коммерческой деятельности, войдя в фирму своего отца. В июле 1943 года во время бомбежки Гамбурга американской авиацией сгорели все его неопубликованные рукописи. (Эта бомбежка, один из жестоких эпизодов второй мировой войны, описана во многих произведениях западногерманской литературы, в том числе в рассказе В. Борхерта «Гамбург».) Вместе со всеми бумагами сгорели свидетельства интереса молодого Носсака к революционным идеям – драма «Ленин» и отрывок, посвященный Георгу Бюхнеру.
Ганс Эрих Носсак возвратился в литературу после 1945 года, когда он снова получил возможность печататься; правильнее было бы сказать, что в эти годы он начинает свою литературную деятельность, ибо имя его мало кому было известно, а все созданное им, за ничтожным исключением, погибло. Отныне он много пишет и много издается, но продолжает работать в торговой фирме (после смерти отца становится даже ее главой), позднее в издательстве. Полностью он посвятил себя литературе только в 1956 году, когда ему исполнилось уже 55 лет.
Превращение коммерсанта в писателя, так же как и превращение писателя в коммерсанта, встречается не столь часто. Эта необычная ситуация наложила, надо думать, отпечаток на творчество Носсака. «Искусство» и «коммерция», «высокий дух» и «низкая житейская практика» будут двумя полюсами его художественного мира.
Говоря формально, Носсак принадлежит к первому поколению западногерманских писателей; он выступил тогда же, когда входили в литературу Борхерт, Бёлль, Шнурре и другие молодые писатели послевоенных лет. Выпустив в свет в 1947 году сборник своеобразных стихов (к поэзии он позднее возвращался только от случая к случаю) и небольшой роман «Некийя» [12]12
«Некийя» – в переводе с греческого «жертвоприношение мертвым». Название книги Г. Э. Носсака восходит к «Одиссее» Гомера.
[Закрыть]с подзаголовком: «Отчет пережившего»,Г. Э. Носсак публикует в 1948 году свой первый сборник «Интервью со смертью». Один из рассказов этого сборника – «Гибель», – повествующий от первого лица в сухой, протокольной манере об уничтожении Гамбурга американской авиацией, помечен ноябрем 1943 года («С тех пор прошло три месяца, но, поскольку рассудок никогда не будет способен представить себе то, что тогда произошло, реальностью и найти для этого место в памяти, я боюсь, что происшедшее исчезнет как кошмарное сновидение»). Это – наиболее ранняя дата, поставленная самим Носсаком под его опубликованными произведениями (если не считать некоторых стихотворений и двух случайно сохранившихся пьес – «Каиново племя» и «Генеральная репетиция»).
Таким образом, мы можем в прямом смысле слова причислить Г. Э. Носсака к «литературе развалин», если воспользоваться самоопределением Г. Бёлля. Но он был старше «молодых» почти на два десятилетия, и жизненный путь его был иным. В частности – и это для немецкой литературы очень важная «частность», – его миновал фронтовой опыт и первой, и второй мировых войн. Герой «Гибели» наблюдает, как рушится Гамбург; он совсем близко от горящего города, но все же – благодаря случаю – в стороне. Эта биографическая деталь, перешедшая на страницы книги, помогает понять, почему трагедийность мироощущения носит у Носсака более умозрительный и одновременно более «вселенский» характер, чем у западногерманских писателей фронтового поколения.
За Носсаком утвердилась слава «немецкого экзистенциалиста», однако атеистического, «французского» толка; Сартр «открыл» его в 1947 году, напечатав «Гибель» и «Некийю» в своем журнале «Тан модерн», и тем самым способствовал популяризации и переводам его книг во Франции; критики на Западе часто сравнивают его с Сартром и Камю. Действительно, «Гибель» и «Некийя» трактовали вопросы жизни и смерти, свободы и выбора во многом в духе экзистенциалистской философии. В них есть и понятие «пограничной ситуации», и символ границы (река), и «Ничто» как смысл существования, и бог в образе нищего старика, роющегося в отбросах, и даже жирные мухи на развалинах Гамбурга, словно перелетевшие сюда из сартровской пьесы «Мухи», написанной и поставленной в оккупированном гитлеровцами Париже в том же 1943 году. Эти же идеи – весьма, надо сказать, доходчиво и временами по-популяризаторски упрощенно – Носсак в дальнейшем излагал в некоторых своих статьях и речах, с явным упором на мысль об исключительности «человека духа», его одиночестве среди «серой повседневности».
В первые послевоенные годы идеи экзистенциализма получили широкое распространение в Европе; особенно острым было их восприятие после поражения гитлеровской Германии, в условиях всеобщего хаоса и идейного краха. Отцы «философии существования» – и М. Хайдеггер и К. Ясперс – были в то время активными участниками общественной жизни. Немецкий перевод «Мух» Сартра вышел в свет в 1947 году с предисловием автора, в котором Сартр особо отмечал актуальность своей пьесы для Германии тех лет; он видел ее прежде всего в идее свободы, как она воплощена в его «экзистенциалистском» герое Оресте. Популярности сартровских идей много послужила и постановка «Мух» в театре Дюссельдорфа, осуществленная известным артистом и режиссером Грюндгенсом, а затем спектакль в Западном Берлине.
В то время в Германии, которой предстояло в условиях катастрофического падения выбрать свой путь, идеологическая жизнь представляла собой пеструю и сложную картину, в том числе она была ареной столкновения марксизма и экзистенциализма разных оттенков. Литература будущей ГДР сохранила немало следов этой острой идейной полемики, за которой стояла проблема будущего немецкого народа, свидетельством чего может служить хотя бы роман М. В. Шульца «Мы не пыль на ветру», где полемика с экзистенциализмом вынесена уже в название.
Книги Носсака были в этом смысле своеобразным рупором времени, хотя они далеко не всегда укладываются в схему той или иной экзистенциалистской школы. Сам Носсак не раз отрицал свою принадлежность к экзистенциализму, как и к сюрреализму, и утверждал, что имя Кафки он «услышал впервые из разговора о себе самом» [13]13
Horst Bienek. Werkstattgespräche mit Schriftslellern. München, 1962,S. 77.
[Закрыть].
«Я никогда не скрывал, что разрушение Гамбурга в июле 1943 года означало поворотный пункт моей жизни», – писал Носсак, формулируя свою позицию одиночки в таких словах: «Жизнь в Ничто без всякого прикрытия сзади… Это звучит как экзистенциалистская фраза, но мы ничего не знали об экзистенциализме…» [14]14
Hans Erich Nossack. Pseudoautobiographische Glossen, S. 150.
[Закрыть]
Во всяком случае, в отличие от своих французских учителей, которых он, кажется, никогда не называл учителями, Носсак не превращал свои книги в беллетризованное изложение философских концепций; он умел (с годами все уверенней) рисовать жизнь в ее конкретности, ему присущ немалый талант пластичного изображения человеческого характера и внутреннего мира человека. Поэтому почти в каждой его книге мы обнаружим «спор» субъективного взгляда на общественную жизнь и нравственные проблемы с реалистически изображенной картиной окружающей действительности, с психологически достоверно обрисованными характерами.
* * *
Меньше всего Г. Э. Носсаку присущ нравственный релятивизм, который логически вытекает из системы субъективистской морали экзистенциализма.
Рассказы, вошедшие в сборник «Интервью со смертью», написаны еще очень по-разному, хотя их и объединяет общий для всех сдержанно-стоический повествовательный тон (позднее творчество Г. 3. Носсака приобретает большую внутреннюю цельность). Рядом с картинами мира, распадавшегося в пламени пожара («Гибель»), перекликающимися с апокалиптическим ужасом «Некийи», стоит «Юноша из морских глубин» – великолепная по пластичности изображения печальная сказка о напрасно загубленных жизнях, одно из самых сильных антивоенных произведений того времени; рядом с ироническим повествованием о том, как некий писатель («я») пришел разговаривать со смертью, которая явилась перед ним в облике добропорядочного, но от этого еще более отвратительного и жестокого мелкого буржуа, старающегося жить и выглядеть «как все», – переосмысление греческих мифов в духе современного трагического мироощущения («Кассандра», «Орфей и…»). И эти рассказы носят антивоенный характер, хотя навязчивая идея смерти, проходящая через весь сборник, полностью заслоняет на его страницах вопрос о виновниках войны.
Особое место в сборнике занимала короткая зарисовка «Книга сказок», содержащая не только апологию народного творчества, но и мысль о нравственном здоровье фольклорных героев, которые могут пережить несчастья и войны.
Характерно, что в этих рассказах вопрос о боге и религии не играет никакой роли, и это обстоятельство заметно отличает Носсака от многих писателей Западной Германии того времени, чье творчество было окрашено в той или иной степени в католические тона. У него даже нет богоборческих мотивов, которые есть у В. Борхерта; бог для него, судя по всему, просто не существует, ни как личная, ни как социальная проблема. Сравнивая свое время с Тридцатилетней войной, Носсак говорил, что Грифиус, великий поэт того времени, поэт страданий и скорби, обращается с жалобой не к высшей силе, а к человеку, более того – к одному, конкретному человеку. «Он, к примеру, не говорит „бог“, что, казалось бы, проще всего, он говорит „ты“. Он избегает слова „бог“, потому что я тогда, может быть, оно уже превратилось в клише, и вместо этого обращается ко мне»
Характерно также, что Г. Э. Носсак полностью прошел мимо «проблемы вины» – в ее социальном и политико-нравственном смысле, – которая была одной из главных и наиболее острых тем общественной жизни Германии того времени. Но с первых своих шагов в послевоенной литературе он выступил решительным противником реставрационных тенденций, выражая эту общую для всех крупнейших писателей Западной Германии идею прежде всего через бескомпромиссную критику фигуры дельца буржуазного толка. Таков Клонц, герой одноименного рассказа, – ловкий, напористый, хотя и неудачливый в прежние времена хозяин пивной; он не только пережил катастрофу – то есть войну и крах жизненных устоев, – но впервые стал по-настоящему процветать, сначала торгуя на черном рынке, а потом, очевидно, пускаясь в более крупные махинации, ибо Клонц способен на все. Напористый демагог, «наживающийся на общей нужде», «жиреющий от того, что мы подыхаем с голода», само воплощение воинствующей пошлости и бездуховности – таков Клонц в изображении Носсака. Он полон ненависти к тем, кого он не считает «своим», и готов, «словно разъяренный зверь», в любую минуту «вцепиться в глотку». Среди произведений тех лет, затрагивавших проблемы послевоенной действительности Западной Германии и буржуазно-реставрационных тенденций в ней («За дверью» В. Борхерта, «Что-то надо делать» и другие рассказы Г. Бёлля, «Выпь кричит каждый день» В. Шнурре и т. д.), «Клонц» Носсака принадлежит к самым злым. В 1955 году, выступая с речью о творчестве Носсака, Ганс Генни Янн воздал ему особую хвалу за этот рассказ, закончив свою речь цитатой: «Существует нечто худшее, чем Ничто: когда карикатура на человека заполняет это Ничто своей кипучей деятельностью, когда прожорливый пигмей раздувается и душит все подлинно человеческое, когда оказывается, что обыватель более живуч, чем человек. Разве такое вынесешь?» [15]15
Ũber Hans Erich Nossack, S. 27.
[Закрыть]
Но интересно присмотреться не только к Клонцу, но и к его антагонисту, повествователю в этом рассказе. Это тоже первый набросок характерного героя, который в разных видах встретится позднее во многих произведениях Носсака: человек искусства (в данном случае писатель), мало приспособленный к действительной жизни и не желающий «врастать» в нее, понимающий, что он бессилен перед Клонцем, появление которого заставляет его искать револьвер, ибо самоубийство лучше, чем жизнь с Клонцем. В то же время это человек, в котором сильны связи с близкими ему людьми, в обстановке всеобщего распада чувствующий ответственность за гуманистическую связь эпох. Характерный для Носсака сюжетный мотив этой связи и одновременно неподвижности жизни: рассказчик говорит, что сто пятьдесят лет тому назад похожий на него писатель видел перед собой своего Клонца, и через сто пятьдесят лет его потомок, другой похожий на него писатель, будет видеть перед собой будущего Клонца. Однако мысль о неподвижности жизни и неискоренимости зла не заставляет его уклониться от своего человеческого долга, «отойти в сторонку»: «Как измерить глубину нашего падения, если мы все отойдем в сторонку и будем делать вид, что все хорошо? Да и где она, „сторонка“? Дома лежат в развалинах, маскарадные костюмы изодраны в клочья, а высокие слова потеряли былое звучание. И будь ты хоть самый великий актер, в какую бы позу ты ни встал, все сразу смекнут, где у тебя болит».
Особая горькая ирония заключается в том, что Клонц всего лишь персонаж из книг писателя. Но призрачное создание, рожденное его воображением, оказывается жизнеспособнее, чем он сам.
«Стоический пессимизм» – философская максима и жизненная позиция, весьма широко распространенная в искусстве XX века, – у Носсака лишен какого-либо ореола героичности, как это часто бывает; на жизненной философии героев его книг всегда лежит оттенок трагизма.
Правда, трагизм этот, как уже говорилось, достаточно умозрителен. В книгах 50-х годов Носсак разрабатывает некий миф, «творимую легенду» о «двойственности» человеческого бытия, в котором рядом с повседневной жизнью – отвергаемой им и его героями – лежит отделенный от нее незримой чертой иной мир, к которому причастны лишь немногие. Для этих немногих понятна «ненастоящность», иллюзорность повседневной – читай: буржуазной – жизни и высшая реальность тех нравственных ценностей, которыми обладают немногие избранные.
Излюбленная повествовательная форма в книгах Носсака – монолог, что имеет для него особое значение. В традиционной речи по поводу присуждения ему премии Бюхнера в 1961 году он говорил: «Собственная правда в современном мире есть единственная правда. Признаться себе в этом – своего рода революционный акт. Формой современной литературы может быть только монолог. Только он отражает состояние человечества, потерявшегося в чаще абстрактных правд» [16]16
«Merkur», 1961, S. 1001.
[Закрыть].
В то же время эта речь была не столько проповедью воинствующего субъективизма, сколько призывом к самостоятельному мышлению, филиппикой против бездумного «попутничества» как опасного знамения времени.
Ганс Эрих Носсак принадлежит к писателям, которые от книги к книге создают свой мир, окрашенный в тона определенного настроения, с устойчивыми образами, деталями, лейтмотивами. «Люди духа» противостоят в этом мире «людям практики», при этом сдержанность, холодность, одиночество принадлежат к непременным атрибутам героев, наиболее близких автору. Это те, кто «переступил черту», которая отделяет их бытие от жизни напористых и бездуховных «буржуа» (Г. Бёлль делил героев на «принявших причастие агнца» и «принявших причастие буйвола»). Огромную роль в мире Носсака играет любовь как связующая сила и женщина как средоточие любви. Но часто встречается у него образ злой и несправедливой матери, больше похожей на мачеху из народных сказок. С годами он стал все чаще вводить в новые книги героев своих предыдущих произведений, как бы замыкая созданный им мир в единую вселенную.
Характерным примером носсаковского творчества 50-х годов может служить «Спираль. Роман бессонной ночи» (1956). Романом эту книгу можно назвать только условно. Она состоит из пяти вполне самостоятельных рассказов, печатавшихся отдельно и до и после выхода в свет «Спирали». В них не совпадают ни герои, ни место, ни, очевидно, время действия (примет времени в этой книге немного). Если читать эти рассказы как произведения о современности, то они привлекут наше внимание тонкостью психологического рисунка при известной странности сюжетов. В рассказе «На берегу» прекрасно воссоздан внутренний мир юноши, почти еще мальчика, рассказывающего о себе и своей жизни впервые увиденной им девушке на постоялом дворе, в комнате которой он проводит ночь; трудно понять, однако, в чем заключается тайна той жизни, откуда он пришел, переправившись через реку. Рассказ «Механизм саморегуляции» построен на столкновении двух характеров – человека, живущего по законам своей совести, и приспособленца-карьериста (в рассказе отчетливо слышны сатирические ноты, действительность в нем гротескно «сдвинута»); в «Немыслимом судебном следствии» речь идет о судебном процессе над страховым агентом, подозреваемым то ли в убийстве своей исчезнувшей жены, то ли в соучастии в преступлении, которое она совершила прежде, чем скрыться; «немыслимость» заключается в том, что подсудимый и судьи говорят как бы на разных языках. Парадоксальная ситуация «Помилования» строится на том, что пожизненно осужденный долго отказывается выйти из заключения, ибо «свободная жизнь» кажется ему не лучше, а хуже тюремной. Наконец, в последнем рассказе «Знак» описывается полярная экспедиция, участники которой натыкаются в безмолвной снежной пустыне на замерзший труп того, кто шел по этому пути раньше их, причем на его лице застыла непонятная улыбка; у этого таинственного «знака» происходит спор между участниками экспедиции – вернуться назад и спасти себя или идти вперед, туда, где их ждет открытие неведомого, но и неизбежная гибель?
Но в каждом из этих рассказов есть приметы «двоемирной» носсаковской мифологии, связывающие их, по авторскому замыслу, в цельное повествование. В каждом действуют люди обоих характерных для него типов – те, кто связан с текущей действительностью и буржуазной практикой и потому воплощает зло, и те, кто с ней не связан, носители нравственного и интеллектуального начала, непонятые и осмеянные, а иногда и преследуемые людьми «сиюминутной» жизни. На страницах «Спирали» встречаются образ реки – как границы двух миров – и образ «города за рекой», как символа иного мира (навеянного, очевидно, романом Г. Казака под таким же названием «Город за рекой», впервые опубликованным в 1954 году). «Снежная пустыня», «буран» – это тоже приметы этого мира. Рассказ, в котором оба мира встречаются и где все, казалось бы, должно объясниться («Немыслимое судебное следствие»), – еще один «игровой» прием Носсака, – ничем не кончается, ибо, как утверждает автор, запись процесса обрывается «на середине страницы, на середине фразы».
Таким образом, рассказы, составляющие «Спираль», выстраиваются в историю человека, причастного к «высшему бытию», – он учится жить среди чуждых ему людей обычной «буржуазной практики», порывает с приспособленчеством, которое решительно не приемлет, его судят не понимающие его люди и держат в тюрьме (характерен мотив полного разочарования в боге, проходящий через рассказ «Помилование»), Последний рассказ – «Знак» – тем самым следует понимать как признание своего поражения, невозможности «переступить черту», то есть добровольно отправиться в тот неведомый, холодный мир, в который замерзший человек вглядывается с непостижимой улыбкой; герой принимает решение вернуться к «алтарям и бабам», то есть в обычную жизнь. «Спираль» рассуждений вернулась к исходной точке. Круг замкнулся. (Понятие «спирали» после выхода в свет романа Носсака долго не сходило со страниц печати.) «Все мы оппортунисты», – говорилось в рассказе Г. Э. Носсака «Некролог» (1954), где впервые это «двоемирие» было сделано принципом изображения.
Но есть еще один сюжетный слой в этом романе, снимающий метафизичность носсаковского «двоемирия». Предуведомление к нему говорит нам, что он представляет собой как бы поток смятенных мыслей человека, который в бессонную ночь продумывает свою жизнь, разделившись на разные живущие в нем роли; он сможет обрести покой только тогда, когда оправдает себя, по «спираль его мыслей» постоянно «выбрасывает» его в бессонницу: «Может быть, человек в результате прекратит борьбу и, зябко ежась, встанет у окна. На улице уже светает, защебетали птицы». Эти слова можно трактовать как «оппортунизм», а можно и как возвращение к жизни.
Вслед за «Спиралью» Носсак сравнительно скоро выпустил в свет еще два романа – «Младший брат» (1958) и «После последнего восстания» (1961). Это были попытки развить тот же комплекс идей, но на более широком фоне реальной жизни. В первом главное лицо – инженер, вернувшийся на родину из Бразилии, во втором – проститутка, умирающая на больничной койке. Однако, чем шире сюжетная канва захватывала жизненный материал, тем труднее было показать и объяснить его с некоей «интеллектуально-символической» точки зрения. Переусложненные, далекие от реальных проблем романы эти не принесли Носсаку славы; «Спираль», напротив, была широко замечена и имела больший успех, чем, например, роман «Не позднее ноября» (1955), ближе стоящий к проблемам действительности. Объяснять это надо не только виртуозным композиционным и стилистическим мастерством, с которым написана эта книга, но и ее главной, исходной мыслью – неприятием буржуазной повседневности. В обстановке рекламного «экономического чуда», в которой «Спираль» вышла в свет, эта книга звучала как протест против реставрационной политики и погони за обогащением, против бесчеловечной буржуазной морали. Эти критические мотивы, даже утопленные в метафизике и сознании бесцельности борьбы, воспринимались как вызов, как протест.
В 60-е годы эта сторона творчества Г. Э. Носсака стала заметнее. Он много работает, выпуская одну за другой книги, весьма разные по своему построению и сюжетам, – рассказы, романы, пьесы, сборники статей. Его начинают широко обсуждать в текущей критике; он получает наиболее авторитетные в стране литературные премии (имени Бюхнера, 1961, имени Раабе, 1963). Повесть «Завещание Луция Эврина» была названа в печати «художественно наиболее удачным произведением, которое Ганс Эрих Носсак написал по сей день»
Повесть «Завещание Луция Эврина», вышедшая с пометкой «написано в 1963 году», стилизована под завещание римского патриция, жившего в конце II века нашей эры, которое было составлено им перед тем, как он совершил самоубийство. Непосредственной причиной самоубийства стало непереносимое для него известие о том, что его жена приняла христианство, с распространением которого сам Эврин, приближенный императора, борется всеми доступными ему средствами. Подлинная причина самоубийства лежит глубже, в осознании им неизбежности грядущей победы сторонников христианства. Носсака в этой повести, как и в большинстве других книг, меньше всего занимают вопросы религии. Христиане (именуемые Эврином «безбожниками»), так же как и сторонники традиционной римской религии (именуемые их противниками «язычниками»), – это всего лишь обозначения для борющихся партий и исторических тенденций на рубеже двух эпох. Луций Эврин, старающийся бороться с христианством более искусно, чем его грубые предшественники, – то есть не устрашающими репрессиями, которые превращают их в мучеников, а по возможности мягкими мерами, – видит бесплодность своих усилий. Убедившись в неизбежном крахе Римской империи, которой он служит, и по-прежнему не приемля христианского учения о равенстве, которое пугает его, но за которым, как он понимает, будущее, он кончает жизнь самоубийством, видя в «добровольной смерти одиночки» единственно возможный способ «признания жизни».








