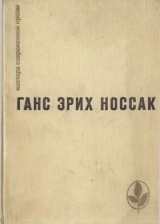
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Ганс Носсак
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 45 страниц)
Эдит потом горячо ее защищала, собственно, без всякой нужды и вопреки себе самой, ибо протоколист не допускал ни единого неуважительного замечания на ее счет. Эдит утверждала, что неприбранные, сальные, седые космы, неопрятный ворот платья, оборванная тесьма, болтающаяся пуговица и желтые от неумеренного курения пальцы – всего лишь маска, точь-в-точь как у ее отца усики и костюм дипломата. Но это верно лишь отчасти. Правда, сама «женщина в окне» как-то рассказала о себе:
– Когда эти куколки, от которых так и разит душистым мылом, сидят у меня и я разжимаю их ручонки, они от страха только что не обмочатся. Тут плети им что вздумается, они всему поверят. Правда, детка, им предсказывать будущее – невелика хитрость. Деньги, постель, светский форс. Для тех, что там, на улице, стоит потрудиться, они и сами понимают что к чему и действительно хотят кое-что узнать. На них надо работать честно.
А все-таки занятно было бы увидеть эту женщину вместе с д'Артезом. Разумеется, как только он объявился тогда в Берлине, она тотчас же к нему отправилась.
– Я прочла это в газете. В те времена чудные были у нас газеты, совсем не то, что нынче. Я тут же поехала в клинику. Поехала? Легко сказать, это был настоящий поход, ведь трамвай встретишь – считай повезло. Но дел у меня особых не было, лишь бы как-нибудь продержаться, а пройтись всегда полезно. В клинике какие-то хорошо выбритые американские мальчики стали спрашивать, не могу ли я его опознать. Ну ясно, если он – это он, отчего же нет? Это был он, хотя смахивал скорее на скелет, а глазищи точно у иконы, писанной с какого-то святого подвижника. Нечего сказать, милый, говорю, хорошо же они тебя отделали. Тут он ухмыльнулся, вернее, попытался ухмыльнуться и даже бровь вздернуть. На нем каждый мускул, каждую жилку видно было. Ни дать ни взять наш прежний Эрнст. Только не перенапрягайся, милый. Здешние девочки предупредили меня, чтоб я тебя всячески щадила. А что я тем временем не похорошела, мне и без твоей ухмылки ясно. Пусть эти бабенки тебя тут выходят, а там загляни ко мне на досуге. Мы вдоволь посмеемся над всей этой несуразицей. Bye-bye, прощай, как нынче говорят. Да-да, я называла его «милый», но ты, детка, ничего такого не думай. Просто актерская привычка. Ну вот, в один прекрасный день стоит твой папа у моих дверей, отъелся опять, под мышкой держит бутылку джина, у американцев прихватил. Так ты теперь в новом наряде? – спрашиваю, и мы чуть со смеху не померли. Я, понятно, ему во всех грехах исповедалась. Мы, надо вам сказать, на какое-то время потеряли друг друга из виду. Больше из-за моего замужества, чем из-за его женитьбы. Хотя и твоя мать не пришлась мне по вкусу, уж ты не обижайся. Но я-то какого дурака сваляла! Что бы вы думали, дети, я, которая тут судит да рядит, сама на пару черных штанов позарилась. Вот эти черные штаны вместе с начищенными сапогами и мундиром в обтяжку и уволокли желторотую пичугу прямиком со сцены. С трудом верится. Привеском к ним оказался юный красавец эсэсовец. Смазливый дурень – и только. И вовсе не жестокий зверь, ах, если бы хоть зверь, как нынче их описывают. Смазливый дурень – и только. Упокой, господи, его душу, повезло ему, погиб где-то в России. Но к тому времени я уже давным-давно с ним разошлась. Вся история только полтора года и длилась. Детей у нас не было – в те годы вполне благовидный повод для развода, хотя, по правде говоря, я малость посодействовала тому, чтоб детей не было, это в наших силах. Да, такое вполне может приключиться. Возьмите себе на заметку, молодой человек, такое вполне может приключиться. А уже допустив раз подобное неразумие, саму себя перестанешь принимать всерьез, и в этом есть прок. Да и всех куколок, что являются сюда прямехонько из пенной ванны и желают знать свое будущее, тоже всерьез принимать не станешь. Будущее! Словно бы у них есть будущее! Но тебя, детка, пусть моя болтовня не сбивает с толку, испытай все сама, ничего страшного. Я только потому этот вздор припомнила, что мы с твоим папой довольно долго из-за этого не встречались; я бы ему глаза выцарапала, вздерни он только брови. Ну а потом его и залапали. Кругом война, бомбы сыплются. Обычная история. Времени не было раздумывать, что такое счастье и тому подобные вещи, в этом тоже свой плюс… Да, так вы, стало быть, в Африку собрались, молодой человек. Неужели это обязательно? На три года? И кто вам эту мысль внушил? Не Ламбер ли? Ну ладно, ладно, не горячитесь. Какое мне дело? Только не воображайте, будто эта девочка станет вас дожидаться. Этак каждый бы в Африку укатил, хорошенькое дело, а дома его ждет-пождет такая дурочка. И ты, детка, не внушай себе этих глупостей. Всех этих Сольвейг мужчины выдумали, чтобы про запас кого-то иметь, кто их покоить станет, когда они с малярией вернутся. Выкинь эти глупости из головы. Расскажи мне лучше о Ламбере. О твоем дяде Ламбере, как ты его называешь. Как удалось ему опять человеком стать? Правда, что он уснул, когда жена его наконец кончилась? Твой папа мне что-то такое рассказывал. Единственно разумное, что довелось мне слышать о Ламбере. Да! Да! И нечего пугаться. Его жене давным-давно пора было умереть, у нее ни кровинки в жилах не было, только стихи да какая-то там новомодная философия. Такие дамы нынче десятками на званых вечерах и вернисажах толкутся. Было б это хоть уверткой, чтоб мужа подцепить, так нет же, они в эту несуразицу искренне верят. От всего этого с души воротит, тут уж ничего не остается – только бегством спасаться. И что за мужчины пошли, всю эту заумь слушают. Утром, за завтраком, все о литературе невесть что плетут или вечером, как в постель ложиться. Б-ррр! Всякая охота пропадет. И даже если они придерживают язык, ты все равно робеешь от собственного невежества. И ваш Ламбер туда же. Что он себе в голову вбил? Я его жену всего два-три раза и видела, в гостях у кого-то. Истинно живой мертвец, слепому видно было. Кровь в жилах стынет, только до нее дотронься. Так надо, чтобы именно Ламберу пришло в голову поддержать в этом диковинном существе жизнь, и он женился на этой женщине. Да такая женщина даже Геркулеса в два счета обратит в тень. Однако мне-то какое дело, с меня собственных глупостей хватает. И в те времена меня это ничуть не касалось. Пусть бы женился, раз уж хотел, и себя на муки обрек. Но вот он уснул, когда она умирала, – и в моих глазах опять человеком сделался, показал себя прежним Ламбером… Ну, хватит, теперь сделайте одолжение, ступайте и оставьте меня одну. Ничего не попишешь, детка. Придется тебе свою судьбу на собственном опыте познавать. А если твой молодой человек сочтет за лучшее познать это с негритяночкой, так про то на его руке все равно ничего не найти. К судьбе и прочему вздору она никакого касательства не имеет. А теперь марш! Проваливайте! Не то я окончательно разозлюсь. И кто только все так несуразно устроил! Ах, да что там, подойди-ка поцелуй меня. И ровным счетом ничего не значит, что я ревмя реву. Все старые бабы ревут, когда такие цыплята рвутся под нож, воображая, что отныне все у них пойдет хорошо.
12
Ламбер тоже был вне себя от злости, когда протоколист зашел к нему в понедельник, после того воскресного вечера.
Он свирепо зашипел на протоколиста, едва тот подошел к нему в библиотеке:
– Вы что, у Норы побывали?
– Но… ведь было же воскресенье, – заикаясь, ответил тот.
– Да, это мы заметили. Эдит вечером приходила ко мне.
– Я думал… Эдит?
– Да, Эдит, а кто же еще? Ну, пока.
Через полтора часа, когда библиотека закрылась, протоколист первым делом рассказал об агенте, которого повстречал на Кляйне-Бокенхеймерштрассе. Ламбер пренебрежительно махнул рукой:
– Для меня это давным-давно не секрет. Я как-то пригласил привратника того дома на кружку пива в пивную, что на Ротхофштрассе. Неужто ваш господин Глачке думает, что способен втереть очки привратнику? А тем более жене привратника? Что за младенцы сидят в вашем Управлении безопасности! Неужто эти идиоты считают, что привратница сей же час не заметила, кого им посадили на чердак? Да еще если молодчик за галстук закладывает и на улице ногами вензеля выписывает… Хуже всего, однако, что бедняга попал в беду. Я кое-какие справки навел у Норы.
– У Норы?
– Ну да, у кого же еще?
– Вы были у Норы?
– Конечно, если вы не возражаете. Когда Эдит ушла, я отправился на Таунусштрассе. Вот видите, каких вы наделали дел?!
– Я?
– А кто же еще? Чтобы узнать у Норы, были вы у нее или нет.
– Я?
– Господи, да оставьте вы свое дурацкое «я?». Неужто вы думаете, что я из-за какого-то безмозглого агента куда-то поплетусь? На лицо я, правда, обратил внимание – похоже, где-то я его встречал. А потому, между прочим, с Норой и о нем переговорил. Они там все друг друга знают, и шпиков тоже. Нора, ясное дело, отнеслась к моим словам настороженно, но в конце концов позвала дружка от стойки, а тому дельце представилось весьма серьезным, и он тут же отправился кого-то остеречь. Честно говоря, я не очень-то понял что к чему, да меня это и не занимало. Заурядная, видимо, драма ревности. У этой публики такого рода казусы еще бывают. Но им не нравится, если у них кого-нибудь прихлопнут; пойдут неприятности с полицией, да и в деле помеха. Вот они и стоят друг за друга и пытаются своими силами предупреждать такие происшествия. Какая же несчастливая рука у вашего господина Глачке, а все потому, что ничего-то он в жизни не смыслит. Подбирает себе в сыщики прощелыгу, которого собираются укокошить. Но это не наше дело. Жаль, я считал вас разумнее. И не кричите, пожалуйста, «я! я!». Крикнули бы, что ли, для разнообразия «я сам!». Теперь, похоже, стали различать «я!» и «я сам!». Только не спрашивайте, что под этим разумеется. Я такое название прочел на книге. А может, нам потолковать об этом перед микрофоном, к сведению вашего господина Глачке, ведь если уж мы с вами не сообразили, что тут к чему, так его эти слова тем более собьют с толку. Сочиним какую-нибудь песенку: «О Нора, скромненькое „я“ отринь, славь собственное сладостное „Я“». Вполне можно спеть… Ну, ладно, пошли, за обедом обсудим.
Ламбер, насвистывая, подбирал к своему тексту разные мотивы.
– Ох уж эта аллитерация! – самодовольно проворчал он.
Сегодня они обедали в пивной на Ротхофштрассе. Ламбера там знали. Не только парни, что околачивались возле стойки и о чем-то спорили, но и белокурая дама, работавшая у пивного крана. В зале было шумно, музыкальные автоматы без устали гремели и звенели.
Ламбер заказал мясное блюдо и возмутился, что протоколист не пожелал того же.
– Уже приходится экономию наводить? – спросил он.
Но потом, разрезая осторожно, чтобы не обрызгаться, свежую ливерную колбасу, рассказал, какую чепуху наговорил накануне ночью в микрофон.
– Погодите-ка, – сказал он и стал рыться в кармане, отыскивая какую-то записку. – Экспромты тут не годятся. Возвращаясь от Норы, я весь текст точно сформулировал. И даже попытался еще прежде, чем снял красную лягушку с микрофона, придать голосу тревожное звучание. Вот, слушайте:
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ЗАМОРОЖЕННЫМ!
НАС ЗАМЫСЛИЛИ РАЗМОРОЗИТЬ.
ЗЛОВОНИЯ НЕ ИЗБЕЖАТЬ.
БЕРЕГИТЕСЬ КОНТАКТНОГО ЯДА!
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕННАЯ БОЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ!
Передавал, как обычно, на ультракоротких волнах. Подумайте, что начнет вытворять ваш господин Глачке. Политическая взрывчатка! Недобитое прошлое! Зловоние! Э, да все равно, это я из-за вас передал текст в эфир, уж очень вы меня разозлили. Нет, успокойтесь, собственно, не из-за вас, а из-за Эдит.
– Из-за Эдит? Но какое это имеет отношение к Эдит?
– Из-за ее любопытства, мой друг. Тьфу! Любопытство к прошлому, что за извращенное любопытство! И единственное следствие – трупный смрад. Одним словом, зловоние. Литературная сенсация, сдобренная изрядным запашком. Не удивительно, что мертвые предпочитают оставаться мертвыми. Нора, конечно же, при моих словах насторожилась.
– Нора?
– Да, а кто же еще? Терпеть не может, когда ее о гостях выспрашивают, оно и понятно. Не столько из скромности, сколько опасаясь полиции да еще конкуренции. Но в конце концов мне удалось дознаться, что вы проходили по ее улице и на минуточку останавливались возле пассажа. Вас не Нора видела, она была занята, а кто-то другой. Там все все замечают, такая уж это профессия. Потом вы проследовали дальше, даже не спросив о Норе. Жаль, я считал вас разумнее. Эдит каждый раз злится, когда я называю вас сиротками, но, к сожалению, вы именно сиротки… Чтоб успокоить Нору, которая все еще держалась настороженно, я потолковал с ней и ее дружком о подоходном налоге. Вот надежная тема и нас всех касается. Черт побери, к тому же мне этот визит стоил денег! Ночь-то была воскресная, клиентов полно. Пришлось хоть как-то возместить Норе потерю заработка. Сунул ей кредитку, а все по вашей милости, да. Потому-то я так зол на вас. Ну ладно, ладно.
У меня, надо вам сказать, отличная идея относительно подоходного налога. Вполне осуществимая идея, она прямо-таки носится в воздухе и как нельзя более соответствует духу времени. Вот я и попытался воодушевить Нору, ее дружка, а также их приятелей и приятельниц, что сидели вокруг. Само собой разумеется, им понадобится организатор, я слишком для этого стар, но я предложил вас, вы юрист и все ходы-выходы знаете. Если бы не ваш чудаческий план – кончить курсы и отбыть в какую-то там развивающуюся страну, – я настоятельно рекомендовал бы вам занять этот пост. Вы бы на этом разбогатели. Подумайте лучше лишний раз, прежде чем впутываться в нелепую затею с развивающимися странами. Мое предложение куда современнее, у него большое будущее. У господина Глачке глаза на лоб полезут. Что же собирается предпринять ваш покорный слуга? Да только то, что предусмотрено конституцией, не более.
Итак, речь идет всего лишь о марше протеста наших девиц. Предварительную рекламу марша следует, конечно, продумать до мельчайших деталей. Без наторелых мастеров рекламы и психоанализа не обойтись. За этой братией дело не станет, пусть только почуют бизнес, в этом можно не сомневаться. «Пересмотр подоходного налога» – сам по себе неплохой рекламный лозунг, но одним лозунгом мы не ограничимся. Всегда ведь найдутся такие, что болтают о гражданском долге и прикидываются, будто с готовностью платят подоходный налог. С этим надо считаться. Нет, нам придется взывать к более глубинным инстинктам.
И Франкфурт представляется мне самым подходящим местом, чтобы начать наш марш. Западный Берлин отпадает. Ваш господин Глачке сразу же стал бы молоть всякий вздор о марксистских подрывных действиях и лишь скомпрометировал бы нашу затею. И Гамбург тоже. Их Санкт-Паули уж очень затрепали киношники, а у нас речь не о фильме. А вот такой безликий транзитный город, как Франкфурт, к тому же с аэропортом, для подобной общеевропейской идеи… Э, стойте-ка, идеи рождают идеи. Выражение «общеевропейская идея» нечаянно сорвалось у меня с языка, а ведь это же находка для рекламы и транспарантов. Наша старая добрая Европа единым махом вновь упрочила бы свои позиции. Это требуется еще основательно продумать. Да, удар по американизму. Они там сами себе отсталыми покажутся, особенно в связи с оттоком валюты на наш континент. Перед «общеевропейской идеей», если на нее не слишком Нажимать, даже ваш господин Глачке вынужден будет капитулировать.
Итак, марш протеста наших дам, который начнется на Кайзерштрассе, пройдет мимо памятника Гёте, Франкфуртерхоф и Гауптвахе, выйдет на Цейльштрассе и, наконец, пересечет площадь Либфрауэнберг и двинется к Рёмеру. Классический маршрут и не слишком длинный для наших дам на высоких каблуках. В первых рядах – дамы экстракласса в собственных «мерседесах», без устали сигналя; эти перлы нашего общества всенепременно должны принять участие в марше. И они наверняка примут участие, можно не сомневаться. Не из коллегиальности, нет, упаси боже, просто эта проблема касается их еще больше, чем их пеших товарок. Нельзя ли, например, исключить стоимость «мерседеса», поскольку машина связана с профессией, из суммы, облагаемой налогом? Недопустимо же, чтобы работающие налогоплательщицы, полноправные гражданки, были ущемлены в своих интересах по сравнению с каким-нибудь промышленным магнатом, это неслыханно! Вам, как юристу, следует взять себе это на заметку, такой устарелой несправедливостью должны наконец заняться и ученые.
Да, главное, и это определит наш успех: марш протеста будет проходить в высшей степени благопристойно. Скажем даже, благонравно. Пусть каждый почувствует, что речь идет о жизненно важных проблемах, об основных законах. Все, до самого Карлсруэ [38]38
В Карлсруэ находится Федеральный конституционный суд.
[Закрыть], должны это почувствовать. И разумеется – об этом можно и не упоминать, – никаких обнаженных тел, никакого секса, пусть этим пробавляются кино да иллюстрированные журналы, для нас это интереса не представляет. Длина юбок точно в соответствии с требованиями моды. Элегантность – да, но не экстравагантность. Впрочем, такие вопросы мы можем спокойно препоручить нашим дамам. Какая бурная распродажа начнется в салонах мод в преддверии марша! Парикмахерам придется работать сверхурочно. Какое увеличение оборота, трудно себе представить! Преодоление экономического кризиса! Банкиры сразу же навострят уши.
Убежден, они заблаговременно забронируют пользующиеся спросом стоянки, откуда удобно наблюдать процессию. Возможно, стоянками начнут спекулировать. Однако всякая индивидуальная реклама должна быть строжайше запрещена. Как, например, кивок той или иной дамы кому-нибудь из возможных клиентов или наоборот. Это вызовет скандал, вмешается полиция. Ну а на Рёмере, где процессия начнет распадаться, можно, пожалуй, дозволить ярмарку с продажей сосисок, с тирами – там наши дамы смогут выиграть говорящую куклу – и с качелями, на которых взлетают юбки. Этим мы не нарушим ни единого табу. Малая толика фольклора не помешает, но все в меру. Да, а что до музыки, то без нее никак нельзя! Понятно, не Баденвейлеровский марш [39]39
Старый военный марш, популярный в гитлеровской Германии.
[Закрыть]и никаких национальных гимнов, имея в виду международный характер протеста наших дам, как бы ни было соблазнительно исполнить «Марсельезу». Можно даже пригласить смешанную капеллу – свирели и гармоники, она возглавит шествие. И почему бы ей не исполнить такие добрые старые песни, как «Мне пора в поход…» и «Прости-прощай, родная сторона»? Они вполне подойдут, в этом вопросе нам нельзя придерживаться своих вкусов, мы обязаны помнить, что наши дамы крайне консервативны. Да, а когда на Рёмере участники процессии начнут расходиться, можно исполнить «Всем сердцем я служу тебе». Торжественно, в темпе хорала. Вполне уместно. Это свидетельствовало бы о готовности налогоплательщиц служить отечеству и доказывало бы, что они требуют всего-навсего налогового равноправия.
Кстати, раз мы заговорили о равноправии: на стороне наших дам будут, естественно, художники и писатели, они точно так же заняты тяжелым трудом где-то на периферии общества, не имея прав ни на уменьшение налогов, ни на обеспечение в старости. Надо, чтобы транспаранты были написаны известными художниками. Никаких обнаженных грудей или голеньких попок! Подобная профессиональная обыденщина не соответствует серьезности момента. Быть может, там и сям хорошенький пупок, это еще допустимо, но в принципе я скорее за известную ремифологизацию, она куда привлекательнее, к тому же в ней есть потребность. Большие надежды возлагаю я на поэтов. Их гимны будут предложены для всеобщего обсуждения в литературных отделах газет и журналов.
Но все это лишь наметки. Советую вам, организуя это мероприятие, поначалу сосредоточить свое внимание на теме увеличения оборота. В проспектах следует как можно чаще употреблять такие слова, как «индекс котировки акций», «доход с ценных бумаг», «помещение капитала», «потребительские товары» и тому подобное. Нам необходимо завоевать доверие биржи, и притом не какими-то там махинациями, а с помощью кулисы. Речь ведь идет не только об отдельных отраслях промышленности – таких, как производство дамского платья и косметики. Я упоминал уже автомобильную промышленность. Кроме того, гостиничное дело, да и рестораторы будут заинтересованы, а за ними стоят мясники, а за мясниками – сельское хозяйство, импорт и экспорт. Для всего этого опять-таки нужны машины и суда. Авиакомпаниям придется фрахтовать дополнительный самолеты, не только из-за притока иностранцев, нет. Ввиду внезапного увеличения спроса возникнет необходимость приглашения подобного рода дам из-за рубежа. Отчего не разрешить им попользоваться нашей идеей? В благодарность они распространили бы ее по всему миру. Мало того, осторожно и без намека на антивоенную тенденцию можно с успехом прибегнуть к таким выражениям, как «ненасильственные действия» и «мирное проникновение». Однако такие библейские изречения, как «мир на земле и в человеках благоволение», я бы пока что не рекомендовал. Надо избегать всего, что попахивает частицей «анти».
Ах, и все это во Франкфурте! Представьте себе только: город Гёте и Ротшильда, идея синтеза издавна носилась в воздухе. Наконец-то приспело время.
Кое-кто возразит, что мы якобы рассоримся с франкфуртскими домохозяйками. Вот вам при-мер того, как психологи запутываются в сетях собственных абстракций. Разумеется, каждая домохозяйка, встретив соседку на лестнице или в лавке, непременно скажет: «Слыхали? Ну, разве не возмутительно?» И безусловно, они не станут приветствовать наших дам на улице, когда те прошагают мимо, этого мы, понятно, не дождемся. Но пылесосы они выключат, и электростанция зарегистрирует, без сомнения, что потребление электроэнергии в этот час заметно сократилось. Не так, кстати сказать, велики потери, а убыток будет стократ возмещен. Мало того, домохозяйки притаятся за гардинами, внимательно и критически наблюдая за процессией. Ведь приходится быть на уровне века! Кто же добровольно сойдет с дистанции? Все это само собой разумеется, тем не менее в проспектах можно заблаговременно намекнуть, что особенно, и в первую очередь в смысле налогов, ущемлены интересы тяжко и беззаветно трудящейся домохозяйки. Необходимо на основании статистических данных довести до всеобщего сведения, например, ежедневный километраж домохозяйки, работающей по дому, сравнив его с километражем наших дам на улице. Можно бы осторожно намекнуть, что если уж речь зашла о проституции, так прежде всего именно домохозяек беспощадно эксплуатируют, используют и проституируют. Надо бы направить в газету читательские письма о «праве женщины на счастье и нежность». Необходимо ввести наконец и у нас в высшей степени полезный американский аргумент «душевная жестокость». Уж с ним-то мы дел наворочаем.
Нет, мой друг, домохозяйки меня не беспокоят, загвоздка совсем в другом, и, если мы не найдем решения, нашему начинанию грозит провал. Я битый час урезонивал Нору и ее товарок, подсевших к нашему столу. Приятели этих дам тоже сидели с нами. Все разумные деловые люди, без иллюзий, пекущиеся о собственной выгоде. Нашему брату легче дышится среди них, в этой далекой от всякого романтизма атмосфере, и, несмотря ни на что, он вновь верит в будущее. Так нет же! В этой среде натыкаешься на такой консерватизм, что можно в отчаяние прийти. У нас уже есть космонавтика, у нас уже есть гормоны, у нас уже есть диалектическое понимание истории и хитроумные компьютеры, обеспечивающие нас как положительными, так и отрицательными ответами, все в высшей степени прогрессивные вещи… так нет же! В этой среде люди так возмутительно консервативны, что и нынче еще предпочитают современной методике допотопный образ действия, уместный тысячу или пять тысяч лет назад. Если бы речь еще шла об историзме, об эффективном в известном смысле использовании исторических костюмов, это можно было бы понять… так нет же! В этой среде фанатически придерживаются своей веры. Это действует удручающе. Чувствуешь себя дурачком. Мои рассуждения Нора и всерьез-то не приняла.
Да, мой друг, если уж трудиться во имя развития, так не было бы это благодарной для вас задачей?
Но поговорим об Эдит…
13
Не следует забывать, что записывается этот разговор едва ли не полтора года спустя. И прежде всего, что протоколист, перепуганный внезапным заявлением – «Поговорим об Эдит», – и представить себе не мог, что Ламбер вскоре скончается. Смерть Ламбера и чувства, которые она разбудила, в корне изменили воспоминание об этой сцене. Кроме того, протоколисту в ту пору был еще неизвестен ламберовский опыт самотолкования, разбор которого, найденный в его бумагах, под названием «Нежелательные последствия» присоединен к этим запискам, ибо в нем по меньшей мере заключена попытка объяснить, какими видели себя Ламбер и его поколение и почему они всячески затушевывали свое изображение, едва она начинало вырисовываться. В сочинении этом встречается парадоксальная фраза: «Нам требуются информаторы, умеющие держать язык за зубами», – фраза, которую с тех пор протоколист не в силах забыть. Если протоколист верно понимает эту фразу, то Ламберу в ту пору было далеко не просто, посвятив столь пространное отступление Норе, внезапно вновь заговорить об Эдит.
Одно только несомненно – внезапный поворот разговора произошел в комнате Ламбера, куда после обеда он пригласил протоколиста, и Ламбер, убедившись, что микрофон обезврежен, говорил, стоя по своей привычке у открытого окна.
Протоколист сидел наискось от него за столом и видел говорящего только в профиль – то зеленый, то синий, то красный от рекламных огней.
Вполне возможно, что в тот вечер первое, что захотелось сделать протоколисту, – это вскочить, запротестовать и по-ребячески заявить: «Об этом я говорить не желаю, это мое личное дело».
Сейчас, задним числом, протоколист испытывает стыд, ибо теперь-то совершенно ясно, что не он, а Ламбер становился в ходе этого разговора беззащитной жертвой. Быть может, чувство стыда и послужило причиной настоящих записок – протоколисту хотелось бы многое искупить. Причиной, почему он так боязливо уклонялся от встречи с д'Артезом, сбежав вместо этого на три года в Африку, могло быть только желание познать ощущение беззащитности, прежде чем с важным видом и самочинной уверенностью предстать перед беззащитным.
В разговоре Ламбер упомянул даже отца протоколиста.
– Пусть вы его вовсе не знали, вам полезно поразмыслить, над чем задумывался член ганноверского верховного суда при виде того, как мир его идет прахом, пока вас пестовали в Розенгейме или на Аммер-Зе. Значение имеют лишь те мысли, которые посетили его незадолго до того, как он был засыпан в бомбоубежище. И наверняка перед вашей матерью и другими людьми в убежище человек этот разыгрывал комедию, пытаясь доказать, будто дело обстоит не так уже скверно и будто привести в порядок наш бедный мир проще простого. Вот, милый мой, мысли, которые имеют значение и додумать которые до конца есть смысл.
Он даже без обиняков спросил:
– Какое вам дело до д'Артеза? Вы носитесь с ним, словно с кинозвездой, вместо того чтобы заниматься собственными невзгодами. Кому это нужно? И чем вы особенным разживетесь, откопав с помощью псевдонаучной любознательности и методов тайной полиции два-три факта? Даже не манекеном, а всего лишь изображением манекена. Для чего мы и сочинили ту коротенькую пантомиму, разыгранную год-другой назад. Да, в работе над ней и я принимал кое-какое участие, но идею подал мой друг. Он сказал мне как раз здесь, в этой самой комнате: надо отбить у них охоту смотреть на наше прошлое как на литературную сенсацию! Вначале я подумывал о протухших кушаньях, от которых человека мутит, и ему приходится сунуть палец в рот. Однако подобная сцена не для массового зрителя. Можно также показать стол, уставленный вчерашними закусками, живописно и аппетитно уложенными, но с душком. Так ведь именно д'Артез бы ими не прельстился, а сценке этой в любом случае следовало оставаться пантомимой. Сорви он всю эту показуху вместе со скатертью со стола, сценка получилась бы чересчур назидательной. А наш неизменный принцип – никаких поучении. Вот мы и сошлись на зеркале. Д'Артез стоит перед зеркалом, одергивает жилет и поправляет галстук, затем он опускает на зеркало штору и собирается уходить. Но тут он еще раз оборачивается, чуть-чуть отодвигает штору, заглядывает в щелку. Отражения, понятно, нет, мешает штора. Д'Артез будто бы удовлетворен, но, видимо, не совсем. Он оглядывается. В стороне стоит вешалка, на ней висит точно такой же костюм, как на нем. Д'Артез придвигает вешалку к зеркалу, приводит в порядок костюм и даже вдевает цветок в петлицу. Вот теперь он вполне удовлетворен, все в полном порядке. Д'Артез еще раз подходит к зеркалу и дергает шнурок, штора взлетает вверх. Вот теперь все в порядке. В зеркале – отражение вешалки, а перед зеркалом – вешалка собственной персоной.
Этого вполне достаточно. Ваш господин Глачке вправе выбирать, что ему заманчивее исследовать, отражение или вешалку. А где же д'Артез? Давным-давно за дверью, не забыв на прощание учтиво приподнять шляпу. Нужно ли ему за сценой крикнуть: «Да здесь я, здесь!» – чтобы пояснить свою автобиографию? Но какое уж это пояснение? Сохрани бог! Ведь за сценой-то кулис нет, и зрители, заслышав это «здесь», точно рухнули бы в ледниковую расселину.
Знаете, чем вы меня из себя выводите? Вынуждаете говорить о вещах очевидных, о которых и говорить не стоит. Я куда охотнее прокричал бы что-нибудь в микрофон, дал бы занятие вашему господину Глачке. Хотя бы изречение, что начертано на развалинах оперного здания: «Внимание! Внимание! Истине Красоте Добру!» Они, конечно же, сочли бы это кодовыми словами, призывом сойтись на Опернплац и взорвать там нашу общественную систему. Но ведь нас занимает вопрос об Эдит. Ну-ну, не горячитесь. Можете сколько угодно бывать с ней, гулять, пить кофе. По мне, хоть влюбитесь в нее, это ваше дело и дело Эдит. Но методы тайной полиции – нет! Этак вы девчонку доконаете. Она, должен вам сказать, весьма восприимчива к подобным штукам. Все наши милые абстракции принимает за чистую монету и пытается применить на практике. Со стороны мужчины такие попытки производят комическое впечатление, но для девицы это прямое самоубийство. Знавал я женщину, которая пыталась жить поэзией… не смейтесь, всякое бывает, человек словно заболевает злокачественной анемией… А кончилось все снотворным. Подсыпала бы она мужу щепотку мышьяка в кофе, вот вам и поэзия, и естественное право, Истина, Красота, Добро.








