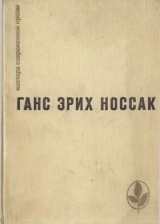
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Ганс Носсак
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 45 страниц)
– О каком здании вы говорите? – спросил прокурор.
– По-моему, вы зовете подобные доходные дома трущобами. Вполне подходящее название. Те, кто там обитает, страхуют свое имущество. Да, все там можно застраховать.
В зале раздался смех, как и каждый раз, когда подсудимый упоминал о страховке; поэтому он обратился непосредственно к публике:
– Да, во все времена их можно было застраховать. В том-то и состоит наше ремесло.
Председатель постучал карандашом по столу, прокурор опять возобновил допрос:
– Ну ладно, вы, стало быть, жили в этой трущобе. Но что заставило вас сесть в поезд и поехать, трястись всю ночь напролет, как вы выражаетесь, чтобы разыскать свою будущую жену?
– Это вышло случайно.
– Пожалуйста, расскажите об этом случае. Но как можно короче.
– Я считал, что вырваться из того дома немыслимо. Ни о чем не мечтал. Со всем примирился. Но как-то раз я указательным пальцем выцарапал узор на слое грязи, покрывавшем оконное стекло. А потом вдруг пошел в домовую контору и обратился к девушке, которая там сидела. Контора была крохотная, еле хватало места для пишущей машинки и для канцелярского шкафа, ведь каждый метр доходного дома должен был приносить доход. Из-за тесноты вся контора пахла девушкой. Девушка сказала, что я могу покинуть здание, выйдя через боковой вход, ото гораздо незаметнее. Сам бы я нипочем не догадался. Ну вот, и тогда я вышел из здания через маленькую боковую дверцу и прямым путем направился к вокзалу. Вот и все.
– Тогда вы еще не были страховым агентом?
– Нет. Им я стал потом. В ту пору я работал у налогового инспектора. Сидел за счетной машиной. Жалованье мне платила небольшое.
– Прекрасно. Но давайте наконец вернемся к вашей жене. Как вы с ней встретились в тот раз?
– Я тихо подошел к дому ее родителей. Тихо только потому, что там царила мертвая тишина. Я не хотел никого пугать. Открыл входную дверь, в деревнях не принято запирать двери. В сенях никого не было. И они выглядели точно так же, как раньше. И шкафы в них стояли точно такие же. Сени были довольно длинные и шли до самого конца дома. Только потолок был, конечно, побелен с тех пор – сводчатый потолок. Да. Но поскольку дом казался словно бы вымершим, я вернулся назад и позвонил. И звонок был точно такой же, как прежде. Маленький блестящий звонок на проволоке. Когда сильна потянешь за проволочку, язычок еще долго раскачивается. Звон был очень веселенький. Раньше я всегда с удовольствием дергал за проволоку. Я хочу сказать, что звонил без особой надобности, ведь дверь обычно не запиралась. Или же я обходил дом и обосновывался на заднем дворе. А не то сразу шел в беседку. На этот раз я потянул за проволоку очень осторожно.
– Оставьте в покое звонок. Суду это неинтересно. Что произошло после того, как вы позвонили?
– Мне пришлось подождать. Второй раз я, кстати, не стал звонить, одного раза было достаточно. Дело в том, что я услышал: слева, в большой комнате, отодвинули стул. Не очень громкий стук, нет, но все же. Вот почему я ждал. Кроме этого, ничто не нарушало тишину. В сенях тоже было совсем тихо. И там решительно ничем не пахло. Да, было воскресное утро. Разве я не сказал об этом? Я вижу нетерпение на ваших лицах, господа. Мне это понятно, я готов опустить подробности. Ведь эту историю я рассказываю без особой охоты, но если уж пришлось ее рассказывать, то надо рассказывать на свой лад, ибо, по-моему, тишина в сенях и чистота имели важное значение. Они имели важное значение для меня в то утро после долгой ночной поездки в поезде. Моя история не терпит нетерпения. Да, и тогда я не чувствовал нетерпения, хотя был голоден… Шагов я не услышал, потому что ее отец шел в одних носках. В толстых мягких носках, их вязала на спицах ее мать, а шерсть они пряли ангорскую, от ангорских кроликов. Отец показался мне меньше ростом, в моей памяти он был выше, хотя, по правде сказать, я никогда о нем не вспоминал. На самом деле он был маленького роста. Отец ее сразу узнал меня и не удивился, что я пришел и что я еще жив. Казалось, все это в порядке вещей, будто я каждое воскресенье утром приходил к ним в гости. И я тоже ничему не удивлялся: я слишком устал. Он пригласил меня в комнату, крикнув в соседнюю комнатенку: «Мать, иди-ка сюда». В большой комнате все осталось по-старому, ничего не изменилось. А потом вошла ее мать, и я обнял ее, хотя раньше никогда не обнимал, но и это тоже показалось всем само собой разумеющимся. Мать была такая бледная! Наверно, из-за больного сердца или от малокровия. Ужасающе бледная! Я ни о чем не спрашивал, и они меня ни о чем не спрашивали. Рассказал им только, что трясся всю ночь в поезде. Тогда ее мать принесла мне большую кружку молока, положила на стол ломоть хлеба и подала мед, желто-коричневый натуральный мед. Я ел, а ее мать плакала. Где-то, не помню где, у них стоял маленький радиоприемник, он был включен, но громкость была небольшая, передавали, вероятно, церковную службу, сперва слышался чей-то голос, потом запели хорал. Но все это очень тихо, радио нам совсем не мешало. Меня усадили на мягкий диван, раньше там сидели старшие, а мы, молодежь, довольствовались стульями – это бывало под вечер, когда угощали кофе с пирожным. И старые клавикорды еще стояли. Они всегда были донельзя расстроенными, а над ними между оленьими рогами висели часы с кукушкой, но часы не ходили, маятник был неподвижен. Мы говорили о моей поездке по железной дороге, о поле с красной капустой и о прочей ерунде. Они не спрашивали, что мне пришлось пережить, ибо давно считали меня мертвым и боялись огорчить, возбуждая неприятные воспоминания. И я не спрашивал об их дочери по той же причине. Да, они соблюдали величайшую осторожность. Не хотели взаимных попреков. Вот почему ее мать заплакала. Она упрекала себя, думала, что теперь уже ничего не поправишь. Напротив меня было окно. Я смотрел в него и все видел, хотя на подоконнике стояли горшки с плющом, который вился по стенкам оконного проема. Я смотрел на склон по ту сторону ручья, на темные облака, которые проплывали над холмом, смотрел, как на секунду выглядывало солнце. Я не выпускал из глаз окно. Быть может, кто-нибудь сойдет по склону, думал я. Но когда я возвращался мыслями в прошлое, то сознавал, что никто, кроме меня, не мог спуститься. Да и солнце светило вниз, на ручей, словно стеснялось, не хотело освещать верх холма. Ведь наверху стоял дом. Дом этот наверху по другую сторону ручья, господа, принадлежал в былые времена моим родителям, это вам необходимо знать. Родители купили дом и слегка перестроили его, чтобы нам, детям, было где проводить лето. Каждое лето мы по многу месяцев жили там, и тамошние места стали как бы нашей родиной. Да нет, не потому, что дом принадлежал моим родителям, а потому… потому… что другой дом, дом, в котором я теперь сидел, казался мне как бы моей родиной. Все угодья родители сдавали в аренду соседям, родителям моей будущей жены. Впрочем, дом по ту сторону уже давно не был нашим, после смерти отца его продали, не знаю уж кому. Семье понадобились деньги, так мне по крайней мере сказал кто-то. Да я и не углублялся в это дело, потерял связь с тем, что осталось позади. Не знал, кто живет в нашем старом доме, считал, что меня это не касается. А сейчас, когда я сидел на диване, и смотрел, как солнце и облака попеременно проходят над склоном, и слушал наши разговоры, в тихий лепет радио, и всхлипывания ее матери, мне казалась, что все это, наверно, похоже на то, что испытывает умирающий, который еще раз обозревает прошлое, удовлетворенно, терпеливо. Извините, господа, что мои мысли были таковы, я ведь не знал, что жена моя живет со своим мужем там, на другой стороне ручья.
– Ваша жена уже была раньше замужем? – с изумлением спросил председатель суда.
– Да… и нет, – ответил подсудимый.
Непонятно, что он хочет этим сказать.
Согласно закону, который уж наверняка имеет силу в этом зале, его жене была замужем до него, даже венчалась в церкви. Но закон в данном случае он просит прощения, ибо никак не собирается выступать против закона, закон в данном случае вводит в заблуждение.
– Иными словами, брак не состоялся?
Подсудимый долгое время не отвечал, наконец председатель суда повторил свой вопрос.
Подсудимый покачал головой.
– Мне трудно понять, почему суд считает необходимым употреблять формулировки, которые обнажают и унижают человека настолько, что охватывает ужас.
Подсудимый произносил слова очень тихо, однако не успел председатель суда сделать ему выговор, как он опять заговорил, на этот раз гораздо громче:
– Тот брак не мог состояться, ибо я и моя жена были созданы друг для друга. Через эту созданность мы перешагнули или, если хотите, сочли, что можем перешагнуть. То была ошибка, за которую всем нам пришлось понести наказание – очень суровое, суровей не мог бы наказать ни один суд на этой земле. Однако существовали и смягчающие обстоятельства: моя жена и я были практически бессильны, мы при всем желании не могли оказать действенное сопротивление тем, кто нас разлучил. А те, кто нас разлучил, погрязли в житейском. Родители жены, на мягком диване которых я тогда сидел, были полны предрассудков и рассуждали о счастье дочери с позиций сельских хозяев и людей определенного вероисповедания; а те, кто назывался моими родителями, исходили только из соображения финансовой и сословной спеси. Все хотели сделать как лучше, по созданность друг для друга, через которую мы переступили, оказалась более суровой, нежели наш собственный суд: для нее не было смягчающих обстоятельств, переступившие не могли избежать наказания, отразившегося на всей их жизни. Я назвал бы вынесенный судьбой приговор смертной казнью. И все это я осознал, сидя там, на диване.
– Ну хорошо, – согласился председатель, – но постарайтесь рассказывать не столь пространно.
Итак, он узнал обо всем, в том числе и о том, что его будущая жена замужем и живет в другом доме, раздельно с родителями.
Нет. Дело было в солнце. Оно внезапно все же решило подняться выше и осветить дом по ту сторону ручья. Лучи солнца так ярко отражались в одном из окон, которое, наверно, стояло приоткрытым, что они буквально ослепили подсудимого, находившегося в комнате, где царил сумрак. Казалось, кто-то играя подавал сигналы карманным зеркальцем. И окно это было как раз окном той комнаты, в которой он спал мальчиком и юношей. Не только спал, но и сидел в давние, очень давние времена у окошка и смотрел на комнату противоположного дома. И ее родители также заметили свет, который словно намеренно направляли на него из того дома. Слова были излишними. Он просто пошел в тот дом за ручьем и забрал свою жену.
Первый брак был расторгнут? Или признан недействительным? – спросил председатель суда.
Формальности улаживали адвокаты, ответил подсудимый.
– Все мы, – сказал он далее, – были едины.
– А как вел себя ее муж? – спросил прокурор.
– Какой муж?
– Первый муж вашей жены?
– Я хорошо его знал. Он был родом из тех же мест. В детстве мы с ним играли и иногда дрались. Играли в «казаки-разбойники» внизу у ручья. Ручей был оборонительным рубежом. Мы потом бросались в воду. Целая шайка сорванцов. Однако сейчас этот парень, пожалуй, чересчур много пил. Он был очень несчастен, но не желал в этом признаться. Жена моя все сказала мне. Она сказала: давно пора. Он ведь не знал, что мы сами перешагнули через созданность друг для друга. Он купил дом и землю и попытался жениться на женщине, которую знал с самого детства, – он не понимал, почему из всего этого ничего не получилось. Без вины виноватый. Надо было ему помочь. Не должен он был страдать за наши ошибки.
– И он сразу же согласился?
– Сразу? – Подсудимый пожал плечами. – Дело, слава богу, кончилось благополучно. Хотя заранее ничего нельзя было предугадать. Но он женился опять. Моя жена сразу сказала, на ком он женится. Она знала то, чего он еще сам не знал. Он женился на девушке с соседнего хутора, раньше он делал вид, будто она его совсем не интересует, но жена моя сразу поняла: они предназначены друг для друга. И у них теперь есть дети.
– А в настоящее время вы или ваша жена еще связаны с ними?
– Нет. Обо всем этом мы услышали на похоронах родителей моей жены. Он купил тот дом и двор; что нам было с ними делать? А на деньги, которые жена получила от продажи родительского хутора, я открыл свое дело страховое общество. Родители жены умерли очень скоро, сперва мать, а через несколько недель и отец.
– Стало быть, нет шансов на то, что ваша жена туда вернулась, вернулась, так сказать, к родному очагу?
– Вы даже не представляете себе, как нелепо это предположение, господа. Возможно, вас ввел в заблуждение солнечный зайчик, который показался в противоположном окне, и вы решили, что все там было очень весело? Свет, исходивший от стекла и упавший в комнату ее стариков родителей, не имел животворной силы; он так и не осушил слез матери. Ну а потом я медленно прошел через жнивье и через коричневые вспаханные поля, спустился к ручью и увидел ветхий мостик без перил, на котором мы так часто сиживали в детстве, болтая босыми ногами в воде. Время от времени пролетала ворона и, каркая, скрывалась в гнезде где-то в листве дубов, росших по краям полей. Все это утро вдали звонили колокола, может быть, кого-то хоронили. И потому колокола звонили в это воскресенье так долго. Перезвон казался иногда очень близким и отчетливым, а потом его опять относило ветром в сторону, и он звучал, словно отдаленный шум прибоя. И все же стояла тишина. Наверху тоже было очень тихо, я отметил это, обходя вокруг дома где была входная дверь. Горбатая старуха выливала воду из деревянного ушата. Она была не то глухая, не то немая, старуха показала большим пальцем на дом. Я вошел в комнату. Там царила полутьма. Топилась большая кафельная печь, на белой липовой столешнице стояла посуда, и все же дом производил впечатление необитаемого. Я поднялся по лестнице, наверху все было так знакомо; я тихонько отворил дверь в свою старую комнату. Там тоже было сумрачно из-за спущенных жалюзи; только через щели кое-где пробивались лучики света, образуя на полу причудливый узор. Все стены были голые, побеленные: ни картины, ни цветка. На кровати сидела моя жена, она ждала меня. Я сказал ей, что трясся всю ночь напролет в поезде. Осторожно прикрыл за собой дверь и так и остался стоять на пороге, должен был прислониться к притолоке. «Ты мне что-нибудь привез?» – спросила она. «Нет, у меня ничего нет», – ответил я. После этого мы долгое время молчали, а потом она опять заговорила: «Сейчас он еще в трактире, в соседней деревне, но вот-вот уйдет оттуда и примерно через полчаса будет здесь. Он уже беспокоится, хотя не знает почему. Хочет допить свою рюмку. Тогда он и придет. Нет, он не пьян, он никогда не напивается, он просто совершенно растерян. Лучше всего тебе спуститься к нему, как только мы заслышим его шаги. Придется тебе распить с ним бутылку сливовой самогонки. Ты не возражаешь?» – «Да нет же, для меня это плевое дело». Потом мы опять замолчали и прислушались – не идет ли он. Но было еще слишком рано. Он уже направлялся к дому, но шел очень медленно. В комнате наверху не слышно было колокольного звона. Может быть, в церкви перестали звонить. «Наверно, его выберут в бургомистры, – сказала она. – Он самый дельный крестьянин во всей округе. Всякое дело так и горит у него в руках. Но тебе давно пора было приехать, ведь иначе он никогда не стал бы бургомистром. Его не следовало впутывать в эту историю, она не для него, он ни в чем не виноват, это ты должен запомнить». – «Да, я знаю», – согласился я. «Люди считают меня больной, – сказала она, – оттого что не понимают ничего, ровным счетом ничего не понимают, и оттого что заметили: иногда мне хотелось умереть. Разумеется, я их пугаю. Конечно, с моей стороны это неблагородно. Надо научиться все скрывать. Но иногда я не могла ничего с собой поделать, я не знала, где ты обретаешься, не знала…» – «Я трясся всю ночь напролет в вагоне», – быстро повторил я. «Да, хорошо, что ты наконец решился, – сказала она. – Еще есть время для всего. Но сливового самогона тебе придется отведать. Иначе разговор не получится. Потом у тебя будет пахнуть самогоном изо рта, но не так уж сильно. И вообще это не имеет значения. На улице все быстро улетучится. Временами я прислушиваюсь к тому, как он храпит по ночам. Ты не представляешь себе, до чего мне его жалко! Он ведь уже мог стать бургомистром. А теперь даже в его храпе мне чудятся жалобные нотки. Он спит там, напротив, по другую сторону коридора, в прежней комнате твоей сестры. Комната твоих родителей пустует. Старая служанка спит над коровником. Ты должен знать, что все считали меня больной, даже врач ко мне приходил, но я их высмеивала. Не найдете вы у меня никаких болезней, говорила я им, а они все равно не верили. Раз меня даже поместили в больницу, выброшенные деньги, к тому же очень неприятно. Все это я переносила безропотно, ведь они так хотели, и я решила идти им навстречу. И чего только они не перепробовали: все, что вычитали из книг, и все, что выучили в институтах. Я сжала зубы. Уж лучше бы я была теленком, одним из наших телят. Им и то жилось привольней, хотя потом их забивали. Но телята не ведали, что их ждет. Они радостно скакали по лужку. А смешные поросятки! Я хохотала каждый раз, когда видела, как она носятся по двору, с быстротой молнии они разбегались во все стороны. А на том подоконнике летом сидели три маленькие зеленушки и во все горло орали, будоража долину, орали и махали крылышками до тех пор, пока не прилетали родители и не совали им в клювы еду. Можешь себе представить, как нервничали взрослые зеленушки, заслышав крик птенцов на противоположной стороне долины? Но об этом поговорим позднее. Я попросила бы тебя сесть ко мне на постель, ведь ты трясся в поезде всю ночь напролет и, стало быть, очень устал. Впрочем, не стоит, пожалуй, садиться, он уже скоро придет. Кроме того, я вижу тебя лучше, когда ты стоишь у дверей. Отсюда все кажется другим. Только не сердись на меня. Я хорошо знаю, что ты с удовольствием посидел бы со мной рядышком. К тому же это твоя комната». Я покачал головой. «Да! Да! – сказала она. – Ради бога, не притворяйся. Все равно это тебе не удастся. Ты был у моих стариков напротив?» – «Да, сказал я, – выпил у них стакан молока. И еще они угостили меня медом». «Ах, – сказала она. – Но здесь тебе придется выпить сливового самогона. Так повелось. Отказываться неприлично. Иногда у нас во всем доме пахнет самогоном. Мне это неприятно, запах самогона раздражает, но на сей раз ничего не попишешь. Ты должен думать о нем, а не о нас. Должен сжать зубы точно так же, как и я сжимала зубы, тогда все у тебя получится. Кстати сказать, для него еще не все потеряно, ты появился аккурат вовремя». «По-твоему, для нас все потеряно?» – спросил я тихо. «Этого никто не может знать, – сказала она. – И это не так уж важно, не стоит ломать себе голову насчет нас. Наверно, если мы перестанем думать, что по отношению к нам совершена несправедливость, нам еще будет отпущено какое-то, пусть совсем короткое время. Понимаешь, надо забыть о таком чувстве, как месть. Но это очень, очень трудно; Я не больная. Они так и не обнаружили у меня никаких болезней, хотя ощупали с ног до головы. И в больнице ровным счетом ничего не нашли. Да и как было найти? Я совершенно здорова, я такая же, как все остальные женщины, уж поверь мне. Если бы я была больная, то не стала бы просить тебя распить с ним бутылку самогона. Тогда я, вероятно, заплакала бы я отослала тебя прочь. Поверь мне, пожалуйста, я наверняка стала бы госпожой бургомистершей. Папе и маме ни в коем случае не следовало посылать меня в монастырский лицей. У родителей, конечно, были самые благие намерения, они хотели, чтобы я стала образованней, чем они, все это легко понять, но сколько несчастий произошло из-за этого. Ведь теперь я никак не могу стать госпожой бургомистершей, не могу, несмотря на все мои старания. Подумай только, я совсем перестала читать книги, по прочла ни строчки. Хотя они мне сами предлагали, они мне говорили: почитай же книжку, раньше ты читала запоем. По я не соглашалась, я убрала свои книги, не раскрыв ни одной, ведь я хотела сделать решительно все, чтобы стать госпожой бургомистершей. И все же мне это не удалось. Когда будущий бургомистр стоял в дверях в той же позе, что стоишь ты… Нет, он стоял иначе, не так, как ты, он же не трясся в поезде всю ночь напролет. Ты ведь его знаешь, вы вместе играли, когда были мальчишками. Да, он стоял вон там, сущий мальчишка, который только что прибежал, наверно, хотел быть первым, совсем запыхался, разгорячился, покраснел от напряжения и вдруг на бегу остановился как вкопанный, еще секунда – и он бы столкнулся со мной. И вот каждый раз я приходила от этого в такой ужас, что все было напрасно, и они уже хотели забрать железной решеткой мое окно. Да, в один прекрасный день с утра к дому явился подмастерье кузнеца, он прислонил к наружной стене лестницу и вскарабкался наверх, чтобы снять мерку с окна. Я поговорила с ним, объяснила парню, что решетка не нужна, я и так не убегу. И они оставили эту затею. Но страх продолжал душить меня, и однажды я не выдержала! Меня стошнило. Потом я все убрала за собой. Неаппетитная история, не хотелось мне никого утруждать. А рассказываю я тебе это только потому, что раньше мы все тоже друг другу рассказывали, и потому, что не хочу, чтобы ты думал, будто я больна. С болезнью мое состояние не имеет ничего общего, по им этого не понять, людям такое растолковать невозможно. Помнишь ли ты еще, как мы сидели каждый день напротив в беседке? Или внизу у самого ручья? Помнишь, как мы шли по мху в роще, шли так тихо, что даже не вспугивали косуль, так тихо, что не слышали собственных шагов, это было на холме, где растут колокольчики и черника? Я никогда больше не бывала там, хотя отсюда это близко. Мне не хотелось напрасных переживаний, ведь я осталась такой, как прежде. Ты мне не веришь?» – «Да нет же, я тебе верю», – сказал я. «Правда?» – «Да, – сказал я. – Иначе я не стал бы трястись всю ночь в поезде». – «А что они сделали с тобой?» – спросила она. «Со мной было точно то же, что с тобой», – сказал я. «Ах, – сказала она, – я часто думала о тебе, бедняжка, думала я, ты удивляешься, почему другая женщина не приносит тебе счастья. Хотя на свете так много красивых женщин. И потому я тоже прилагала все силы, чтобы стать госпожой бургомистершей, ведь я хорошо знала: только тогда ты обретешь счастье. Но, к сожалению, и у меня ничего не получалось. А ты и впрямь ничего не привез мне?» – «Нет, – ответил я, – у меня нет ни гроша в кармане». – «Это не имеет значения, сказала она. – Потом мы сможем на минутку забежать к моим родителям, попрощаться с ними. И я возьму у них денег на дорогу. Скажи, а ты не будешь стесняться из-за того, что едешь с такой женщиной, как я?» «Почему я, собственно, должен тебя стесняться?» – спросил я. «У меня нет городской одежды, – сказала она, – я не знаю, что теперь модно. Нам придется решительно все покупать заново. Надо будет приноравливаться к людям, чтобы не стать посмешищем. Послушай, я вовсе не возражаю, чтобы ты сел со мной рядом на кровать. Нет, не возражаю, хотя сейчас смысла нет. Он уже пришел, тебе следует спуститься и поговорить с ним». Я оставил ее одну и спустился по лестнице. Он не был пьян, но глаза у него слегка покраснели и взгляд был неподвижный. Мы сидели за столом с липовой столешницей, он достал из стенного шкафа две рюмки матового стекла и налил из оплетенной бутылки сливового самогона. В комнате сильно запахло сливой. Мы заговорили об общих знакомых, которых знавали раньше, он рассказал, что из каждого стало. И еще мы поговорили о сельском хозяйстве. И о политике. Говорили, время от времени опрокидывая рюмку самогона. Ибо мы ждали. А потом спустилась моя жена, одетая по-дорожному; она сказала, что хочет заглянуть напоследок в кухню, посмотреть, приготовила ли служанка какую-нибудь приличную еду для него, ведь скоро пора обедать. И тогда у него из глаз полились слезы, самогон был здесь ни при чем. Он был здоровенный малый, высокого роста, со свежей румяной физиономией. Ужасно было наблюдать за этой картиной, за тем, как ни с того ни с сего у него потекли слезы из глаз, а он ничего не мог с этим поделать. Но такова уж была ситуация, он действительно попал во все это по недоразумению. Ну вот. А после мы ушли.
Подсудимый помолчал немного, потом продолжал свой рассказ:
– Я сказал все, что мог. Не мое дело решать, удовлетворило ли это вас. Я рассказывал очень неохотно и только потому, что господин прокурор счел необходимым задать соответствующий вопрос. Кроме того, я не хочу создавать впечатление, будто я что-то злонамеренно утаиваю. Не исключено, что мой рассказ поможет господину прокурору. Однако не исключено также, что он наведет его на ложные размышления. Извините, господин прокурор, что я осмелился сделать такое замечание. Ведь в этом зале мне оказали честь, назвав человеком «надежным». И вот вы поймете теперь, наверно, почему мне и впрямь не оставалось ничего иного, как оправдывать надежды. Я сам знаю, что вел безупречную жизнь. До отвращения безупречную. Такие люди, как мы с женой, не могли позволить себе даже мимолетного романчика, чтобы не казаться такими отвратительно безупречными. Все было у нас совершенно «надежным» и «безупречным», совершенно обтекаемым. Любопытные, которые пытались сунуть нос в нашу жизнь, не находили ни малейшей щелки, им становилось не по себе, и они оставляли нас в покое. Ведь любопытные нипочем не поверили бы, если бы мы им сказали: к нам все равно не сунешь нос. Они нам не поверили бы, так же как не поверил суд, который я предупредил в начале судебного разбирательства, обратившись к нему с просьбой: осудите меня просто так, без всяких формальностей. К сожалению, меня не послушались.
Подсудимый вздохнул.
– Вот что я еще хотел сказать: несмотря на все, ни я, ни моя жена ни на секунду не сомневались в том, что наша безупречная личная жизнь всего лишь маскировка для внешнего мира, но даже эта маскировка имела свои пределы. Например, господа, я говорю о детях. Вопрос этот, как видно, возбуждает ваш жгучий интерес. И разумеется, любая маскировка была неполной из-за отсутствия детей. Но для нас было просто невозможно произвести на свет детей только для того, чтобы получить свидетельство о благонадежности, своего рода удостоверение личности, где говорилось бы: «Мы такие же, как все». Неужели я должен был навязать своей жене детей? Погубить ее, сделав матерью? А что стало бы с нашими детьми? При наших обстоятельствах дети были бы страховым мошенничеством. Тут даже не требуется вмешательства господина прокурора, я сам квалифицирую подобные поступки чуть ли не как государственное преступление. Мне все время кажется, что я могу думать в духе ваших законов еще лучше, чем вы сами. Во всяком случае, я отнюдь не собираюсь разрушать стройное здание вашего правопорядка. Зачем же вы сами ходите по краю пропасти, занимаясь тем, над чем не властны ваши законы? Да нет же, господа, я не желаю спорить с вами, просто я беспокоюсь и, наоборот, намерен признаться: всегда я носился с мыслью, что предстану перед судом, что мне будет вынесен приговор. Более того, я стремился к такому суду. Я бы почувствовал большое облегчение, если бы меня осудили, тогда я опять спал бы спокойней. Однако каждый раз, когда мне мерещилось, будто я нашел такой суд, и когда, преисполненный доверия, входил в зал, чтобы подчиниться неизбежному, я испытывал ужасающе унизительное разочарование, ибо кресло судьи было пусто, стало быть, мне самому следовало сесть на его место и вынести себе приговор. Но кто может взять на себя такое? И чего от меня требуют? Неужели я уже созрел для того, чтобы найти смягчающие вину обстоятельства? Ибо смягчающие вину обстоятельства для меня означали бы, что надо изобличить других, означали бы, что следует мстить. Именно поэтому я до сих пор отказывался вынести себе смертный приговор. И по той же причине я колебался, не решаясь предать себя проклятью, такому страшному проклятью, которому мог бы предать тот суд: жить вечно с сознанием упущенных возможностей. Продолжить свое существование в другом, в таком же неудачнике. Будучи пропащим, зачинать новых пропащих.
Подсудимый опустил глаза. Казалось, он раздумывал над собственными словами. Публика замерла в ожидании. И тут подсудимый поднял взгляд и сказал, улыбаясь:
– Знаю, мои слова здесь неуместны. Прошу покорно извинить меня, господин председатель суда. Лучше, если с этой минуты мы будем придерживаться того, что вы называете фактами, того, что подчиняется вашим законам. Не правда ли? Я еще раз ответственно заявляю, что готов помогать вам во всех отношениях. Постараюсь думать так, как надлежит думать суду. Страховой маклер, коим я являюсь, наверняка имеет для этого достаточно навыков. Прежде всего мне надо следить за тем, чтобы опять не увлечься и не произносить слова, которые звучат как нечто само собой разумеющееся только за стенами этого зала. Слова эти приводят лишь к тому, что процесс мучительно затягивается.
После короткой паузы председатель суда, поочередно взглянув на членов суда, на прокурора и на адвоката, сказал:
– Благодарим за ваши пояснения. Мы вас не прерывали, и мне кажется, никто из присутствующих не имеет намерения обсуждать далее эту тему. С особым удовлетворением суд принял к сведению ваше заявление о том, что вы хотите помочь в установлении истины. Давайте сразу же начнем с этого заявления. И я тоже, минуя всякие процессуальные формальности, как это сделали вы, позволю себе задать вам один весьма щекотливый вопрос, который пришел мне на ум, когда я вас слушал. Быть может, для всех нас было бы самым лучшим, если бы вы открыли нам или пускай только мне одному, где находится в настоящее время ваша жена.
– Но ведь это как раз и есть тот единственный вопрос, на который я не в состоянии ответить! – воскликнул подсудимый. – Если бы я это знал, то уж точно не стоял бы здесь. Я предполагаю… нет, я считаю… но это я говорю только вам, как частной персоне, господин председатель. Я считаю, что жена моя жива. Не знаю только, в качестве моей жены или в каком ином качестве, этого я сказать не могу. Да и почему бы ей не жить? Абсолютно здоровый человек… Но она исчезла из моего ноля зрения, и это приводит меня в некоторую растерянность. Не исключено, что все дело во мне, в моих глазах. Или, возможно, по это только мои догадки, господин председатель суда… вдруг ей стало страшно, что она замерзнет, и потому она отдалилась от меня и ушла неизвестно куда. Или вдруг – нет, я стесняюсь произнести это вслух, звучит как самореклама, – или вдруг она ушла, думая, что стоит у меня на пути. Но я говорю это только вам, лично вам, господин председатель, и то лишь потому, что вы задали мне такой сугубо личный вопрос. Прошу вас не заносить этого в протокол.








