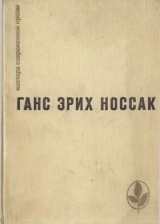
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Ганс Носсак
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 45 страниц)
– У вас разве нет родственников? – спросила она.
– Нет. Хотя, пожалуй, есть двоюродный брат в Америке, кажется, в Блумингтоне, название осталось у меня в памяти, но я понятия не имею, где это. Вернее, он мне троюродный брат. Тетя, бывало, писала ему на рождество или на Новый год, но, может быть, он давно умер.
– А друзья есть?
– Много, разумеется. С университетских времен и так. Кое-кто из них женился, но все равно они милые люди.
– Почему бы вам не поговорить с ними о господине Глачке и о вашей должности?
– Но они же сами занимают такие посты, если и не в тайной полиции. Нет, это не годится.
– А воскресенья?
– Что значит – воскресенья?
– Как вы проводите воскресенья? – рассердилась Эдит.
Тут должно упомянуть, что беседа проходила воскресным утром в городском парке. Эдит с протоколистом сидели в нескольких шагах от исполинских, скупо прикрытых одеждами фигур, имеющих какое-то отношение к Бетховену, о чем можно было прочесть на цоколе. Но речь не о том. Неподалеку сидела еще одна пара. Точнее говоря, они не сидели. Молодой человек спал на скамье, положив голову на колени девушки.
– Да, так что же я делаю по воскресеньям? Если меня приглашают, провожу этот день с друзьями. Мы едем за город, или идем купаться, или отправляемся в Заксенхаузен пить сидр. Всегда бывает очень мило. Ну а если нет, остаюсь дома, работаю или читаю. Дело находится. Отчет или еще что.
– Ну так, а теперь?
Эдит разумела: теперь, когда не надо больше составлять отчетов. Протоколист еще не думал над этим. Не мог же он знать, что ему предстоит мучительный воскресный вечер. Здесь, на скамье в парке, ему все казалось естественным. Он даже позабыл, что, вполне возможно, где-то за кустами притаился некий тип, которого господин Глачке отрядил наблюдать за ним.
– Жаль, что папы здесь нет, – внезапно сказала Эдит. – Он сейчас в Западном Берлине, думаю, недели на три. А приедет ли потом во Франкфурт, не знаю. Отчего вы не слетаете в Берлин? У вас теперь и время есть, может быть, остановитесь у папы, если я напишу ему. Не так уж дорого обойдется. Почему вы смеетесь?
– Я не смеюсь.
– Нет, смеетесь. Я это говорю, потому что у вас нет родных и вообще никого. А дядя Ламбер не тот человек. Не думаю, чтобы папа вам нашел место, но и это не исключено. У него уйма знакомых, его многие знают благодаря телевидению, но совет вам дать он может. Да не смейтесь же!
– Я и не смеюсь.
– Смеетесь. Вы потешаетесь надо мной. В точности как дядя Ламбер. Он наверняка советовал вам стать писателем?
– Мне?
– Да, потому что сам был плохой писатель.
– Стоит мне сесть за письмо с выражением соболезнования, и я уже начинаю заикаться.
– С выражением соболезнования?
– Ну да, или с поздравлением ко дню рождения. Меня хватает как раз на отчеты для господина Глачке.
– Ах, вот вы опять вздор городите. Я с вами серьезно говорю. Папа вам и не даст совета, он иначе отвечает. Он даже делает вид, будто все это его не интересует, можно подумать, что он не слушает тебя или ему и правда скучно, но зато, как побудешь с ним, в голове все проясняется и только диву даешься, как сразу на эту мысль не напал. Совсем не то, что с дядей Ламбером. Я не хочу сказать ничего дурного о нем, напротив, я его очень люблю. Я только не хочу, чтобы вы поддавались его влиянию. Все его штучки с манекеном, может, и очень остроумны, но жить так нельзя. И никто не виноват, что они с женой не были счастливы.
– Он вовсе не производит на меня впечатление такого уж несчастного человека.
– Вот видите, вот видите! Нет, он убийственно несчастлив. Даже папа удивляется, а папа понимает что к чему. Несчастье, говорит он о дяде Ламбере и его жене, спаяло их накрепко, любая попытка стать счастливыми или попытка сделать их счастливыми поставила бы под вопрос самое их существование. Для них такая жизнь стала даже своего рода счастьем. Но речь вовсе не об этом. Словно я не знаю, что дядя Ламбер во всем виноват. А еще эта его вздорная болтовня, что у нас-де нет прошлого. Ну и чепуха! Что значит, у нас нет прошлого? У вас интернат. Или где там вы воспитывались? А я родилась в Берлине, затем жила в Позене, хоть и младенцем, а потом в Алене. И что это дядя Ламбер носится со своим несообразным прошлым? А вы всей этой чепухе верите!
Эдит так рассердилась, что даже хотела подняться со скамьи.
– Но вы-то расторгли свою помолвку.
– Ну и что? Разве я не вправе расторгнуть помолвку? И какое это имеет отношение к вам?
– Никакого, но вы же наверняка не спрашивали совета у отца.
– Зачем было мне спрашивать его совета? Просто я не хотела жить в одном из тех домов, этого мне папе говорить незачем, и к тому же… Но речь вовсе не об этом. Вы все хотите увести разговор в сторону.
– Нет, я хочу только объяснить, почему ваше предложение слетать в Западный Берлин…
– Но это ж совсем другое дело. Папа наверняка будет рад.
– Я слишком уважаю вашего отца… Пожалуйста, дайте мне сказать, ведь мне и без того трудно выразить свою мысль. Я же не знаком лично с вашим отцом, всего лишь мгновение видел его в Управлении, где он мне подмигнул…
– Ну вот, ну вот!
– А может, это всего лишь мое воображение, я только слышал, что ваш отец говорил господину Глачке. Как бы там ни было, я его глубоко уважаю. Не потому, что видел по телевидению, и не из-за того, что о нем написано, вряд ли это вызвало бы во мне подобное чувство. Но то, что вы мне рассказали, и господин Лембке, или Ламбер, если это вам больше нравится, все это… все… хотя господин Ламбер почти ничего не говорил о вашем отце, не пугайтесь, разве лишь какие-то несущественные мелочи. Все, что я знаю о вашем отце, я знаю только от вас. Но не важно, сразу улавливаешь, какого мнения о нем господин Ламбер. Когда он заводит с тобой разговор, создается впечатление, будто и ваш отец тут присутствует. Понимаете, что я хочу сказать? Мне трудно выразить свою мысль. И еще – ваш отец отказался от наследства фирмы «Наней»…
– Ну, а это-то какое имеет к вам отношение?
– Ко мне никакого, но я, понятно, задумался.
– И не надо вам было задумываться. Если б вы знали этих «Наней»-владетелей, наших так называемых родственников с их огромными деньгами, и их отношение к папе…
– И все-таки ваш отец тревожился за вас, это мне известно.
– Ему нечего было тревожиться, я ему так и сказала. Ведь ясно же, что я всегда буду на его стороне, а если дядя Ламбер сомневается, так это прямое мне оскорбление.
– Напротив. Господин Ламбер ни на минуту не сомневался в том, что от наследства следует отказаться. Но я-то ведь юрист и потому задумался над этим вопросом. Пытался обдумать мотивы человека, которого я глубоко уважаю. Нет, пожалуйста, не прерывайте меня. Я сам унаследовал кое-что от родителей и от тети и к тому же получил возмещение то ли как жертва войны, то ли как сирота военного времени. Какая разница! И я ни от чего не отказался да и не мог отказаться, так как не достиг совершеннолетия. Но я и не задумывался над этим. Только теперь…
– Так это же совсем другое дело, вам эта деньги нужны были для образования.
– Ах, да речь идет вовсе не о деньгах. Ваш уважаемый отец отказался от наследства, конечно же, не из-за денег, и не из-за денег он сомневался и тревожился о вас. Мне это абсолютно ясно. Нет, он спрашивал себя, вправе ли он требовать от вас того, что для него само собой разумелось.
– Как так? Что он от меня требует?
– Быть свободной. Не связывать себя ни с каким коллективом. Ах, все это такие затасканные слова, извините меня. Я глубоко уважаю за это вашего отца. Именно за это.
– Ну и что же? Что все это значит?
– Я пытаюсь только пояснить вам, отчего мне никак невозможно лететь в Берлин. Ах, зачем вы меня терзаете? Я не привык говорить о таких вещах, а если уж приходится, то слова мои звучат, точно доклад о предмете, который меня лично не интересует. Я, так сказать, сам себе не верю, иначе сумел бы себя опровергнуть. Я сумел бы опровергнуть себя лучше, чем кто-либо другой, логичнее и по существу, мне бы это не составило труда, но что же тогда останется, скажите, пожалуйста? Что останется от меня, хочу я сказать. Вопрос этот никогда не занимал меня серьезно, не думайте, что я беспрестанно ломаю голову над собственной персоной. Вокруг меня всегда был полный порядок, мне надо было только его держаться, и все шло как по маслу: пробуждение, школа, обед, игры, а впоследствии тоже ничего нового: лекции, экзамены, экскурсии и танцы. Да, я и танцевать умею, хоть не слишком хорошо. Но в жизни внимания не обратил бы на стандартные коттеджи. Извините, что я заговорил об этом. С тех пор как я познакомился с вашим уважаемым отцом… нет, я же вовсе с ним не знаком, вот вы и сами видите, как легко меня опровергнуть… но все равно, ваш уважаемый отец существует, в том числе и для меня. Одно то, что господин Глачке так его ненавидит, хотя ваш отец наверняка не совершил никакого преступления, доказывает, что он существует. И для меня тоже. Я непрестанно оглядываюсь теперь на него.
– Но все это вздор.
– Понятно, вздор. Я вам и сам это говорю.
– И зачем вы все твердите «ваш уважаемый отец»? Словно потешаетесь надо мной.
– Простите, но меня так учили, мне с детства привили эти понятия. Не могу же я говорить – господин Наземан. А д'Артез? Нет, это слишком… слишком… да, слишком фамильярно. Пожалуйста, дайте же мае выговориться, я сейчас кончу. Мне и самому не доставляет удовольствия говорить о предметах, о которых я и говорить-то не умею. Не сомневаюсь, ваш отец примет меня любезно, если я явлюсь к нему с рекомендательным письмом от его дочери. Извините, рекомендательное письмо – опять не то выражение. Возможно, попроси я его, он бы даже помог мне найти другое место, и в этом я не сомневаюсь. Нет-нет! О, извините, я не хотел вас пугать. Вон даже тот парень проснулся. Сами видите, все аргументы против меня, у меня нет ничего за душой, оттого я во все горло кричу, несмотря на хорошее воспитание. Но к вашему отцу мне нельзя обращаться. Слишком это рискованно. Не для меня рискованно. Вечно я говорю не то, что хотел… нет, вот я что имел в виду: представьте себе, ваш отец мне поможет, да, а что же потом? Я увижу его на экране телевизора и буду хохотать, как все хохочут, а потом выключу телевизор. Где же ваш отец? Где д'Артез? Выключен. Выключен моей рукой! Нет, это трудно себе представить. Пойдемте, я думаю, нам лучше уйти. Мы только мешаем этим молодым людям. Они меня наверняка принимают за ненормального.
Итак, все было сказано, хоть и куда как скверно сказано. Поняла ли его Эдит, рассердилась она или опечалилась? Как бы там ни было, они молча прошли по парку к Опернплац. На фронтоне развалин, оставшихся от оперы, можно было, как и встарь, прочесть странные слова: «Истине Красоте Добру». Эдит, которая, должно быть, проходила это в университете, как-то объяснила протоколисту, что слова принадлежат не Шиллеру, а схоластам и что еще древние греки соотносили эти понятия. Но сейчас не в этом было дело.
Они пошли по направлению к Цюриххаус, а оттуда в Ротшильдовский парк и мимо собачьей игровой площадки. Желтый пес, ирландский терьер, как угорелый бегал в ренском колесе, установленном для собак. Время от времени он выскакивал и, ворча, пытался остановить колесо, но потом снова прыгал в него и бегал как угорелый, пока окончательно не выбился из сил. Эдит заметила мальчику, гулявшему с собакой, что у пса вот-вот разрыв сердца будет. Когда же они пошли дальше, сказала протоколисту:
– Не стоит провожать меня.
– А не пообедать ли нам где-нибудь вместе?
– Нет, дома у меня в холодильнике кое-что есть. А вечером мне еще надо платья постирать.
Тем не менее протоколист проводил Эдит дальше, им было по пути. По крайней мере две-три улицы, а потом Эдит сворачивала направо, протоколист – налево.
Внезапно она спросила:
– А сохранились еще документы о папином тогдашнем аресте?
Протоколист пояснил ей, что разве только случайно, нацисты все документы сожгли.
– Жаль, – сказала Эдит. – Хотелось бы знать, кто, собственно, донес на папу.
Протоколист поинтересовался, почему это для нее так важно.
– Не из мести, нет. Просто хочется знать обстоятельства дела. Я думала, может, вам это через ваше ведомство удастся установить. Но теперь, раз вы больше там не служите… а впрочем, может, это не так уж важно.
Но протоколист сказал, что тем не менее попытается навести справки через коллегу.
– Ах, да что там. Не трудитесь!
Эдит попрощалась и повернула направо, на Грюнебургвег. Шла она очень быстро, не оглядываясь. Не догнать ли ее?
До Элькенбахштрассе еще довольно далеко, ну а платья, которые она хотела постирать, очень ли это важно?
И почему она вдруг задала такой вопрос? Ведь об аресте ее отца у них до того и речи не было. Если д'Артез об этом не заговаривал и был равнодушен к этой теме, то зачем Эдит в нее вдаваться?
Что проку, например, протоколисту знать, как протекали последние минуты жизни его родителей? Наповал ли убила их бомба, упавшая на дом в Ганновере, или они медленно задохнулись в убежище? И о чем думал его отец, которого он знает только по старомодным фотографиям? Наверняка считал все, что творилось вокруг, непристойным беспорядком, ибо, как член верховного земельного суда, обладал весьма строгим правосознанием. Тетушка, а может, то была двоюродная бабушка протоколиста, от души веселилась над этой его чертой; когда однажды она рассказала, как провезла через границу какую-то чепуховину, отец протоколиста будто бы возмущенно заявил: правонарушение из дружеских побуждений, как вы это называете. Чуть не дошло до скандала в семье. Но все это жизнь давнишних времен. Зачем копаться в старых историях?
Итак, правильно это было или нет, но протоколист не кинулся вслед за Эдит. И тут-то к нему без его ведома уже подобрался воскресный вечер.
Как же все-таки получилось тогда с отцом Эдит? Быть может, он, как и протоколист, направлялся домой, вполне возможно, в воскресенье, а у дверей дома дорогу ему преградили два незнакомца и предложили: «Следуйте за нами». А могло это случиться и в театре после его выступления. Дальнейшие события разумелись уже сами собой.
Нет, протоколиста у дверей никакие незнакомцы не поджидали.
Ему предстояло собственными силами управиться с воскресным вечером.
Воскресные вечера были всегда самыми скучными, еще в загородной школе-интернате. Ты рад-радешенек воскресенью, а вместо него наступает воскресный вечер. Многие мальчики, у кого родственники жили поближе, уезжали на конец недели домой и, возвращаясь вечером, немножко хвастали тем, как провели день, а иногда привозили с собой подарки. Но те, кто оставался в интернате, потому что их родители жили за границей, ничего не могли для себя придумать. Хочешь – искупайся, хочешь – сходи в лес или сыграй в футбол. А хочешь – возьми, наконец, в библиотеке книгу, но тогда задразнят зубрилой, лучше уж включиться в общие затеи, никто хоть не дразнит. Директор и его жена – люди приветливые. После обеда подавали пирожное и взбитые сливки, что правда, то правда, но воскресенье в интернате требовало известных усилий и утомляло, охота пропадала сделать что задумал. Может, в следующее воскресенье.
Пирожных у протоколиста дома не было и взбитых сливок тоже, зато был хлеб, а в холодильнике лежало масло и кусок ливерной колбасы, ему вполне достаточно. И кофе еще хватало в жестянке. На кухне был откидной пластиковый столик, на нем можно поесть – не к чему таскать тарелки и чашку в комнату. К тому же в квартире как раз убрали. Убирали обычно по пятницам. Уборку обеспечивало управление дома. Уборщицу жильцы в глаза не видели, нужно было только ежемесячно кое-что доплачивать вместе с квартплатой. И кровать у него откидная, каждое утро он откидывал ее вверх, к стене.
Все, вместе взятое, обходилось очень недешево, но протоколист полагал, что может гордиться своей маленькой квартирой. Полтора года назад он в нее въехал и тогда сказал себе: это начало. Так ведь живут и другие, с детства привыкшие ко всяким удобствам. Шкафы здесь встроены в стены, есть место и для посуды. Приобрести надо только стол, два-три стула и, может быть, кресло. Ну и, конечно, ковер. Но тем не менее это начало. Единственный предмет, полученный протоколистом от двоюродной бабушки, старый секретер, собственно говоря, не годился для его комнаты – он занимал слишком много места, а пользоваться им было неудобно. Видимо, придется его со временем выбросить. В ящиках секретера лежали не деловые бумаги, а рубашки и белье. Что было очень неудобно – каждый раз, когда требовалась рубашка, приходилось освобождать и поднимать крышку секретера.
Ну ладно, если Эдит воскресным вечером стирала платья, так и он может выстирать две-три нейлоновые рубашки и парочку носков. Но он за десять минут справился с делом, и вот уже рубашки и носки висят в душе и сохнут. Эдит, надо думать, потребуется куда больше времени на ее платья.
Что же она будет делать, покончив со стиркой? Пожалуй, надо было договориться и сходить вместе в кино. Может, в фильме показали бы сцену, где двое говорят третьему у стойки: «Пройдемте с нами. Да постарайтесь не привлекать внимания». И этому веришь, хотя самому ничего подобного видеть не приходилось; считается, что так оно бывало. А в перерыве между хроникой и фильмом можно купить мороженого.
Разве отец Эдит не ответил на допросе, когда господин Глачке спросил его, ведет ли он записи: «Для нашего брата это было бы величайшей неосторожностью»? Что хотел этим сказать отец Эдит? Что имел он в виду, говоря «неосторожность», и что имел он в виду, говоря «наш брат»?
Много месяцев спустя, пожалуй незадолго до смерти, Ламбер объявил: «Великие решения приходят в воскресные вечера». Сказано это было в его комнате на Гетештрассе, часов так в шесть вечера, когда слышен перезвон соборных и других колоколов. Ламбер ругательски ругал этот нелепый анахронизм – если ветер с той стороны, собственного голоса не услышишь. Но в ту пору микрофон у Ламбера уже давно убрали. Ламбер весьма сожалел об этом. Он от души хотел, чтобы гул церковных колоколов попал на магнитофонную ленту, пусть бы уж господин Глачке получил полное удовольствие.
Протоколист в тот раз не понял замечания Ламбера, но спрашивать его не имело смысла, ни к чему путному это не привело бы. Ламбер не преминул бы высмеять его. Теперь, много времени спустя, протоколист, кажется, уяснил себе, что хотел сказать Ламбер своим замечанием. Хотел он сказать нечто совершенно противоположное, а именно, что великие решения, как он их называл, вовсе никогда не приходят, люди так устают от воскресных вечеров и колокольного перезвона, что вообще не в силах что-либо решить. Это и было, по мнению Ламбера, великим решением. Хотя, разумеется, можно и на танцы сходить, натанцеваться до упаду.
Прежде, бывало, как известно из литературы, человек подходил к окну и глядел на улицу. А сзади чей-то голос тотчас вопрошал: «Не хочешь ли еще кусочек торта?» Правда, вполне могло случиться, что тот, кто подошел к окну, был в комнате один и никто сзади не вопрошал, не хочет ли он еще кусочек торта. Но не все ли равно, ведь и в те стародавние времена люди ничего особенного на улице не видели. Больше детских колясок, пожалуй, зато теперь можно уложить младенца в ручную корзинку и взять с собой в машину. «Кристиан, поезжай осторожнее!» А еще крайне трудно избежать ссоры в воскресный вечер, надо сосредоточиться и держать себя в руках, чтобы не допустить до этого. Вот ведь, как назло, перчатки к костюму опять куда-то запропастились. «Ты же знаешь, свояченица Мици безумно обижается, если мы опаздываем. Дядя Адольф, правда, мухи не обидит, да эта язва, его старая экономка…» К счастью, машина сразу завелась, и на том спасибо. У свояченицы Мици и дяди Адольфа надо, конечно, ухо держать востро. «Что? Вы хотите в Италию ехать? В Испании в тысячу раз лучше». А уж о детях и говорить нечего, как их ни корми, ссоры не избежать. «Не хочешь ли еще кусочек торта?» Да-да, ради всего святого, пусть только старая экономка не дуется и не подзуживает кроткого дядю Адольфа за нашей спиной. «Поезжай осторожнее, Кристиан». Все течет вспять, все повторяется. Неомраченный воскресный вечер, без ссоры. Это и есть великое решение.
Оставьте меня с вашим дерьмовым тортом в покое!
А вот это можно, пожалуй, назвать малым решением. Прежде так не выражались, теперь же, после двух войн, подобные выражения приняты в любом приличном обществе, их с легкостью употребляют все от мала до велика, и даже в воскресный вечер, а потому они и для малого решения толчком больше не служат. Но в прежние времена, если верить книгам, люди, что в воскресный вечер подходили к окну и принимали затем свое малое решение, не кричали во все горло. Закричи они во все горло, это получило бы огласку, попало бы в газеты и все вышло бы наружу. Одно худо – свои малые решения они принимали в полной тиши, внезапно и скоропостижно, как принято называть это в извещениях о смерти, нет, никуда это не годилось, ибо причиняло беспокойство всему дому да и улице и нарушало покой воскресного вечера. Подкатывали полицейские машины с мигающей синей лампочкой, полицейские начинали расспрашивать по всем этажам. А ведь самое время укладывать детей, и нужно еще узнать результаты футбольного матча, которые передают по телевидению. Полицейским отвечают, а они записывают: «Будто я этого не предвидела. Разве не говорила я тебе, Кристиан, что молодой человек добром не кончит? Он даже не здоровался на лестнице. И так тихо спускался, что я вечно вздрагивала. Прихожу, бывало, с покупками, ищу в сумке ключ от квартиры, и вдруг откуда ни возьмись он! Нет, добром это не могло кончиться. Нет-нет, ничего такого с девицами. А ты что скажешь, Кристиан? О, нам было бы известно – здесь, в доме, все про всех известно. Да, в том-то и дело. Он с нами не знался, иначе такого бы не стряслось. Ах, вон его несут. Такой порядочный молодой человек, вот уж беда так беда. Закрою-ка я дверь. Не хочу, чтобы дети видели, как его вниз несут. А ты что скажешь, Кристиан?»
Нет, господин Ламбер, самоубийство вовсе не естественное право, а, скорее, полицейская проблема. «Нарушение», если вам угодно. Нарушение воскресного вечера, с таким определением тоже можно согласиться. Назвать самоубийство публичным скандалом – это, пожалуй, слишком. Уж не такой это публичный поступок. Пустячное, малое беспокойство, не более того. Малое решение, вынужденное.
Ничего такого с девицами. А вы, господин Ламбер, вы с вашим манекеном все еще стоите у окна? Или…
И если у человека нет прошлого, как вы любите выражаться, господин Ламбер, то какие уж тут девицы? Он тотчас пропал бы ни за грош, ведь держаться-то ему не за что! Уж не за девицу ли? Или за манекен?
На улице смеркалось. Протоколист надел пальто. На сей раз он не зажег света, не поглядел в зеркало, хорошо ли повязан галстук. Если господин Глачке поставил на улице агента, тот немало удивится, что в комнате не зажегся свет. И упомянет об этом в своем отчете, так как это наверняка означает, что обитатель ее хочет выскользнуть незаметно. Хоть бы одним глазком заглянуть в эти отчеты, знал бы по крайней мере подробности, имел бы дело с фактами. А ты что скажешь, Кристиан?
Куда направляется молодой человек поздним воскресным вечером, когда лавина машин возвращается с загородных прогулок? Молодой человек без прошлого, без девиц, а в последнее время и без должности?
Но куда уж ему идти? Для агента, если таковой налицо, в том никакой загадки нет. Молодой человек, конечно же, голоден. Ведь он не обедал, это известно. Вот он и изучает меню, вывешенное в окне небольшого ресторанчика. Но почему он не входит? Меню не понравилось?
Ах нет, господин Ламбер, надо же быть логичным. Для самоубийства нужны два компонента, о чем говорит уже самое слово. Нужен ты сам, иначе говоря, некая Личность. Пустое место, Ничто, ведь не выключишь из списков живущих, как это можно сделать с личностью.
И молодой человек отправляется дальше. Ноги сами собой несут его к Главному вокзалу. Уж не надеется ли он встретить там Ламбера, совершенно случайно?
Агент же, что напротив, решает: ага, вот кое-что интересное. Он собирается кого-то встречать? Женщину? Сообщника? Последим-ка!
Протоколист сразу проходит в зал ожидания. Он не задерживается ни у цветочного, ни у книжного киоска. Не останавливается и у расписания прибытия и отправления поездов. Он кажется человеком, который знает, чего хочет. Ага, он направляется к стойке, покупает сосиски и булочку и, конечно, горчицу. Бумажную тарелку с сосисками он несет к одному из высоких столиков, за которым можно поесть стоя, и откусывает сосиску, обмакнув ее раньше в горчицу.
Не купить ли и агенту, если таковой имеется, сосисок и не стать ли ему к соседнему столику? Уж очень сподручно оттуда наблюдать за поднадзорным.
Почему это он проявил интерес к женщине, что сидит на полу, приткнувшись к стене, посреди сумок и узлов, прижимая к себе спящего ребенка? Верно, итальянка или испанка, откуда-то с юга. Ждет она прибытия или отправления поезда? Тупо уставившись в пространство, она ждет и ждет. Но вполне возможно, что это трюк, о котором они заранее договорились с поднадзорным. Может, он собирается переправить с ней за границу какое-то сообщение?
Или же он ждет условного знака от одного из тех людей, что группами стоят на перроне, бурно размахивая иностранными газетами и обсуждая на разных языках спортивные новости своих стран? Иначе зачем ему так пристально разглядывать этих людей.
– У вас бедное воображение, – замечает кто-то рядом с протоколистом или чуть позади, и, хотя это сказано вскользь, в сознании протоколиста четыре этих слова звучат громче, чем вокзальные репродукторы, вещающие над его головой.
Протоколист вздрагивает и оборачивается. Рядом с ним у высокого столика стоит незнакомец, он тоже ест сосиски, намазывая их горчицей, и даже очень густо. Небольшой хрупкий человечек. Поначалу замечаешь только очки в тонкой золотой оправе, потому что в них отражаются вокзальные лампы, но потом видишь бледную кожу лица и бескровный рот с заостренными уголками. А под конец и глаза, пренебрежительно разглядывающие окружающих.
– Воображение в воскресный вечер? – переспрашивает протоколист. – Не слишком ли это рискованно, ведь среди нас нет женщин.
Незнакомец поднимает взгляд на вокзальные часы.
– Воскресный вечер миновал.
При этом он задирает голову, и протоколист видит, что под темно-серым плащом на нем сутана.
Нет, даже господин Глачке не осмелился бы сунуть своего агента в сутану. И протоколист просит извинить его.
– Прошу прощения, я просто сболтнул о женщинах. Решил, что вы из тайной полиции.
– Из тайной полиции? Да разве она существует?
– Разумеется. Учреждение, начисто лишенное воображения, пекущееся единственно о безопасности и потому пребывающее в постоянном страхе.
Агент, если таковой здесь имеется, запишет в донесении: человек, замаскированный священником, обменялся с поднадзорным двумя-тремя словами.
Господин Глачке опешит и подумает: возможно ли, что у них прямая связь с церковью? О, тут требуется величайшая осторожность.
– Не обращайте внимания на мою униформу, – сказал незнакомец, указывая на сутану.
– Воображение? – снова переспрашивает протоколист. – От такого воскресного вечера наступает паралич речи, и трудно стряхнуть с себя оцепенение. Я, надо вам сказать, юрист. Извините, а что вы понимаете под воображением?
– Восприятие того, что считается несбыточным. Возможно, существуют и лучшие определения. А препятствием к такому восприятию для тех вон людей, да и для всех нас служит наше прошлое.
– Прошлое?
– Или пассивность нашего интеллекта, если вам так больше нравится. Но вот и мой поезд. Я еду в Пассау. Поезда неустанно возвращаются в прошлое. Я преподаю теологию.
Он поднял дорожную сумку, стоявшую возле его ноги. Сумка, видимо, была увесистая.
– Полный мешок понятий для студентов. Готовенькие, на блюдечке поданные понятия. Как вы сказали? Паралич речи? Хорошее выражение, я его запомню. Если у человека парализована речь, можно выйти из положения, оперируя понятиями. Всего хорошего!
Незнакомец бросает картонную тарелочку в корзину под столиком. Интересно, вытащит ли позже агент, если таковой здесь имеется, тарелочку из корзины? Ведь на ней могло быть нацарапано какое-то сообщение.
Но незнакомец уже протиснулся сквозь толпу к контролю. На мгновение он исчезает из виду, будучи маленького роста, но за контролем, на перроне, оборачивается к протоколисту, который остался у столика, и, улыбаясь, машет ему.
Агент, если таковой здесь имеется, напишет в донесении: замаскированный священником субъект сел в таком-то часу в отходящий на Пассау поезд. Перед тем как войти в вагон, он подал поднадзорному знак. Господина Глачке это весьма обеспокоит. Он станет расспрашивать подчиненных: как случилось, что в личном деле нашего служащего нет никаких данных о связи с церковью? Неужели мне надо без конца повторять, как важна для нас сугубая точность? Раздобудьте, сделайте одолжение, незамедлительно список преподавателей в Пассау. Соблюдая, разумеется, строжайшую секретность. Мы не можем позволить себе роскошь…
Протоколист, оторвавшись от столика, покидает вокзал. И только в подземном переходе, ведущем под Банхофплац на противоположную сторону, он внезапно вспоминает, что забыл взглянуть, все ли еще сидит на том самом месте и ждет чего-то женщина с багажом и ребенком. И он улыбается своим мыслям. Девушка, идущая ему навстречу, принимает его улыбку на свой счет. А он улыбается, потому что ему пришло в голову, что это своего рода прошлое – закусывать сосисками на Главном вокзале, разговориться с человеком, который сутану именует униформой. Да еще, несмотря на горчицу, и воскресный вечер, и паралич речи, и репродуктор, вести разговор о восприятии и тому подобном. Разумеется, не так уж это много, и вряд ли это что-нибудь значит: тебе помахали с перрона рукой, помахали, спугнув все понятия. Не рассказать ли об этом Ламберу? Но дома ли он? Снизу, с Гетештрассе, не увидишь: перед его комнатой – лоджия, да еще огороженная. Чтобы заглянуть к нему, надо подняться на чердак дома по Кляйне-Бокенхеймерштрассе, снятый господином Глачке для наблюдения за Ламбером.
А может быть, Ламбер встретился с Норой, чтобы, как это он называет, с ней побеседовать? Когда беседуешь с Норой, говорит Ламбер, все проясняется и никаких проблем для тебя не существует. Вряд ли даже Ламбер способен проторчать весь воскресный вечер один на один со своим манекеном, делая записи, которые, как он прекрасно знает, никому не нужны и служат ему в некотором роде лишь для времяпрепровождения.








