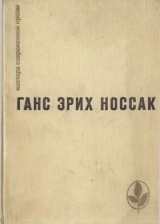
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Ганс Носсак
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 45 страниц)
– Допустим. Но все это можно истолковать и по-иному, к примеру как свидетельство вашего умения муштровать самого себя, – конечно, умения, которое делает вам честь. И тот факт, что вы ссылаетесь на свидетельство других людей, которых, что ни говори, не очень-то высоко ставите, и то обстоятельство, что прямо вы не отвечаете, говорят о многом. Быть может, вы все же обладаете вспыльчивым характером. Во всяком случае, такое подозрение возникает…
– Подозрение?
– Вот именно, и подозрение это вы никак не опровергли. Например, не исключено, что вы сами боитесь бурных проявлений чувств или же последствий этих вспышек, потому что в прошлом тяжело поплатились за них, и потому не проявляете свою вспыльчивость, загоняя ее внутрь.
– Кто же это вам рассказал? – спросил подсудимый.
– Означает ли ваш вопрос, что я прав? – быстро спросил прокурор.
– Ну, если вы так уж настаиваете, то в известном смысле да. Правда, обозначение «вспыльчивый», наверно, не соответствует истине, по признаюсь, что я человек легко ранимый и, поскольку мне это известно, стараюсь защитить себя, поелику это возможно, стараюсь, чтобы меня ненароком не затронули, иначе я могу закричать от боли.
Все это подсудимый произнес чрезвычайно спокойно, даже с легкой усмешкой, однако прокурор истолковал это так, как он, очевидно, намеревался истолковать, не без задней мысли формулируя вопросы.
– Спасибо! – воскликнул он и тут же повернулся лицом к судьям. Основание для поставленных вопросов я почерпнул из имеющихся у нас протоколов. А именно: матушка подсудимого показала…
– Моя мать? – спросил подсудимый с испугом.
– Говорите, пожалуйста, только тогда, когда к вам обращаются, – оборвал его председатель суда.
– Матушка подсудимого показала следователю, – продолжал прокурор, – что подсудимый в детстве был подвержен опасным припадкам ярости. Припадки были совершенно непредсказуемые и необоснованные, уже не говоря о том, что детям это вообще не свойственно. Матушка узнавала о приближении припадка по одному признаку: ее мальчик вдруг белел как полотно, особенно белел кончик носа. В такие минуты она прямо-таки испытывала страх перед ним… Мне кажется необходимым сообщить суду об этих показаниях матери подсудимого.
Теперь попросил слова адвокат. Ему представляется несколько странным тот факт, что господин прокурор придает столь большое значение подобного рода высказываниям старушки матери. Не влезая, так сказать, в душу этой старой дамы, можно предположить, что она сочла себя польщенной допросом и, дабы продолжить приятную беседу и показать себя поистине незаменимым свидетелем, сообщила множество разных деталей, которые сами по себе совершенно безобидны, но которые следователь все же занес в протокол, а господин прокурор сумел истолковать абсолютно превратно. Как бы то ни было, основа обвинения, по-видимому, чрезвычайно шаткая, раз уж прокурор не может найти никаких других свидетелей обвинения, кроме матери подсудимого.
Адвокату никто не возбранял выставить матушку подсудимого в качестве свидетеля защиты, парировал реплику адвоката прокурор. Как-никак, в большинстве случаев матери выступают свидетелями защиты.
Председатель суда, постучав карандашом, прервал перепалку между прокурором и защитником.
Все это время подсудимый стоял неподвижно, на его лице разлилась та же бледность, какая, по показаниям матери, разливалась на лице мальчика якобы перед приступами гнева. И сейчас, казалось, он с трудом сдерживает себя.
– Мать всегда права, – пробормотал подсудимый хрипло, в горле у него что-то клокотало, но говорил он настолько тихо, что его услышал только стенограф, да и то совершенно случайно.
– Говорите, пожалуйста, громче, – обратился к подсудимому председатель суда. – Что вы сказали?
– Я говорю, что пропал, если меня заставят защищаться от матери.
– Как это понять?
– Почему она пытается мне повредить? Это действительно непостижимо. Против нее я беззащитен.
– Я спрашиваю вас исключительно о том, соответствуют ли истине показания вашей матушки?
– Открыла ли она следователю причину, по какой у меня возникали вспышки гнева, как это сформулировал суд? По этой причине я чуть было не умер. Как мать, она, по-видимому, должна была больше бояться за меня, нежели меня, а ведь она утверждает сейчас обратное.
– Разве вы не слышали, матушка показала, что ваши припадки были всегда беспричинны?
– Тогда… Тогда… Предположим, что она все забыла. Бог с ней! Не надо пробуждать в ней ненужных воспоминаний, ведь мой брат преждевременно погиб из-за этого, она отравила ему жизнь. А я? Во что я превратился? Но она ничего не хотела знать. У нее это было внутренней потребностью, она не виновата. Пусть уж лучше страсть, а не вина.
– По вашему мнению, значит, причины все же были?
– Причины мне непонятны, господин председатель суда. Моя мать обладает безошибочным даром обнаруживать у человека незащищенную болевую точку и не в силах отказаться от того наслаждения, которое доставляет ей возможность потрогать пальцем эту болевую точку. И тут возникает нечто вроде короткого замыкания. Прошу вас, не спрашивайте меня об этом. Что ни говори, а она моя мать, и я, как и все смертные, испытываю слабость, питаю какие-то чувства к имени матери. И все же моя мать не годится в качестве свидетельницы.
– И я тоже не придаю особого значения показаниям вашей старушки матери, – прервал монолог подсудимого прокурор. – Ответьте мне, однако, на один вопрос: дотрагивалась ли и ваша жена до болевых точек, как вы изволили только что выразиться?
– Моя жена? Мне неприятно, когда о моей жене говорят дурно. Поэтому не надо соединять имя жены с именем матери в одном предложении. Неужто этого нельзя избежать, господин председатель суда?
– Вы вправе отказаться отвечать на любой вопрос, – сказал председатель.
– Разве в этом дело? Моя жена так же хорошо знала все обо мне, как я о ней. Мы оба родились тонкокожими или же стали такими. Та защитная оболочка, которая спасает всех других людей, у нас отсутствует. Мы знали, что все у нас буквально обнажено и кровоточит, и потому боялись наткнуться на что-нибудь или, упаси боже, толкнуть друг друга. Вот почему мы старались не спускать глаз друг с друга, должны были следить за каждым изменением интонации. Все это было необходимо, чтобы вовремя предотвратить самое страшное – не исчезнуть из поля зрения другого и не пропасть самому. Мы не имели права оглядываться назад, на первые годы жизни, на ужасы нашего детства, мы не имели права даже вспоминать о былом, ибо воспоминания заставили бы нас зашататься настолько сильно, что в глазах другого наши очертания расплылись бы окончательно. Но сон, господа! Кто властен над теми бурями, которые проносятся во сне, кто может защититься от них? Тебя бросает из стороны в сторону, из одного пространства в другое, ты рывком передвигаешься во времени то вперед, то назад. Тебя, словно перышко, поднимает ввысь, где разлит рассеянный свет, который слепит глаза, а потом ты опять ощущаешь, что весишь центнер, тебя неудержимо тянет книзу, все сильнее, все быстрее. Ты падаешь все отвесней сквозь туманы, падаешь до тех пор, пока не ударяешься о водяное зеркало и не взламываешь его – о, какая кричащая боль! И тут ты опускаешься в глубины озера, в ужасающую бесконечность плотоядных растений… А каково, господа, когда рядом с тобой бодрствует другой человек, ведь он все чувствует, он слышит твой крик или твои жалкие стоны. Напрасно говорить ему: это всего лишь сон, который длится несколько секунд. Нет, он знает, что это и есть жизнь другого, в которую ему не дано проникнуть, поэтому ему кажется, будто его предали, свели к нулю, ведь его не зовут на помощь. И даже если он ничего не заметил ночью, он все заметит на следующее утро, ибо проснувшийся непривычно пахнет или вокруг него образуется какая-то новая атмосфера, с размытыми контурами. Как можно скрыть сон? Конечно, его стараешься забыть. Ты спешишь побриться, одеваешься, она накрывает на стол в кухне. Вы садитесь завтракать, но все это ложь, предательство уже совершилось, и в надежность другого больше не веришь. Обычное утро – это только отсрочка, оттяжка. А сколько усилий надо приложить, чтобы вообще решиться лечь спать? И так из ночи в ночь. Каждую потенциальную угрозу мне приходилось буквально терзать до тех пор, пока она не теряла свою силу и уже не могла забрать надо мной власть. Только тогда я шел на риск: ложился в постель и погружался в сон. Ну а до этого мне приходилось бороться наяву со всеми опасностями один на один. Со всеми? Кто может знать, сколько их всех? Наверно, то была моя ошибка, слишком я к ним привык, даже посмеивался… Да, в эти минуты меня, конечно, не надо было окликать. Достаточно было самого легкого прикосновения, и я лопнул бы как мыльный пузырь. В глаза другого брызнуло бы всего несколько капель едкой жидкости. Вот и все. Да, я переоценил свои силы. Вот почему я нахожусь в этом зале.
– Если я вас правильно понял, – продолжал допрос председатель суда, вы хотите сказать, что мыльный пузырь… Вы ведь так выразились? Что мыльный пузырь лопнул в ту ночь?
– Да, пожалуй, можно сказать и так.
– И притом от несвоевременного прикосновения вашей жены?
– Несвоевременного? Но ведь она имела полное право на все, раз у нее уже не было сил выносить это.
– Стало быть, дело зашло так далеко, что у нее не было сил выносить?
– Быть может, она заметила, что мое сопротивление ослабело, заметила еще до того, как я понял это сам. Я хотел воспрепятствовать. Да, я хотел ее задержать, сделав так, чтобы мы ушли вдвоем. Первоначально я никогда не думал о таком исходе всерьез, считал его совершенно невозможным, но тут я быстро сказал: «Хорошо, пошли! Пошли! Что с нами может случиться? Ничего нам уже не страшно. Куда захотим, туда и пойдем, будем жить в грязи, в нищете, в грехе. Нас можно опозорить, мы можем умереть с голоду, над нами можно издеваться, надругаться, нас можно засадить в тюрьму…» Да, господа, почему бы вам просто не посадить меня за решетку? Приговорить к пожизненному заключению, я не возражаю. Зачем прилагать столько усилий, произносить столько мучительных слов? Ведь все, что я говорю, не предназначается для этого зала, Извините.
– А когда вы обратились к своей жене? – спросил председатель суда, он даже бровью не повел, не хотел показать своего удивления неожиданной откровенностью подсудимого.
– Когда? Что значит «когда»? Разумеется, в последнее мгновение. Но было уже поздно.
– Ах да, понимаю: вата жена уже спускалась по лестнице. Не правда ли? Это и было, значит, мгновение самой большой опасности, как назвали ее смертельной опасности?
– Ужасное мгновение, – сказал подсудимый.
Председатель суда как бы случайно коснулся карандашом своих губ: хотел дать понять прокурору, чтобы тот не задавал лишних вопросов, которые помешали бы говорить подсудимому дальше.
Но жест этот оказался напрасным. Не то потому, что подсудимый его заметил, не то по какой-то иной причине, но он вдруг как бы опомнился; во всяком случае, к изумлению всех присутствующих, он внезапно сказал совершенно другим, бодрым голосом:
– Какие вы ловкачи, господа. Вы выуживаете из меня разные признания, которые не имеют никакого касательства к ходу процесса. Слова, которые, быть может, никогда и не были сказаны. А как вы отнесетесь к тому, что я только подумал об этом, не раскрыв рта? Кто это сумеет теперь доказать?
Неожиданная и разительная перемена в поведении подсудимого очень всем не понравилась. Теперь и прочие его признания показались неправдоподобными. И судьи и публика заподозрили, что имеют дело с опытным комедиантом, который прекрасно разбирается в том, какое он производит впечатление на окружающих. В зале заметно заволновались.
– Вы ошибаетесь, подсудимый, – сказал председатель суда, – все, что касается ваших отношений с женой и отношений жены с вами, представляет для нас большой интерес. То, о чем вы рассказали под конец, насколько я понимаю, произошло в минуту, когда ваша жена ночью опять стала спускаться по лестнице. Мы не будем сейчас заниматься деталями. Тем не менее я хотел бы задать вопрос, предвосхищающий дальнейшие события. Вы назвали эту минуту ужасной, вы не раз употребляли выражение «смертельная опасность». Это очень сильные выражения, которые, конечно, заставляют нас задуматься. Ведь истинную причину вашей тревоги мы все еще никак не уразумели. Чтобы избежать смертельной опасности, вы, согласно собственным показаниям, пришли к решению – бежать с вашей женой куда глаза глядят, хотя первоначально это, видимо, не входило в ваши намерения. Не прерывайте меня, пожалуйста, к этой теме мы еще вернемся. В данное время я хотел бы узнать от вас нечто иное: зачем вам вообще понадобилось идти куда-то с женой? Разве не проще было подняться к ней наверх?
– Наверх? Вы хотите сказать, в спальню? – почти закричал подсудимый.
– Да, конечно. Ведь это очень даже странно – отправиться в далекий путь почти в полночь, ни о чем не договорившись заранее и притом, по-видимому, без определенной цели.
– Вы это всерьез спрашиваете?
– Подсудимый, когда вы наконец-то поймете, что зал суда не место для шуток? Не соизволите ли вы ответить на мой вопрос просто и ясно?
– Нет, это немыслимо.
– Что? Вы не можете ответить?
– Немыслимо было опять подняться по лестнице.
– Почему? Подумайте все же немного. Представьте себе такой вариант: вы вместе со своей женой опять поднялись наверх, что тогда?
– Это означало бы конец, – сказал подсудимый.
– Конец? Конец чего?
– Как вы можете задавать такие вопросы?
– Совершенно не понимаю, что вы находите удивительного в моем вопросе. Всем нам здесь он представляется самым что ни на есть естественным. Тем более что, по нашему разумению, стоило вам только подняться наверх, и вы наверняка предотвратили бы бесследное исчезновение жены. Нет, я уверен, существовало какое-то обстоятельство, которое вы явно хотите скрыть. Или же дело было в другом: ваша жена стала бы сопротивляться или, скажем, отбиваться от вас.
– Даже если бы она не стала отбиваться…
– Значит, она отбивалась?
– Она не отбивалась, – опять почти закричал подсудимый. – Зачем ей было отбиваться? От кого, собственно? От меня? Неужели вы думаете, что я мог сделать жене какое-нибудь унизительное, какое-нибудь бесстыдное предложение?
– Почему бесстыдное? Что за странные определения вы подбираете для поступков, которые кажутся нам всем совершенно нормальными, во всяком случае, куда более нормальными, чем те, что вы совершили, очевидно. Вы даете диковинные определения, а потом опять говорите о смертельной опасности… Но при чем здесь смертельная опасность? Ваша жена спускалась по лестнице. Пусть в необычное время. Это вас испугало, допустим. Вы были, возможно, ошарашены, не ожидали ее увидеть. Но все это еще не причина говорить о смертельной опасности. В ваших показаниях отсутствует какое-то звено. Стоит мне представить себе эту сцену, как…
Речь председателя суда была прервана, произошел весьма неприятный инцидент. И потому подсудимый не ответил на поставленный вопрос, хотя неизвестно, стал бы он вообще отвечать на него.
Из зала, и притом из средних рядов, вдруг донесся смех, смеялась женщина. Это не был тихий, подавленный смешок, женщина хохотала во все горло, даже визгливо. Вероятно, она уже довольно долго пыталась подавить приступ смеха. Но как бы то ни было, все в зале вздрогнули, словно от удара. Люди как по команде повернулись. Председатель суда хотел было схватиться за колокольчик, по рука его сперва застыла на полдороге, а потом он вовсе опустил ее: было совершенно очевидно, что этот беззастенчивый хохот – истерика… Люди, которые сидели рядом с хохочущей женщиной, пытались унять ее. Служители и судебные чиновники бросились в середину зала; зрители, которые сидели в том же ряду, что и женщина, встали, чтобы дать ей возможность пройти. Надо сказать, что она не оказала никакого сопротивления и дала себя вывести. Однако, уходя, она не переставая хохотала, все чаще захлебываясь от смеха. Этот хохот звучал в ушах у публики и у судейских и после того, как дверь зала захлопнулась за женщиной и ее смех постепенно стих в лабиринтах судебных коридоров. Однако люди все равно его слышали, им казалось, будто смех притаился в каком-то из уголков зала и вот-вот опять вырвется наружу.
Единственный, кто вовсе не обратил внимания на поднявшуюся суматоху, был подсудимый. На протяжении неприятного инцидента он стоял неподвижно, слегка наклонив голову, и смотрел в пол.
Председатель повернулся к членам суда, они пошептались немного. Как видно, председатель советовался с коллегами, не прервать ли заседание на короткое время. Потом в зал вошел кто-то из судейских, протянул председателю суда записку и сказал вполголоса несколько слов. Председатель суда прочел записку и передал ее дальше, прокурору. Тот тоже прочел и пожал плечами. После чего председатель суда взялся за колокольчик.
– Прошу соблюдать тишину, – сказал он громко, – иначе я прикажу вывести публику из зала. – После этого председатель суда сделал знак подсудимому и показал ему записку. – Знакома ли вам эта дама и знаете ли вы соответственно ее фамилию? – спросил он.
Из соображений деликатности председатель суда не произнес фамилию дамы вслух.
Подсудимый покачал головой.
– Ну хорошо, это мы установим позже, – сказал председатель суда. Заседание продолжается.
Между адвокатом и прокурором началась перепалка. Адвокат истолковал истерический припадок неизвестной дамы как свидетельство того, что присутствующие в зале женщины понимают подспудный конфликт между подсудимым и его супругой куда лучше, нежели прокурор. В ответ прокурор решил поиронизировать над защитником. Если уж господин адвокат апеллирует к женщинам, то пусть подсудимый не посетует, он, прокурор, готов со своей стороны тут же обратиться к присутствующим дамам и спросить у них, согласны ли они бесследно исчезнуть из этой жизни?
Нет смысла пересказывать во всех подробностях спор адвоката с прокурором, тем более что его основная цель, видимо, заключалась в том, чтобы дать публике возможность забыть неприятное происшествие. Очень скоро председатель суда постучал карандашом по столу и призвал спорщиков не отклоняться от темы заседания. Прокурор попросил разрешения задать еще один вопрос по существу дела.
– Скажите, подсудимый, не намеревались ли вы вместе со своей женой уйти из жизни, умереть?
Нет, он не намеревался вместе со своей женой уйти из жизни, умереть.
– Почему вы отвечаете столь пространно?
Он ответил теми же словами, какими его спросили.
– Не значит ли это, что при отрицательном ответе вы делаете ударение на слове «вместе»?
Это значит совсем другое: всякого рода романтические бредни не имели места в его жизни и в жизни его жены. Заблуждения, возможно, имели место, заблуждения от усталости; да, от этого никто не гарантирован.
– Стало быть, ваша жена никогда не предлагала вам умереть вместе?
– Нет, а зачем, собственно?
– В ту ночь тоже не предлагала?
– В ту ночь тоже не предлагала. Ей это было не нужно.
– Как так? Что вы хотите сказать?
– Я хочу сказать именно то, что я говорю: ей это было не нужно. Смерть всегда была с нами, среди нас, вокруг нас, и мы оба знали это. Не было смысла говорить о ней.
– Как это понимать?
– Не знаю, что тут непонятно. Речь шла скорее о том, как вместе войти в жизнь, но и это было таким само собой разумеющимся, что каждый соответствующий призыв прозвучал бы смешно.
– Таким само собой разумеющимся это, как видно, все же не было, сказал прокурор, – иначе вы не стояли бы здесь, перед нами, а ваша жена не исчезла бы бесследно… Ну а сами вы? Как вы смотрели на это? Вы никогда, скажем, не принимали в расчет смерть?
Подсудимый ответил, что он, как-никак, был страховым агентом. Его ответ ненадолго вызвал веселое оживление в зале, председателю суда пришлось призвать публику к порядку.
– Вы меня неправильно поняли, – сказал прокурор, – я спрашиваю о том, не носились ли вы когда-нибудь с мыслью покончить с собой?
– Раньше – возможно.
– Раньше?
– Да, до того как я протрясся всю ночь в поезде. Я же пытался объяснить это вам. Мне порой кажется, что меня подозревают в чем-то из-за высокой суммы, на которую я застраховал свою жизнь.
– Это еще не приходило мне в голову, – признался прокурор. – Но вы правы. Сумма вашей страховки могла бы свидетельствовать об этих ваших намерениях. Прекрасно, вы утверждаете, что не имели их с тех пор, как женились. Однако как это можно соотнести с другими вашими высказываниями?
– С какими высказываниями?
– Дело в том, что из всех ваших речей явствует, что вы всегда хотели уйти в «то, от чего никто не застрахован». Я использую вашу формулировку. Итак, уйти в «незастрахованное», но уйти одному, оставив каким-то образом вашу жену в этом мире.
– Это правда, – признался подсудимый. – Я был не лишен высокомерия, свойственного всем мужчинам.
– Опять сплошные загадки. Что это значит?
Это значит, что из-за высокомерия он заранее считал, что вряд ли допустимо ввергать женщину в пучину неизвестности и тем самым обрекать ее на форму существования, которую сам он не принимает. Он считал свою жену чересчур слабой, а на самом деле слабым оказался он.
– Я думал, она меня будет задерживать. И не верил, что сумею, поборов слабость, преодолеть ее сопротивление. И тогда моя слабость могла бы легко обернуться ненавистью. Этого я как раз и боялся. Да, я боялся того мгновения страха.
– Мгновения страха?
– Да, так это можно назвать.
– Вы имеете в виду мгновение, когда ваша жена спускалась по лестнице?
– Да, вероятно, это и было подобное мгновение. Во всяком случае, я очень испугался, очень, очень. Вел себя, как жалкий трус. Но это не относится к делу. Я говорю о себе только потому, что по этой причине я буду согласен с любым вашим приговором.
Каждый раз, когда подсудимый так или иначе касался будущего приговора, в зале наступало замешательство, нечто вроде тягостного молчания. И это дало возможность подсудимому вполголоса продолжать свою речь:
– Я уже спросил господина адвоката…
– Что спросили? – сказал председатель суда, по-видимому тоже напуганный.
– Я уже спрашивал господина адвоката, существует ли…
– Говорите, пожалуйста, немного громче!
– Он сказал, что такого закона нет, хотя, на мой взгляд, его следовало бы ввести.
– Какого закона?
– О том, что человек совершает подлость, если из-за своей слабости или из-за своих эгоистических колебаний доводит другого человека до того, что тот плачет или чувствует себя виноватым. И за эту подлость нужно наказывать. Возможно, вы установите, господа, что в этом пункте я все же сын своей матери, хотя я и внушал себе, будто сделал буквально все возможное, чтобы не стать таким, как она. Словом, если вы установите, то тогда… Но такого закона нет.
– Почему ваша жена должна была чувствовать себя виноватой? – спросил председатель суда.
– Не исключено, что это было всего лишь мимолетное настроение, – сказал подсудимый. – Откуда я знаю?
Но тут в допрос опять включился прокурор, которому председатель суда предоставил слово кивком головы.
– Скажите, вы считаете возможным, что жена обсуждала с кем-то посторонним ваш брак?
– С кем-то посторонним?
– Ну да, с приятелем или с приятельницей.
– У нас не было приятелей.
– У вашей жены тоже не было?
– Чтобы ответить на этот вопрос, разрешите мне, пожалуйста, уточнить его, так сказать, в вашем духе, господин прокурор. Вы хотели бы узнать от меня, не оставила ли жена мой дом ради другого мужчины? Не так ли? Почему, собственно, не называть вещи своими именами? Неужели вы считаете меня таким ханжой? Или таким оголтелым собственником? Кстати, и господин адвокат, которого мне дал суд, спрашивал меня то же самое. Более того, он недвусмысленно намекал на это. И все вы правы. Почему бы и нет? Жена моя еще молода, она интересная женщина.
– Подсудимый! – прервал подсудимого председатель суда.
– Извините! Но ведь я отвечаю на поставленный вопрос. К сожалению, мой ответ вас разочарует. Я утверждаю, что задача найти этого другого человека – задача суда, а вовсе не моя. И до тех пор, пока он не найден – пусть он будет даже ангелом, – до тех пор, пока он не найден, меня следует держать в качестве заложника.
Председатель суда снова призвал подсудимого к порядку, указав на недопустимость его издевательского тона.
Поскольку у прокурора больше не было вопросов, председатель продолжил судебное следствие сам.
– Давайте займемся сейчас теми минутами, когда ваша жена спускалась по лестнице.
Для прояснения обстоятельств дела следует восстановить картину во всех подробностях. Даже незначительные детали важны для следствия. Согласно показаниям подсудимого, он находился в тот момент на кухне и вытряхивал из пепельницы окурки. И тут он услышал какие-то непривычные шорохи.
– Что вы услышали?
– Скрип двери наверху или, быть может, скрип половицы на втором этаже.
– Вы сразу же поняли, что идет ваша жена?
– Кто же это мог быть еще?
– Ну, к примеру, прислуга.
– Прислуга? Нет, я сразу узнал, кто идет.
– Объясняете ли вы это тем, что подсознательно ожидали: ваша жена спустится вниз?
– Это могла быть только жена, и никто другой. Вот и все.
– Ну и как вы поступили?
– Стал прислушиваться.
– Вы уже вытряхнули пепельницу?
– Да, по-моему. Трудно теперь припомнить.
– Но ведь вы держали ее в руке?
– Вероятно. Что случилось с пепельницей?
– А дальше? Что вы сделали потом?
– Ничего. Ничего не в силах был сделать. У меня захватило дух. Я замер. Чувствовал, будто меня застали врасплох.
– Но почему, собственно? Вы ведь не совершили ничего предосудительного. Даже ничего из ряда вон выходящего.
– Моя ошибка состояла в том, что я совершенно отключился. Я забыл, что надо постоянно… Я так и не успел отреагировать.
– Ну хорошо, а потом?
– Я слышал, как она спускалась по лестнице. Очень медленно – во всяком случае, мне так показалось. Мне и сегодня так кажется, хотя, очевидно, спускалась она совсем недолго. Потом я ее увидел. Сперва туфли, ноги.
– Увидели из кухни?
– Да.
– От кухонного буфета лестницы не видно.
– Я, кажется, дошел до дверей кухни, ничего, впрочем, не соображая. Да, так оно и было. Мне пришлось прислониться к дверному косяку. Я не в силах был держаться на ногах. Подумал даже, что меня уже вовсе не видно…
– Как это? И почему вам пришла в голову такая странная мысль?
– Не знаю… Какой-то провал.
– Провал в памяти?
– Нет, не в памяти. Я имею в виду дверь кухни. Провал в пустоту.
– Ну ладно. Потом вы опять пришли в себя?
– Пришел в себя?
– Или, скорее, взяли себя в руки?
– Так всегда говорят задним числом. Пустое хвастовство.
– Что же вы подумали?
– Ровным счетом ничего, господин председатель суда. Поверьте, в такие минуты ни о чем не думаешь. Не имеет смысла, ты на это вовсе не способен. Человек просто действует.
– Ну и как вы действовали?
– Я сдался. Уступил.
– Кому, скажите на милость, вы уступили? Или что вы уступили?
– Кому? Что? – запинаясь повторил подсудимый.
– Вы уступили своей жене?
– Почему своей жене? Нет, не ей.
– Но вы ведь так сказали. Интересно, что вы при этом имели в виду?
– Я сдался, не стал сопротивляться. Да и сопротивление было бесполезно. Слишком поздно. Я просто распустился. Иначе…
– Иначе?
– Не знаю, что случилось бы иначе. Трудно себе представить.
– Стало быть, вы приняли что-то вроде решения.
– Но ведь я уже сказал вам, что совершенно оцепенел. Как можно в таком состоянии что-то решать? Я даже вынужден был прислониться к косяку.
– А жена?
– Жена? Что с ней?
– Заметила она ваше состояние?
– Как я могу это знать? Заметила, конечно. То есть я хочу сказать, наверно, она чувствовала то же, что и я.
– Ну хорошо. Давайте задержимся немного на этом ответе. Вы, значит, стоили в дверях кухни, прислонившись к косяку. К левому или к правому?
– К… к… Разве это существенно?
– Существенно или несущественно – предоставьте решать нам.
– Но я и впрямь не помню. Наверно, к левому, так мне по крайней мере сейчас кажется. Не исключено, впрочем, что я и вовсе не прислонялся. Только теперь мне это так представляется.
– Хорошо, остановимся на левом косяке. Конечно, если вы не возражаете. А где была пепельница?
– Пепельница?
– Да, вы ведь пошли на кухню, чтобы вытряхнуть из пепельницы окурки, и сказали, что уже сделали это. Стало быть, пепельница была где-то рядом.
– А теперь ее нельзя найти, что ли?
– Где пепельница, мы вас спрашиваем.
– Где-нибудь она должна отыскаться. Наверно, я поставил ее на кухонный буфет. Или на стол в кухне. Может быть, прислуга… Что случилось с этой пепельницей?
– Отлично, вы, значит, поставили ее куда-то. Скажем, для того, чтобы освободить руки. В какую пепельницу вы в тот вечер стряхивали пепел?
– В какую? В ту, что стояла в гостиной. Это была определенная пепельница.
– Опишите ее, пожалуйста.
– Большая пепельница. Моей жене она не нравилась. Жена говорила, чтобы я унес ее к себе в контору. Там она будет на месте. Жена не раз покупала пепельницы поменьше, но пепел часто просыпался мимо. Поэтому мы так и не расстались со старой пепельницей. Она была мраморная, зеленоватая. Такие пепельницы повсюду продаются.
– Стало быть, довольно тяжелый предмет?
– Да. Жена приклеила к внешней стороне дна кусочек войлока, чтобы пепельница не царапала стол.
– Пепельница у вас круглая?
– Нет, шестигранная или восьмигранная, стало быть, с углами.
– Ну а сколько она примерно весит?
– Сколько весит? Но кому придет в голову взвешивать пепельницу? Наверно, полкило или кило. Скорее, по-моему, кило.
– Ну хорошо. Как вы объясните тот факт, что эта пепельница была найдена на четвертой ступеньке и притом у самых перил?
– На четвертой?.. Хорошо, и что же вам еще нужно? Значит, она нашлась. Тогда все в порядке.
– Но вы ведь только что утверждали, будто оставили ее на кухне.
– Какое это вообще имеет значение? Выходит, я держал ее в руке и поставил на ступеньку, чтобы она мне не мешала. Вы ведь сами видите, что у меня не было времени обращать внимание на такие мелочи.
– Гм. А когда вы поставили пепельницу на ступеньку?
– Когда? О боже, какие странные вопросы. Не помню. И не понимаю, почему…
– И мы многое не понимаем. Не понимаем, например, почему вы даете такие сбивчивые ответы. Почему?
– Но я ведь пытаюсь объяснить вам, господин председатель суда, речь шла о жизни и смерти. Кто в такие минуты заботится о столь нелепых предметах, как эта пепельница?
– Вы считали, что вашей жизни угрожает жена?
– Моя жена? Как это ужасно. Лучше вовсе не говорить ни слова. Вы нарочно толкуете все превратно.
– А я вот не вижу никакого превратного толкования. Мы просто устанавливаем тот факт, что вы все еще держали пепельницу в руке, когда ваша жена спускалась по лестнице.








