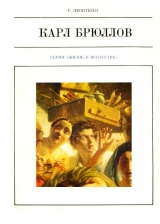
Текст книги "Карл Брюллов"
Автор книги: Галина Леонтьева
Жанры:
Искусство и Дизайн
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц)
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Неаполь сразу закружил в вихре шумной пестрой толпы, захватил яркостью костюмов, соленым запахом моря, перебивающим пряные запахи готовящихся прямо на улицах яств. С раннего предрассветного утра на улицах кричат разносчики. Иной сидит с десятком апельсинов или фиг, а зазывает покупателей так оглушительно, будто торгует несметным числом невиданных заморских товаров. Вся жизнь города течет открыто, на глазах у всех, прямо на улице: в домах тесно и жарко, а на просторе улиц места довольно всем. Тут портной шьет платье, там трактирщик готовит обед. Тут полощется на соленом ветру белье, там развешанные на просушку – тоже, как белье – макароны.
По дороге из Рима путешественникам пришлось пересечь Понтийские болота. Земли там плодородны, но воздух болезненный и вредоносный до крайности. Жилья на тучных землях почти не видно. Изможденные люди, перепрягавшие лошадей, предупреждали их, что засыпать в пути через болота опасно – сон здесь может оказаться предвестником вечного сна. После зловеще пустынных болот окрестности Неаполя показались особенно нарядными и радостными. Город, белый в ослепительном сиянии солнца, окруженный небом, морем и горами причудливых очертаний, является перед взором подъезжающих, как на ладони.
Карл пришел в восторг от Неаполя. Он без конца повторял, что «всякий не любящий Неаполя глуп и что не меньше глуп и тот, кто предпочитает Рим Неаполю». Он, наверное, согласился бы с Гете, который говорил: «Кто хоть раз побывал в Неаполе, тот уже не может считать себя несчастным». С неаполитанской набережной открывался вид на Везувий. Туда, к Везувию, к Помпее и Геркулануму, лежал их дальнейший путь. Селения, которые нужно проехать по пути к Помпее, – Портичи, прославленное в опере Обера «Немая из Портичи», Резина, Торре-дель-Греко – все покрыты каким-то угольным налетом: ни южная известковая побелка, ни ослепительное солнце не помогают скрыть постоянную легкую копоть – след дыхания вулкана. Конус Везувия испещрен бороздами синей, розоватой, лиловой лавы. Легкое марево даже в этот безоблачный день венчало срезанную вершину вулкана: тоненькие струйки пара, сочившиеся из жерла спящего великана, сливались в подобие облака.
Зрелище Помпеи ошеломило. Никакое предварительное знание – книги, гравюры, рассказы – не могли смягчить остроты впечатления. А знал Карл о Помпее немало. Брат Александр побывал здесь еще в 1824 году. Много времени отдал он обмерам помпейских терм. Скоро, в 1829 году, увраж с его обмерами, анализом терм и сведениями о гибели Помпеи выйдет в свет. Александр рассказал брату, как, взойдя на форум Помпеи, он оказался во власти представившейся ему сцены гибели города. Вид развалин вынудил его позабыть обо всем на свете, перенестись в те времена, когда «эти стены были еще обитаемы, когда этот форум, на котором мы стояли одни и где тишина была прерываема какой-нибудь ящерицей, был наполнен народом… Но что это? – Я вижу огненные реки, вырывающиеся из его огромного жерла; они стремятся, разливаются и поглощают все встречающееся и не находят препон своему стремлению… Меж тем дождь песку, золы и камней засыпает пышную Помпею; Помпея исчезает перед моими глазами…» – так рассказывал Александр о своих чувствах и видениях на земле помпейской. Карл видел рисунки брата и работы Сильвестра Щедрина, не раз бывавшего в Неаполе и Помпее. С другом Самойловой, композитором Джиованни Пачини, дочь которого Амацилию бездетная графиня удочерила, а Карл будет не раз писать, Брюллов тоже не однажды беседовал о помпейской трагедии – композитор работал именно в те годы над оперой «Последний день Помпеи».
И вот теперь он сам здесь. Небольшое извержение вулкана было буквально за несколько дней до приезда Брюллова со спутниками: «Лишь Брюллов явился ко мне, то как на смех, стихший вулкан перестал вовсе куриться, и он, пробыв дня четыре, возвратился в Рим», – пишет Сильвестр Щедрин. За эти четыре дня Карл исходил все закоулки недавно раскрытого археологами города. Колеи на циклопической мостовой были так свежи, что казались проложенными только что. Не выцвела красная краска надписей, возвещающих о зрелищах, сдаче помещений; на стенах казармы в неприкосновенности сохранились фигурки сражающихся, нацарапанные солдатами от скуки. Каменные колодцы еще носят след врезавшихся в них веревок. В кабачках на столах видны круглые пятна от чаш с вином. Тут и там – лавочки с остатками товара. Им не хватает одного – продавца… Нигде больше не найти такой поразительной картины внезапно прервавшейся жизни. На домах у дверей – надпись «Cave canem», берегись собаки, и лаконский пес, писанный восковыми красками. Почти у каждого порога мозаикой выложено приветливое и радушное «salve» – здравствуй. Кажется, сейчас выйдет хозяин и пригласит войти в тенистый, прохладный внутренний дворик. Вилла Аррия Диомеда – одно из самых больших зданий города. Именно здесь был найден скелет женщины, отпечаток тела которой видели путешественники в Неаполитанском музее. На ее скелете еще висели украшения, надетые в тот день, когда началось внезапное бедствие.
Когда, в какой момент блеснула в воображении Карла первая мысль о будущей картине? Как вообще зарождается новый замысел в душе художника? Ровесник Брюллова Бальзак как-то сказал, что «произведения созревают в душах так же таинственно, как трюфели на благоухающих равнинах Перигора…» Карл давно мечтал о большом полотне, в котором смог бы вылить все, что понял, постиг, чему научился. Сколько покамест бесплодных попыток он к тому уже предпринял! Помимо отвергнутых им сюжетов исторических картин, о которых мы говорили, он еще в самом начале своего пенсионерства то брался за эскиз «Олег, прибивающий щит к воротам Константинополя», то умолял Кикина «замолвить словечко о задаче сюжета, хотя из Петра» – он почитал своим священным долгом «передать потомству какое-нибудь дело великое, содеянное праотцами нашими». Общество тогда ответило ему, что поскольку ни исторических документов, ни этнографических материалов по истории России в Италии нет, то неразумно браться на чужбине за тему из отечественной истории. И было по-своему право. Брюллову будет дано в картине о далеком прошлом Италии сказать свое слово о России, и не о стародавней, а об идеях, волновавших его соотечественников сейчас, в первой трети текущего XIX столетия…
Такие ключевые в истории искусства произведения, каким суждено было стать «Помпее», рождаются от союза таланта, времени и обстоятельств. От первой блеснувшей мысли о картине до ее завершения пройдет долгих шесть лет. Уже тот Брюллов, что стоял тогда летним днем 1827 года на помпейском форуме, далеко ушел от едва оперившегося питомца Петербургской Академии, каким он приехал в Италию. Это уже достаточно серьезный художник, изучивший пристально работы старых мастеров, – он вот-вот кончит копию «Афинской школы». Автор, заявивший о себе циклом интересных портретов, жанровых сцен, автор «Итальянского утра» и «Полдня». В течение шести лет работы над картиной он будет продолжать расти, мужать, развиваться, созревать вместе с нею.
Какое же время, какие обстоятельства толкнули его именно к этой теме, какими идеями был захвачен художник, работая над главной картиной всей своей жизни?
Времена в Италии были тогда бурные. Начиная с 1820-х годов страна словно переживала вторую молодость. Освободительное движение, Рисорджименто, зародившееся еще в конце XVIII века, перестало быть уделом горсточки ученых, поэтов, художников. Оно захватило все слои общества. Когда началась революция в Неаполе и Пьемонте, в боях участвовали и женщины, и даже дети – лили кипящее масло из окон своих домов на выступивших против восставших карбонариев своих и австрийских солдат. В январе 1821 года Байрон записал в дневнике: «Пообедал – узнал новости – державы намерены воевать с народами. Известие как будто достоверное – что ж, пусть – все равно их когда-нибудь разобьют. Времена королей быстро близятся к концу, кровь будет литься как вода, а слезы – как туман; но народы в конце концов победят. Я не доживу до этих времен, но я их предвижу».
После того как русские разбили утеснителя Италии, Наполеона, страна осталась раздробленной, многие ее области по-прежнему были под игом иноземцев. Борьба за изгнание австрийцев, за воссоединение была начертана на знаменах Рисорджименто. Тягу к единству и называли патриотизмом. Во главе движения стояла молодая буржуазия. Центром консолидации борющихся сил стала Ломбардия, с Миланом во главе. Когда австрийцы, после изгнания Наполеона, вернулись сюда, они застали совсем других итальянцев – покорности и послушания как не бывало. Репрессии больше не пугали патриотов, будто лишившись былой действенной силы. Как раз к миланскому кружку патриотов примыкал в 1818–1819 годах Байрон. Вот что было чрезвычайно характерно для итальянского освободительного движения: быть может, как нигде больше в мире, борьба литературно-художественных направлений, классицизма и романтизма, слилась с политическими мотивами. Укрепляется знак равенства между понятиями патриотизма и романтизма. Австрийское правительство преследует романтиков, как политических противников, романтические воззрения постепенно отождествляются не только с патриотизмом, но и с либерализмом. Когда в 1818 году миланская полиция учреждает провокационный журнал «Спорщик, или Война классиков с романтиками», наемные писаки, сотрудничающие в нем, представляют классицистов «порядочными», благонамеренными людьми, а романтиков – смутьянами, революционерами, врагами правительства. В конце концов, классицистами стали себя именовать только отъявленные реакционеры. Год спустя виднейший романтик, редактор миланского журнала «Примиритель» Сильвио Пеллико, автор патриотической драмы «Франческа да Римини», был приговорен к смертной казни, замененной десятью годами заточения в казематах Шпильберга. Байрон по этому поводу пишет Стендалю в 1823 году: «Сколько перемен произошло со времен миланского кружка, что я едва решаюсь о нем вспоминать – кто погиб, кто в изгнании, а кто в австрийских казематах. Бедный Пеллико! Я верю, что за железными стенами он хоть отчасти утешен своей Музой…» Действительно, уже в 1832 году, в разгар работы Брюллова над «Помпеей», Пеллико завершил свою книгу «Мои темницы», в которой описал страшные годы заточения.
В начале 1830 года в Милане царило радостное возбуждение. Но, увы, недолго: поражение французской революции тотчас отозвалось в Италии усилением репрессий. Подавлено восстание в далекой Польше, да и все попытки революционных взрывов в самой Италии не увенчались успехом. Но Рисорджименто не сдается – оно уходит в подполье. В 1831 году Мадзини основывает общество «Молодая Италия», которое станет на многие годы оплотом борьбы.
Все эти события не просто разыгрывались в присутствии Брюллова, на его глазах. Он знал о них достаточно подробно, ибо был близок с многими участниками движения. Как раз в начале 1830-х годов он пишет портрет писателя Гверацци, портрет архиепископа Тарентского Капечалатро, который не боялся выступать против засилья католической церкви, вел большую просветительскую работу: учреждал народные школы, библиотеки, музеи. Среди рисунков Брюллова не раз попадаются портреты карбонариев. В это же время он очень подружился с миланским банкиром Мариетти. А миланцы, особенно такие, как Мариетти, близкие к художникам и писателям, все так или иначе были приверженцами Рисорджименто. Брюллов пишет большой групповой портрет семьи своего друга. Когда после смерти банкира выяснится, что тот обанкротился, постоянно, в течение многих лет будет помогать его семье; у Карла даже возникает намерение все свои средства завещать семье друга. Вдове он подарил написанный им семейный портрет. Когда она хотела потом, в 1841 году, продать его Брерской Академии, австрийская верховная придворная комиссия по делам просвещения не разрешила этой покупки – почему-то русский художник, несмотря на шумную славу европейского мастера, не устраивал австрийскую администрацию… Свою картину «Инесса де Кастро» Брюллов предоставил в лотерею, которую художники Милана устроили в пользу семьи своего покойного друга Мариетти. Горячее участие в судьбе семьи приняла графиня Самойлова, не оставившая их своими попечениями и после отъезда Брюллова, в 1840-е годы. Постоянно заботился о вдове и еще один человек, имя которого Массимо д’Адзельо. В письме к своему брату уже в 1844 году он напишет, о том, что семья Мариетти до сих пор живет помощью графини Самойловой, а также о том, что отдавать картину Брюллова «Инесса де Кастро» в лотерею не следует, ибо это такая ценность, что ее лучше бы предложить неаполитанскому королю. В этом письме д’Адзельо с такой свободой, без всяких дополнительных пояснений – кто это такие – употребляет имена Брюллова и Самойловой, что трудно себе представить, чтобы они не были знакомы. Да и все дороги как будто вели их к этому – и чисто житейские (через того же Мариетти), и творческие.
Кто же такой этот Массимо д’Адзельо и почему его связь с Брюлловым представляет такой интерес?
Сын туринского маркиза, Массимо был всего одним годом старше Брюллова. Раннюю молодость он провел бурно, но вскоре кутежи в трактирах наскучили ему. Живопись и литература – вот что влекло молодого сублейтенанта. Он едет в Рим, учится, становится профессиональным живописцем. Читает тираноборческие трагедии древних, выучивает монологи римских республиканцев, опьяняясь героикой речей и поступков. С 1831 года он в Милане, освободительное движение завлекает его в свою орбиту. Правда, непосредственно членом «Молодой Италии» Мадзини он не становится – как и Брюллов никогда не был членом тайных обществ. Массимо считает, что прежде всего «нужно создать итальянцев, чтобы иметь Италию». Искусство и литература – вот лучшее средство воспитания современников. Поведать соотечественникам о былой славе Италии, восхитить и воодушевить общество примерами былой патриотической доблести – задача художника и поэта. Брюллов мог видеть выставки его пейзажей и исторических картин: «Сражение при Леньяно», где прославляется победа войск миланской республики над Фридрихом Барбароссой в 1175 году, или «Турнир в Барлетте», в которой художник рассказывает о поединке тринадцати итальянских рыцарей с тринадцатью французскими, произошедшем в 1503 году и закончившемся блистательной победой соотечественников автора. Работая над последней картиной, художник параллельно начал писать роман на ту же тему, который получил потом название «Фьерамоска, или Турнир в Барлетте». Роман вышел в свет в 1833 году, сразу принеся автору шумную славу. Брюллов не мог не знать этого сочинения, тем более что отношение к истории и историческому жанру у итальянского автора и русского художника местами совпадает удивительнейшим образом. Тому и другому классицистическая нагота кажется уже искусственной, а современные герои, облаченные в тоги, попросту смешными и напыщенными. Вот как понимает историю д’Адзельо: «Долгое время история была историей правителей; пора ей уже стать историей всех». Воссоздать мысли и чувства безымянной массы важнее, чем дать точный перечень поступков королей. Как мы увидим, так же понимал задачи истории и Брюллов.
Массимо д’Адзельо был женат на дочери самого известного тогда в Италии писателя-романтика, виднейшего деятеля Рисорджименто Алессандро Манцони. Его роман «Обрученные» опубликован в 1827 году (книга д’Адзельо вышла в год окончания брюлловской «Помпеи», а роман Манцони – в год зарождения ее замысла). Роман сразу покорил читателей обоих полов и всех возрастов, с триумфом обошел всю Европу. В Италии в те годы появилось бесчисленное множество Ренцо и Лючий – новорожденных называли в честь героев Манцони. О Манцони говорят, что это автор гомеровского размаха. Когда в 1836 году в Милан приезжает Бальзак, его ведут первым делом к Манцони, да и все сколько-нибудь заметные европейские литераторы, приезжавшие в Италию, считали первым своим долгом прийти на поклон к этому корифею.
Известно, что Брюллов делал иллюстрации к «Обрученным». Нет сомнения в том, что и Манцони знал картину русского мастера. Главное даже не в том, были они лично знакомы или нет. В итальянской прессе, посвященной «Помпее», не раз проводится параллель между картиною иноземца и романом Манцони: «Картина г. Брюллова произведет многих прозелитов, подобно как i promessi sposi (обрученные) Манцони». Интересно, что автор избирает слово «прозелиты», то есть «посвященные», а не просто – последователи или подражатели. Почему у современников ассоциировались эти два произведения?
Когда открываешь повесть о любви Ренцо и Лючии, созданную Манцони, и читаешь предисловие автора, кажется, что под ним могла стоять и подпись Брюллова. Каким чутким должен был быть чужеземный художник, чтобы уловить потребность итальянского общества именно в те годы в изображении героев безымянных, народной толпы, а не царей и прославленных героев! В основе романа Манцони лежит та же идея, что и в основе брюлловской картины: маленький человек перед лицом слепой стихии, сохраняющий в самых жестоких испытаниях высокие нравственные понятия. Только у Манцони вместо испытания извержением вулкана – испытания тридцатилетней Мантуанской войной, голодом, чумой. Созданная им картина миланского чумного лазарета с 16 000 зачумленных по ужасу своему стоит гибели Помпеи. Вот строки из предисловия автора: «Подвиги Государей и Властителей, равно и выдающиеся персоны – ничтожеству моему неуместно подниматься до таких предметов и столь опасных высот, пускаясь в Лабиринты Политических козней и прислушиваясь к громам победной Меди, но, осведомившись о достопамятных происшествиях, хоть и приключились они с людьми подлородными и мизинными, я собираюсь оставить о них память Потомкам…»
Читаем дальше. И снова то, что находим у итальянского писателя, оказывается воплощенным в картине русского художника: «Но вместе с тем зрелище того, как мужественно эти люди выносили подобное бремя, может служить неплохим примером той силы и уменья, какие во всякое время, при всяком порядке вещей умеет обнаружить подлинное человеколюбие». Далее. Как будет делать и Брюллов в «Помпее», Манцони не только основывает повествование на действительных исторических событиях, но и вводит в роман отрывки из хроник, указов, документов, приводит свидетельства историков XVII века Д. Рипамонта и Ф. Ривола. Многие герои романа имеют исторические прообразы – как, скажем, группа Плиния с матерью в картине Брюллова. Гете замечает, что иногда Манцони «внезапно снимает с себя облачение поэта и на длительное время делается историком… В качестве историка он преисполнен чрезвычайным уважением к подлинной реальности». Манцони не просто уважает достоверность, в письме к отцу Массимо, маркизу Чезаре д’Адзельо, он пишет, что главная задача поэзии – правда, а лучшие сюжеты – те, что способны заинтересовать большинство современников отголосками пережитого. Наконец, по его страстному убеждению, история должна быть открыто обращена к сегодняшнему дню: «История, поистине, может быть определена, как славная война со Временем, ибо, даже отбирая из рук его года, им плененные и даже успевшие стать трупами, она возвращает их к жизни, учиняет им смотр и заново строит их к бою». Строит к бою – иными словами говоря, воскрешенные волею историка, поэта, художника, минувшие события, прошлое участвуют в сегодняшней борьбе.
То, до какой степени тогда в Италии самая широкая публика воспринимала уроки истории в непосредственной связи с настоящим днем, прекрасно уловил Бальзак. В повести «Массимила Дони», написанной после посещения Милана, есть такой примечательный эпизод. В миланском театре дают «Моисея» Россини. Тема оперы – стремление иудеев вырваться из неволи – созвучна самым сокровенным переживаниям миланцев. Молитву освобожденных евреев зал бурно требует повторить. «Мне кажется, будто я присутствовал при освобождении Италии», – так у Бальзака размышляет миланец, а римлянин восклицает: «Эта музыка заставляет поднять склоненную голову и порождает надежду в самых унылых сердцах».
В брюлловской интерпретации трагедии Помпеи не меньшую роль, чем живые итальянские впечатления, сыграли и размышления о судьбе своей собственной родины. Он никогда не прерывал с нею связи, иногда приступы ностальгии охватывали его, и тогда он писал домой: «Но нам вдалеке от родины, от друзей, от всего, что делало нас счастливыми в продолжение 23 лет, каково нам – вы, может быть, после сего письма и будете уметь вообразить себе. Ни сосенки кудрявые, ни ивки близ него. Ноты пускай Мария напишет. Хотя здесь вместо сосен растут лавры и вместо хмеля – виноград – все мило, все прелестно! – но без слов, молчат и даже кажется все вокруг умирающим для тех, кто думает о родине». А Александр в 1829 году делится с отцом итогом своих размышлений: «Чем более я вижу людей, народы и состав их, тем более я должен любить свое отечество».
В 1831 году, в самое напряженное время работы над «Помпеей», Брюллов снова едет в Неаполь. Там судьба впервые сводит его с Глинкой, молодой композитор сам ищет встречи с художником. Они сразу – и надолго – подружились. Глинка был в тяжелом душевном состоянии. Еще не изгладились в памяти события 14 декабря. Он сам был тогда на Сенатской площади, провел там несколько часов. Карл впервые из уст очевидца слышал описание кровавых событий. Они говорили об этих замечательных людях, декабристах. Ведь декабристы – первые во всем мировом освободительном движении – не искали благ для сословия, из которого сами вышли. Они явили собой пример высокого бескорыстия. Почти все они принадлежали к богатой аристократии, то есть как раз к тому классу, против которого призывали выступить. Ратовали за то, чтобы от них самих и от им подобных было отобрано позорное право человековладения. Они отдали свои жизни не за то, чтобы своему сословию нечто «приобрести», напротив, – за право «отдать»…
Рассказывал Глинка и о новом царе. Все, что было в России косного, все осталось нетронутым. Всех-то реформ, что отменены наказания кнутом, зато двухвостая плетка заменена трехвостой… Первый же год правления Николай Павлович отметил учреждением тайной полиции – Третьего отделения. Верховная власть неотвратимо давила Россию. Да и не только Россию. Глинка только что проехал по Польше, в которой жесточайшим образом задавлено освободительное движение. Работать, творить на родине делалось все труднее. В 1826 году царь ввел новый цензурный устав, который остряки прозвали «чугунным». Насаждать, культивировать в обществе «мыслебоязнь» – вот его откровенная цель. Манифестом 12 мая 1826 года Николай объявил злонамеренными даже слухи об освобождении крестьян. Вновь начались в России бесконечные аресты. Слепая сила, неотвратимая, как стихия, как потоп, как землетрясение, как извержение вулкана, распоряжалась судьбами людей.
Рассказывая новому другу о печальных событиях, Глинка напевал своим проникновенным тихим голосом романс свой на стихи Батюшкова: «О память сердца! ты сильней рассудка памяти печальной…» Он сочинил его вскоре после того, как петербуржцы содрогнулись от зрелища виселиц на кронверке Петропавловской крепости. Тем летом 1826 года весь город был окутан дымной мглой, горели окрестные леса – сама природа словно возжигала факелы по убиенным… В романсе звучала и безысходная тоска, что овладела тогда сердцами русских, и обещание, что не забывается ничего из того, что остро ранит человеческую душу.
Слепая стихия, отнимающая человеческие жизни, – эта мысль все четче оформлялась в воображении Карла Брюллова. Вместе с нею, в неразрывной слитности – другая: в самых тяжких испытаниях истинный человек сохранит достоинство, честь, высокие нравственные понятия. Обе эти мысли, сплетенные воедино, лягут в основание «Помпеи».
Все искания предшествовавших лет, все волновавшие художника мысли, сама действительность России и Европы слились воедино, натолкнув Брюллова на этот замысел. Взрывы народного возмущения в Европе обращали мысль к драматическим коллизиям. Гибель декабристов, как и последовавшее за нею усиление верховной власти, заставляли задуматься об извечном конфликте между правящей властью и народом. К изображению народа звал и романтизм. Романтики широко ставили в своем творчестве проблемы – человек и стихия, человек и закон, человек и общественная среда. Во множестве произведений романтиков причина людских страданий видится в антагонизме личности и существующего общественного строя, в трагической несовместимости свободной воли индивида с государством, со стихийными силами природы, с обывательской средой. Общественные потрясения, крутые повороты, неизбежные в истории человечества, часто становятся темой романтических произведений. К 1831 году относится стихотворение Тютчева «Цицерон», в котором замечательный поэт утверждает, что, несмотря на тяжесть испытаний, выпадающих на долю современников роковых моментов истории, благодаря величию событий сами очевидцы обретают бессмертие:
Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые:
Его призвали всеблагие,
Как собеседника на пир;
Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил.
Жители древней Помпеи действительно гибелью своей заслужили бессмертие. Когда Брюллов после поездки в Помпею делает свой первый эскиз будущей картины, руки его еще хранят прикосновение к стенам помпеянских домов, шершавых от накипевшей лавы. В памяти зрения жива перспектива улиц, пустых и мертвых, с руинами храмов, гробниц. Казалось, давно минувшие страдание и боль передались ему, когда он перебирал украшения, шкатулки, чаши, кувшины, которые носили, из которых утоляли голод и жажду погибшие, но еще так жаждавшие жить помпеяне. Память сердца сохранила тот миг, когда он глазами воображения увидел смятенную толпу, блеск молнии, рушащиеся громады зданий. Уже в самых первых эскизах точно определено и место (улица Гробниц, перекресток усыпальницы Скавра и сына жрицы Цереры), и момент действия. Удачный выбор момента был отмечен многими современниками: «Вдруг, посреди бегства, раздается над ними грозный, оглушительный удар грома… Они останавливаются и, пораженные ужасом, смотрят на небо, как бы страшась, чтобы оно не обрушилось на их головы. Прежний их страх подавляется новым и образует некоторый промежуток в их положении: эту минуту избрал г. Брюллов», – писал итальянский критик Висконти. Подобный выбор момента – некая остановка в действии, ожидание разрешения коллизии – вносил в картину элемент временного развития сюжета: зритель мог себе представить, что было и что будет после изображенного мгновения.
Какой бы пылкой и услужливой ни была игра воображения, одного его было мало художнику. Он хочет быть достоверным. Не хочет измышлений, которые так легко и незаметно порой переходят в ложь. И Брюллов с головой уходит в изучение источников, которые помогли бы ему с возможной полнотой представить событие, свершившееся 24 августа 79 года до нашей эры, когда под извергнутой Везувием лавой был погребен город и две тысячи горожан. В этом своем стремлении к исторической достоверности Брюллов тоже не был одинок. Вспомним Манцони. Вспомним Массимо д’Адзельо. Вспомним, как Гюго, задумав «Собор Парижской богоматери», собирал материал три года, изучал старинные парижские здания Людовика XI, прочел кучу исторических трудов, хроник, хартий, описей, грамот. А работая над знаменитой драмой «Кромвель», предисловие к которой стало манифестом европейского романтизма, изучил около ста книг. Вспомним, что Бальзак, начав в 1834 году роман «Поиски абсолюта», где героем выступает химик-изобретатель, идет «в обучение» к двум членам Академии, чтобы они помогли ему овладеть основами химии. Вспомним Пушкина, который для «Бориса Годунова», «Капитанской дочки» и других исторических замыслов погружается не только в изучение печатных исторических трудов, но и архивных материалов.
В первую очередь Карл берется за исторические источники. Он читает письма Плиния Младшего к римскому историку Тациту, в которых тот описывает гибель своего дяди во время извержения Везувия и свои собственные переживания в Мизене. Брюллов понимает достоверность творчески, перенося в картину о гибели Помпеи сцены, произошедшие тогда же в Мизене, отстоящей от города на 80 миль. Вот что он прочел в письмах Плиния: «Был уже первый час дня: день стоял сумрачный, словно обессилевший. Здания вокруг тряслись… Огромное количество людей теснило нас и толкало вперед… В черной страшной грозовой туче вспыхивали и перебегали огненные зигзаги, и она раскалывалась длинными полосами пламени, похожими на молнии, но большими… Тогда моя мать стала умолять, убеждать, наконец, приказывать, чтобы я как-нибудь бежал: юноше это удастся; она, отягощенная годами и болезнями, спокойно умрет, зная, что не оказалась для меня причиной смерти». И еще один отрывок, послуживший Брюллову основою композиции: «Мужчины, женщины и дети оглашали воздух воплями безнадежности и жалобами, причем кто звал отца, кто сына, кто отыскивал затерявшуюся жену; тот оплакивал собственное несчастье, другой трепетал за друзей и родных; нашлись люди, призывавшие на помощь смерть из опасения умереть! Некоторые громко кощунствовали, утверждая, что богов уже нет нигде, что настала последняя ночь для вселенной!» Именно те, кто «трепетал за друзей и родных», а не за самих себя, станут главными героями художника. Не только подробное описание Плиния помогло Брюллову. В одной из групп картины художник изобразит его самого с матерью, и это будет самая драматическая и выразительная сцена всего полотна.
В поисках достоверности художник обращается к материалам археологических раскопок. Некоторые фигуры он изобразит потом точно в тех позах, в каких были найдены в застывшей лаве скелеты жертв разгневанного Везувия: мать с дочерьми, упавшую с колесницы женщину, группу юных супругов. Почти все предметы быта, которые мы увидим в картине, писаны Брюлловым с подлинных, хранившихся в Неаполитанском музее.
Итак, изучено описание события. Избрано и закреплено в этюдах с натуры место действия – улица Гробниц. Сделано множество набросков. Примерно сложилось представление, какие и сколько групп должны составлять картину и как их нужно расположить. Наконец, готов эскиз будущего полотна. Казалось бы, можно спокойно делать картон – большой рисунок углем – всей композиции, потом расчертить его на квадраты и переносить на холст. Но художник все недоволен. Возникает новый эскиз. Затем еще один, и вот около десятка раз Брюллов перестраивает композицию. Перегруппировывает сцену. Заменяет одни группы другими. Меняет состав групп, перемещает их с места на место, варьирует позы, движения, жесты, состояние героев. От эскиза к эскизу замысел очищается от случайного, шлифуется. Набирает силу, выразительность. Растет емкость образов. Усиливается естественность телодвижений.








