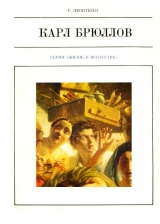
Текст книги "Карл Брюллов"
Автор книги: Галина Леонтьева
Жанры:
Искусство и Дизайн
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 29 страниц)
Вокруг живых натурщиков в классе стоят слепки с античных скульптур. По ним в течение стольких лет изучали воспитанники строение человеческого тела, мудрую взаимосвязь всех сочленений. И теперь, рисуя этих живых Ивана и Петра, то ли гаванских огородников, то ли мастеровых (по преимуществу из них набирались натурщики), которые после урока облачатся в свои поддевки и сапоги, надобно поглядывать и на слепки: ежели что-то в их фигурах отошло от совершенства форм и пропорций, нужно подправить с оглядкой на антики. Так положено. А то зайдет в класс Алексей Егорович Егоров и, поглядев на рисунок, скажет скорым своим говорком: «Что, батенька, ты нарисовал? Какой это следок?!» – «Алексей Егорович, я не виноват, такой у натурщика…» – станет оправдываться растерявшийся ученик. «У него такой! вишь, расплывшийся, с кривыми пальцами и мозолями! Ты учился рисовать антики? должен знать красоту и облагородить следок… Вот, смотри-ка…» – возьмет в руки карандаш и быстрыми ловкими движениями «одарит» Ивана или Петра ступнею Антиноя.
А вот и он – плотный, мускулистый, небольшой, в грязноватом жилете и такой же ермолке входит в класс, медленно проходит меж рядами рисующих. Академисты всегда ждали прихода Егорова в класс. Дежурные преподаватели обыкновенно редко подходили к ученикам, еще реже – давали объяснения, еще реже – поправляли рисунок. Бывало, увидит юный художник в конце месяца на своей штудии какой-нибудь 52-й номер и долго недоумевает, за какие ошибки впал в такую крайность. Не таков был Егоров. Добродушие и строгая взыскательность уживались в нем удивительнейшим образом. Его суждение, суждение блестящего рисовальщика, было для студентов очень веским. Еще много десятилетий не умолкнут в стенах Академии легенды о том, как, будучи пенсионером в Италии, он поражал художников всех стран виртуозным рисованием – начав с пятки, безошибочно завершал всю фигуру. Был он к тому же страстным патриотом. Как пишет дочь скульптора Федора Толстого, писательница Каменская, «легко относиться про Россию при себе не позволял…» Останавливаясь за спинами рисующих, он подчас не только поправлял текущую работу, а и просил показать готовые. Иногда при этом слышался его голос, обращенный к пунцовому от смущения ученику: «Что, брат, кажется, в эту треть Брюллов хочет дать тебе медаль?» Ни для кого из учителей не было секретом, что Карл то за ситник с икрой, то за булку с медом, а то и так, по сердечной склонности, поправляет работы своих однокашников.
Двух натурщиков, что сегодня начали ученики третьего возраста, Карл закончит блестяще. Безукоризненное знание анатомии, совершенство светотеневой моделировки, красота и упругая энергия штриха принесут ему первую серебряную медаль. В число лучших, образцовых академических работ будет включен этот рисунок. Но дело не только в выполнении академических установлений. Группа мастерски решена как единое целое. Контур поражает артистичной чеканностью. Конечно, тут учтены общепринятые тогда правила – натурщики заботливо избавлены от природных несовершенств. Но если у большинства сидевших рядом с Карлом академистов фигуры русских мужиков уж очень назойливо вынуждают вспомнить античные слепки – у некоторых с первого взгляда не различишь, с живой натуры или с гипса сделан рисунок, – то в брюлловской работе ощущается земная жизненная сила, его натурщики – прекрасные, совершенные, но живые люди. Эту редкую для академиста способность Карла приметили уже тогда. Младший его современник, А. Сомов, пишет: «Брюллов в юношеских упражнениях своих выказывал нечто большее, чем простое знание академического рисунка: он умел придавать формам человеческого тела не условную правильность, а жизнь и грацию, дотоле незнакомые ученикам Академии».
Одаренностью Карл выделялся еще в Воспитательном училище. Он постоянно обгонял своих сверстников, шел впереди них. Когда его одноклассники корпели над копиями с оригиналов, за ним ежедневно приходил сторож и вел его коридорами из оригинального класса в гипсовый: ему, достаточно подвинутому в копировании, дозволялось рисовать с гипсов вместе с учениками старшего возраста. Как потом скажет его учитель, Андрей Иванович Иванов, «с самого детства Брюллова в Академии все ожидали от него чего-то необыкновенного…» Старшие ученики смотрели на мальчика, как на маленькое чудо. Вместо подзатыльников, которыми они обычно щедро награждали путающихся под ногами малышей, его всячески баловали, таскали из класса в столовую на собственных плечах. Не кто иной, как Карл написал распятие, которое украшало аналой в академической церкви и перед которым отправлялись ежедневно утренние и вечерние молитвы. Не кто иной, как он поправлял рисунки товарищей. Он же – заводила в шалостях и проказах, он же играл в академическом театре и писал декорации для него. Вскоре ему, единственному среди всех учеников третьего возраста, дозволят работать не только над гипсом и натурными постановками, но и над собственными композициями. К тому же Карл достаточно начитан, свободно говорит по-немецки, знает французский, прекрасно владеет русской речью (дома иным языкам учили, но говорили в семье по-русски). Уже теперь он умеет говорить образно, картинно, вдохновенно. Стоит ли удивляться, что вскоре Карл Брюллов становится авторитетом, даже в некотором роде наставником для своих однолеток. Он, благодаря таланту и развитому уму, будто много старше своих сверстников…
А главное, конечно, – успехи в учении. При всем разнообразии увлечений, Карл обладал редкой целеустремленностью и упорством, каким-то страстным терпением, когда речь шла о любимом деле. Ему не приходилось себя неволить – истинное, ни с чем не сравнимое наслаждение дарили ему белизна бумаги, мягкая податливость угля, серебристость итальянского карандаша. В протоколах Совета Академии с 1812 по 1821 год многократно встречается имя Брюллова. То его рисунки «определено отдать в оригиналы», чтобы по ним учились вновь поступающие, то он получил очередную медаль. Запись от декабря 1818 года – Карл удостоен золотой медали второго достоинства. От декабря 1819-го – ему вручена золотая медаль «за экспрессию» (за композицию «Уллис и Навзикая»).
Он уже тогда начал «выходить» из ряда обыкновенных, заурядных людей. И уже тогда стал смутно ощущать, что ему и дозволяется больше, чем прочим. Однако первый урок «дозволенности», полученный в раннем детстве от отца, обретал теперь иной смысл. Ему и впрямь позволяли больше других. Учителя сквозь пальцы смотрели на то, что он манкировал науками – правда, во имя художеств. Ему дозволялось, со ссылкою на болезнь, много времени пребывать в лазарете, вовсе пропуская занятия. Он и действительно много болел, но нередко сваливал на золотуху приступы «Фебрис Притворялис», чтобы получить свободу рисовать в лазарете портреты товарищей. Ему прощались шалости и непослушание, которые никому не сходили с рук. Такая поощрительная атмосфера развивала в юноше независимость поведения, а затем и взглядов – вопреки общей системе воспитания покорности. Успехи – и их всеобщее признание – рождали уверенность в себе. Воспитанный дома в смиренном уединении, его характер перекраивался, перековывался на глазах. Еще тогда, в юности, прорастала и крепла в нем та нравственная сила, которая в грядущем позволит ему быть равнодушным к предрассудкам толпы, к пересудам и капризам молвы, даст внутреннее право на независимость по отношению не только к сановникам и вельможам, но и самому царю…
В одном возрасте с Карлом числились Александр Фомин, Николай Ефимов, который станет потом заурядным архитектором, Федор Бруни – все одногодки; Яков Яненко – годом старше. В те же годы в Академии учились Федор Солнцев, ставший художником-археологом, и Федор Иордан, известный гравер на меди. Оба оставили нам воспоминания – о годах ученичества, о Брюллове. Фомин, хоть и не блиставший талантами, но с детства мальчик добрый и отзывчивый, станет потом, особенно в последние, самые тяжкие годы жизни, душевно близким Брюллову человеком. Именно ему поручит Карл ведение своих дел в Петербурге, именно от него полетят в Италию к безнадежно больному художнику нежнейшие, теплые письма со словами надежды и утешения. С Ефимовым, человеком пренеприятным и к тому же сомнительной репутации, Карл, как ни странно, близко сойдется в пенсионерские годы на чужбине, с ним отправится и на Восток. Яненко, юноша не без способностей, но уже тогда разгильдяй и ленивец, а позднее – кутила и бретер, станет в свое время непременным участником кружка Глинки, Кукольника, Брюллова и своими шутовскими выходками даст неистощимую пищу карикатуристу Н. Степанову. С Бруни Карл прошел бок о бок целых девять лет – тот уедет в Италию до конца курса, в 1818 году. Когда Брюллов получал первые номера за рисунки, следом обычно шел Бруни. Иногда случалось и наоборот. Человек несомненно очень одаренный, Бруни уже тогда отличался от Карла и темпераментом, и способом работы; потом эта разность выльется в различие мировоззрений. Сквозь отточенную безукоризненность в рисунках Бруни сквозили сухость и педантизм. У Брюллова – бьющая через край жизненная сила, кипучий темперамент. Вся жизнь Бруни пройдет в рамках строгих установлений. Он создаст классический образец русского классицизма – «Смерть Камиллы, сестры Горация». Он дослужится до ректорского звания. Он будет советником царя по картинной галерее Эрмитажа. Карл Брюллов же всю жизнь будет выходить за рамки общепринятого – и в творчестве, и в обыденности. Когда он получит в Италии орден Св. Владимира, он отложит царский дар и ни разу не вденет его в петлицу фрака. А Бруни по такому же поводу закатит пир для всех пенсионеров, и все же единственный из сверстников, у которого, глядя на его рисунки, Брюллов мог что-то позаимствовать, в чем-то проверить себя, был именно Федор Бруни.
Со сверстниками Карл делил забавы и досуг. Настоящими же друзьями стали для него в стенах Академии другие люди. В первую очередь, конечно же, любимый брат Федор. Пока Карл был малышом, Федор, будучи много старше, по-отечески опекал его: заходил в классы, прибегал в рекреационные часы. Теперь – иное. С ним можно говорить обо всем: о пустяках и о самом главном, о художестве. Ему можно поведать о том впечатлении, что произвел сегодня любимый Веласкес или Рубенс, увиденный в Эрмитаже или в Строгановской галерее, и получить точный, чисто художественный разбор малейших неточностей в своем рисунке. Поделиться тайной влюбленности в дочь учителя, юную Марью Андреевну Иванову, и выслушать наставление, как следует избегнуть в этюде губительной черноты. С Александром тесная дружба придет позднее, в итальянском вояже.
Пожалуй, ближе всех сошелся Карл с Рабусом, тоже Карлом. Большого художника из него не вышло, как, впрочем, из большинства сотоварищей Брюллова. Но Рабус был предан искусству всей душой. Он был из тех натур, которые одержимы страстней жаждой познания. Именно он приносил в Академию все новинки текущей литературы. Уже в юности начал собирать свою превосходную библиотеку. Постепенно в нем развилась склонность к истории, а после и к философии. Не зря же он потом подружится и будет в переписке с самым философским из русских художников – Александром Ивановым… Когда Брюллов будет писать выпускную программу – «Явление Аврааму трех ангелов у дуба Мамврийского», их мастерские разместятся рядом, дверь в дверь. В постоянном общении, совместных разговорах, обоюдных советах пойдет работа.
Сегодня у учеников третьего возраста обычный учебный день. Кроме специальности в расписании значится российская словесность и анатомия. В классе настороженная тишина, все замерли на местах – Егора Матвеевича Предтеченского очень не любили и столько же боялись: в случае провинности он с постыдным удовольствием сам сек ученика. «Предтеченский ничего не делал, у него была засевши какая-то мысль, которая с ним и осталась неразгаданною… он носил на себе отпечаток тупоумия и с ним гордости», – рассказывает Иордан и присовокупляет: «Нас же ничему не учил…» Нынче урок прошел без экзекуций. Дребезжит колокольчик, и юноши устремляются в анатомический класс. Эта дисциплина, как бы пограничная между науками и искусством, была любимой. Особенно из-за учителя – адъюнкт-профессора Медико-хирургической академии Ильи Васильевича Буяльского. Сам блестящий хирург, «оператор всех военно-учебных заведений», паталого-анатом, он очень интересно вел свой предмет. Как раз он указал профессору Шебуеву на ошибки, которые тот допустил в серии рисунков, сделанных специально для курса анатомии, или «антропометрии», как любил говорить Шебуев. И заслуженный профессор не погнушался все переделать по замечаниям врача. На уроках Буяльский не только требовал зубрежки мускулов, костей и сухожилий, а постоянно указывал будущим художникам, как действуют на те или иные группы мышц душевные движения человека. Вот и сегодня, показывая ученикам эстамп с «Мадонны» Рафаэля, он красноречиво разъясняет, что писана она с юной девушки, ибо у женщины зрелой, замужней, верхняя губа обретает линию плавную и закругленную, тут же губа очерчена остро и чуть угловато. С жаром убеждает молодых людей, что не было бы у Рафаэля великой славы, если б не был он таким знатоком тайн анатомии… После лекции все взялись за карандаш – на анатомии полагалось в течение курса нарисовать скелет и мускулы с разных сторон – в фас, сзади и сбоку.
Специальные дисциплины, помимо Егорова, вели в классе Карла Василий Кузьмич Шебуев и Андрей Иванович Иванов. Преподавание велось по строго разработанной системе: и в смысле последовательности заданий, и в отношении правил самого изображения натуры, которые Егоров считал такими же четкими и незыблемыми, как законы математики. Именно исходя из этого он любил повторять, что при желании можно научить рисовать и корову… Последовательность – проста: сначала рисунки с оригиналов (прежде с натюрмортов, с фигурных – потом), затем с гипсов. После этого – с манекенов, «замаскированных» под людей, – это как бы переход от гипса к живому человеку. И только потом – живая натура. Уже на этом этапе ученики должны так «вызубрить» строение тела, чтобы уметь нарисовать фигуру в любом ракурсе без всякой натуры. Кстати, потом большинство исторических живописцев, даже Бруни, так и будет делать: натурою для своих композиций почти не пользоваться, а жить багажом, накопленным в Академии. Брюллов, как увидим, будет поступать иначе. И далеко не последнюю роль в этом сыграл его непосредственный наставник – профессор Иванов. Его метод обучения несколько отличался от егоровско-шебуевского. Иванов полагал, что все же главное для художника – сама натура, а не свод правил, по коим ее надобно воспроизводить, хотя, разумеется, и правила должны быть соблюдены. Он шел и на большую «крамолу» – требовал, чтобы ученик вначале рисовал натуру, как она есть – «с видимыми недостатками в оной». И лишь потом, в соответствии с замыслом, «давал в рисунке некоторый идеал тому, что задумал изобразить». У Иванова в классе уж не спутаешь рисунок с гипса с рисунком с натуры. Он даже иногда ставил – для разительности – постановки из гипсовой статуи и живого натурщика, требуя, чтобы были непременно переданы материальные свойства мертвого гипса и теплой кожи человеческого тела.
Иерархия дисциплин в Академии тоже была ясно определена – на первом месте рисунок, основа изображения, потом «сочинение», композиция, и на последнем – живопись. Так же безоговорочно из шести специальных классов – исторического, батального, портретного, ландшафтного, перспективного и миниатюрного, пальма первенства отдавалась историческому.
В живописи главным считалась светотеневая моделировка. Эмоциональное воздействие цвета почти не учитывалось. Придет ученик в класс – а ему уже заготовлена палитра: изволь уложить живую модель в прокрустово ложе нескольких цветов, выбранных учителем. Учеников обучали, что светотень не только в рисунке, но и в живописи – основа. К тому же копировали академисты со старых полотен, где под слоем лака стушевалось богатство цветовых валеров. И правда, получалось, что основное – это контрасты подцвеченного светлого и темного. Цвету, могучей силе живописного искусства, отводилась роль простой подцветки. Да и времени на самое живопись отводилось не бог весть как много. Последнюю отметку за живопись Карл Брюллов получил в 1819 году. Оставшиеся два года заданий по живописи не было, если ученик что и делал для себя, то профессор не обязан был смотреть, а если и смотрел, то отметками не оценивал.
«Сочинение», композиция, тоже рассматривалось в Академии прежде всего как свод неизменных правил, выведенный из изучения старых мастеров. Чтобы получить высшую оценку, академист должен: соблюсти равновесие масс, построить отдельные группы в виде треугольника, выделить главного героя, развернуть действие на узкой полосе переднего края картины – как в скульптурном барельефе. Надо отдать справедливость Иванову – он и тут стремился чуть отойти от строгих этих правил. Он полагал, что можно задавать ученикам любую тему – пусть это снова будет Ахиллес или Аякс, писанные и переписанные всеми академиями Европы. Но пусть-ка они избитую тему попробуют сделать по-своему, пусть попробуют сцену из мифа или Библии изобразить так, словно бы она произошла в обыкновенной человеческой жизни. Переоценить эти отклонения Иванова от общепринятого трудно – Карл как губка впитывал наставления учителя.
Преподавание в Академии велось в строгом соответствии с господствовавшим тогда в России художественным направлением, имя которому – классицизм. Взращенный идеями французских просветителей, этот возвышенный стиль победно шествовал по всему континенту, завоевывая себе во всех странах Европы все новых сторонников. Когда Карл еще лежал в колыбели, на том краю Европы, в далеком Париже, вождь французского классицизма Жак Луи Давид устроил для граждан платную выставку своей новой патриотической картины «Сабинянки». Пророчески звучали слова написанного им пояснения к картине, которое он сам читал посетителям: «Античность не перестала быть для современных художников великой школой и тем источником, в котором они черпали красоты своего искусства. Мы стремимся подражать древним мастерам в гениальности их замыслов, чистоте рисунка, выразительности лиц и изяществе форм. Но разве не можем мы сделать еще один шаг вперед и начать подражать их нравам, их установлениям, чтобы довести искусство до такого же совершенства, как они?» Словно над колыбелью Карла – и всего его поколения – звучал этот гимн античности. В преклонении перед нею, в изучении ее создании пройдут детские и юношеские годы Брюллова. Да и в последующем, даже тогда, когда он, опять-таки вместе со своим поколением, перерастет классицизм, отзвуки этого направления надолго сохранятся в его творчестве.
Идеи классицизма растолковывали ученикам учителя. Те же идеи вычитывали академисты на страницах журналов, будь то «Журнал изящных искусств», карамзинские «Московский журнал» и «Пантеон» или бестужевский «Санкт-Петербургский журнал», в котором принимал участие сам Радищев. Знаменитый поэт Батюшков часто бывал в те времена в стенах Академии. Обращаясь к воспитанникам, он постоянно говорил о том, что античное искусство «есть, так сказать, отголосок глубоких познаний природы, страстей человеческого сердца… Вот источник наших познаний, богатство, на котором основаны все успехи бывших, настоящих и будущих воспитанников». Однако уже тогда, в первые годы нового века, все отчетливее – и в журналах, и в отдельных сочинениях – звучат мысли о том, что взор творца должен обратиться к национальной истории. Сама жизнь развила эту идею еще дальше: героика Отечественной войны обратила воображение поэтов и художников к героям сегодняшнего дня. Еще глубже трактует проблему Александр Тургенев, впоследствии друг Пушкина, добрый знакомый Брюллова. Он считает, что главное при выборе сюжета – прославление духа свободомыслия и тираноборчества: «Признаюсь, что и меня порадовала счастливая мысль наших патриотов задавать академическим художникам предметы из отечественной истории. Давно бы пора нашим артистам вместо разорения Трои представить разорение Новгорода; вместо героической той Спартанки, радующейся, что сын ее убит за Отечество, представить Марфу-Посадницу, которая не хочет пережить вольности новгородской».
И вот одно за другим возникают произведения, прославляющие национальных героев. Большею частью они рождаются тут же, в стенах Академии. Покуда Брюллов и его ровесники ступень за ступенью овладевают тайнами мастерства, радуются медалям, горюют над последними номерами за рисунок, играют в лапту, чинно проходят по коридорам на утреннюю молитву или в рекреационный зал, за закрытыми дверьми мастерских, выходящих в эти же коридоры, в тишине и уединении, их учителя и старшие товарищи создают свои произведения. Еще в 1805 году перед публикой предстал «Дмитрий Донской на Куликовом поле» Ореста Кипренского. Четыре года спустя, в год поступления Брюллова в Академию, – «Марфа Посадница» Д. Иванова. Профессор А. Иванов заканчивает «Битву Мстислава Удалого с половецким князем Редедею», а в 1814 году пишет «Подвиг юного киевлянина» – одно из лучших созданий русского классицизма. В том же году восторженное признание публики получил «Русский Сцевола» Демут-Малиновского, скульптура, в которой возвышенным стилем воспевается подвиг простого русского крестьянина в войне с Наполеоном. Тут же, в своей академической мастерской, Мартос работал над замечательным памятником Минину и Пожарскому. Видели академисты и блестящую серию медалей в честь победы, исполненную активным членом декабристского «Союза благоденствия», масоном, графом Федором Толстым.
Все это Брюллов и его товарищи могли видеть не только в выставочном зале, а и в процессе работы: отношения между старшими учениками и учителями в Академии были еще в те времена патриархальными, и воспитанники нередко допускались в святая святых – мастерскую учителя. Им воочию становилось ясно, как важно, оказывается, не только то, что изображать, но и как, во имя чего. И пусть русская живопись не дала в классицизме таких блестящих образцов, как в архитектуре и скульптуре, высокие идеи, воплощенные в творениях искусства, целиком захватывали молодые умы. Ведь герой, согласно постулатам классицизма, должен быть непременно благороден, возвышен, честен, самоотвержен: «Непременно надобно, чтобы художества проповедовали нравственность и дух народный» (Писарев). Действительно, возвышенные идеи классицизма оказывали прямое воздействие на нравственную атмосферу эпохи. В немалой мере на этих идеях были воспитаны героическая жертвенность, самоотверженность декабристов и всего их замечательного поколения. Далеко не последнюю роль играло искусство классицизма в том, что возвышенные идеи вкоренялись в общество, что среди лучших его представителей было тогда принято, если угодно – даже «модно», иметь возвышенный образ мыслей, быть благородным, готовым на крайние жертвы во имя блага отечества. И хоть многие передовые литераторы уже во второй половине 1810-х годов начнут в своем творчестве преодолевать классицистические формы, искать новых путей, но верность вскормившим их высоким принципам они сохранят до конца дней.
«Черты героизма и гражданских добродетелей, показанные народу, потрясут его душу и заронят в нее страстное стремление к славе и самопожертвованию ради блага отечества», – так с пафосом говорил апостол классицизма Давид. А русские отвечали на высокие призывы не только творениями искусства, но и жизнью – и словом, и делом. «Я не имел образа мыслей, кроме пламенной любви к отечеству», – скажет вскоре на допросе декабрист Николай Муравьев, а Вильгельм Кюхельбекер бросит царю: «Говорю вам истину, исполняю святую обязанность ревностного гражданина и не страшусь на нее ни казни, ни позора, ни мучительнейшего заключения». А это – голос Кондратия Рылеева: «Я уверен, что погибнем, но пример останется. Принесем собою жертву для будущей свободы отчизны».
С гибелью декабристов увядает русский классицизм. Ибо этот возвышенный стиль главною задачей полагал воспевание, прославление, утверждение высокого гражданского идеала. В его рамках нет места сомнениям, трагическим раздумьям, отрицанию. Но воспевать и утверждать идеал можно, когда он есть. Пока классицизм был оживотворен возвышенными патриотическими порывами, рожденными Отечественной войной, в пределах его установлений можно было создавать волнующие людей произведения. Когда же жизнь станет иной, начнется пора краха надежд, пора открытой реакции и гонений, когда насущно необходимыми станут как раз сомнения и раздумья, поиски новых путей, классицизм окажется бессильным, он изживет себя. Ибо тогда слепое утверждение угасшего идеала обернется ложью, пустой риторикой, ходульностью омертвевших прописных истин. Вот тогда-то классицизм и выродится в академизм. Как всякая система со строгим сводом правил, он нес свою гибель в себе самом…
В последние три года пребывания в Академии Карл работает особенно много и напряженно. Одну за другой завершает он достаточно сложные композиции – «Уллис и Навзикая», «Нарцисс», «Александр I спасает больного крестьянина», «Гений искусства», «Эдип и Антигона», в технике входящей в моду литографии делает «Дмитрия Донского» и «Ермака», наконец, выпускную свою программу – «Явление Аврааму трех ангелов».
«Гений искусства» (1817–1820), хоть это и однофигурная композиция, к тому же не живопись, а подцвеченный пастелью рисунок, пожалуй, более всего позволяет угадать тогдашнего Карла – юношу, со всей пылкостью сердца увлеченного античностью, классицизмом, уверенного, что искусство и не призвано опускаться до низменности обыденной жизни, а должно являть собою идеал, к которому могут лишь тянуться простые смертные. Глубокой приверженностью к античности он немало был обязан встречам с переводчиком «Илиады» Николаем Гнедичем, с Батюшковым, Жуковским, Крыловым. Как раз в те годы появлялись в печати стихи Батюшкова и Пушкина, созданные в классическом духе на античные мотивы. Тогда еще никому не казалось смешным, что в поэзии полагалось выражаться торжественно и возвышенно. Что экипаж именовался колесницей, щеки – ланитами, что идеалом считалось традиционное сочетание благородного прилагательного с благородным существительным: сладостный мир, целомудренная любовь, святая и чистая дружба. Язык, как и способы изображения в картине или статуе, был отлакирован, упорядочен и стоял в величественной неподвижности. Брюлловский «Гений искусства» – это гений искусства классицизма. Прекрасный и величественный, в неподвижности, отдающей вкусом вечности, восседает он, опершись на лиру. Здесь все – пропорции тела и лица, характер подцветки, устойчивость форм, четкость контуров – решено в полном соответствии с заветами классицизма. Автор как будто вдохнул жизнь в античного бога, находящегося в расцвете юных сил, увековеченного в блистательной, вечной юности. Торс его развернут на плоскости листа фронтально – для более наглядной демонстрации идеала. Тут реальное вытеснено идеальным, частное подчинено общему, сиюминутное – вечному. Гению искусства – как и искусству вообще – в представлении молодого Брюллова свойственны прежде всего идеальная красота, покой, величие. Волнения суетного мира не должны его касаться.
Пожалуй, столь цельного, незамутненного образца классицизма Брюллов больше не создаст. Живая жизнь, живые наблюдения понемногу, исподволь, совсем скоро начнут прорываться в его ученических работах. При всем юношески пылком доверии к догматам классицизма, он постепенно, но неотвратимо подпадает под власть очарования живой природы. Одновременно с академическими программами он все время, и чем дальше, тем больше, рисует для себя. В альбомах мелькают то портрет товарища, то финн с лошадью, встретившийся на улице, то офицер, женская головка, мужская фигура в плаще. Однажды на масленой неделе, лакомясь блинами в доме своего приятеля Николая Рамазанова, он до того был восхищен искусством кухарки, что потребовал ее в гостиную и быстро набросал ее портрет – в фартуке, с встрепанными волосами, с ухватом в руке. Как-то, будучи в гостях у своего покровителя, статс-секретаря Петра Андреевича Кикина, он рисует портрет его маленькой дочери. Личико ребенка ничуть не напоминает излюбленный античный идеал, но Карл вдруг с изумлением замечает, какая особая красота живет в этой милой неправильности черт, сколько поистине прекрасного в простых формах неидеальной и неприкрашенной натуры…
Растущее пристрастие к натуре не могло не просочиться и в академические программы. Если бы не желание попробовать соединить в живом организме картины высокий стиль с прелестью обыкновенной натуры, едва ли он стал бы бегать в Строгановский сад, что на Черной речке, взявшись в 1819 году за написание программы «Нарцисс».
Строгановский сад располагался вокруг большой графской дачи. Там, на окраине города, было в те времена тихо и пустынно. Деревни, огороды, березовая роща, кой-где редкие дачи. Графский сад с тенистыми аллеями был открыт для посетителей – кроме простонародья. В одной из аллей, под вековыми деревьями, стоял античный саркофаг с барельефами, невдалеке белел среди зелени оригинал античной статуи «Точильщик». На одном из спусков к воде высился Нептун – копия с петергофской статуи. У парадного входа в дом красовались копии с антиков – Геркулеса Фарнезского и Флоры. Право же, небольшое усилие – и можно представить себе среди антиков и пышной зелени того прекраснейшего юношу из Фестии, сына реки Кефисса и нимфы Лейриопы, печальный миф о котором рассказывает Овидий в своих «Метаморфозах»… В жаркий день этот юноша, звали которого Нарциссом, нагнулся над ручьем и увидал впервые в жизни свое отражение. Никогда никого не любивший, он влюбился в свое отражение. Любовь к самому себе гибельна, она привела Нарцисса к смерти, а тело его обратилось в цветок… Захваченный поэтичностью древнего мифа, бродил Карл по тихим дорожкам сада. Он еще ничего не рисовал тогда с натуры для будущей картины, нет. Он наблюдал. Он изучал, как пронизывают зелень солнечные лучи, долго смотрел на собственное лицо, возникающее из глубин стоячей воды. Снова и снова вглядывался в игру светотени, причудливо меняющей форму и окраску деревьев, в бездонное небо с мерно плывущими облаками, вслушивался в таинственные, полные затаенного смысла шорохи, шелест листвы, вскрики и щебетание птиц. Ему хотелось здесь, в северных краях, угадать «обаяние воздуха в теплых странах, понять примитивную Грецию, дать себе отчет в удивлении юноши, впервые увидевшего отражение своего лица в воде и пленившегося им, и проникнуть во всю языческую грацию этой метаморфозы», – так он объяснит несколько лет спустя те прогулки по старому саду своему юному другу Григорию Гагарину.








