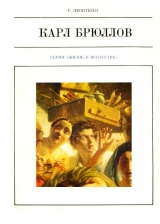
Текст книги "Карл Брюллов"
Автор книги: Галина Леонтьева
Жанры:
Искусство и Дизайн
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 29 страниц)
Еще одна важная задача скрепляла сообщество – «Художественная газета». Струговщиков, который в 1840 году принял из рук Кукольника ее издание, пишет, что сходки имели часто «сподручный для газеты характер». Совместно обсуждались статьи, материалы очередного номера. Озабоченность «братии» делами искусства не исчерпывалась и этим. Как-то раз Брюллов получил от Нестора Кукольника записку, в которой тот сообщает ему, что на такой-то день назначен «осмотр» фронтона Лемера для Исаакиевского собора. Лемер был недоволен, как сделали отливку на фабрике Берда, и теперь должен решиться вопрос, кому передать этот заказ. Считая, что только Клодт может сделать это хорошо, Кукольник просит Брюллова: «Не откажись участвовать в этом визите… Не просят протекции, а только присутствия, потому что авось при тебе не решатся резко делать несправедливость…» Записка эта интересна не только тем, что показывает, насколько близко к сердцу принимала «братия» дела отечественного искусства, но и тем, что обнаруживает, какой высокой репутацией пользовался Брюллов – при нем «не решатся резко делать несправедливость…»
Что и говорить, много доброго, хорошего было в этом содружестве. Если б больше о «братии» нечего было сказать, то тогда Панаева можно определить, как мастера «диффамации собрата», и его свидетельства просто сбросить со счетов. К сожалению, это не так. Помимо тех, кто своим творчеством составлял гордость отечественной культуры – Каратыгиных, Петровых, Степановых, Даргомыжского, помимо таких передовых деятелей, как москвич Грановский, как бывший издатель «Телескопа» Надеждин, помимо этих людей у Кукольников нередко бывали и такие, кому порядочный человек не подал бы в те времена руки. Мало того, что появлялись всеми презираемые Булгарин и Греч или Осип Сенковский – с ним мы еще встретимся, поскольку он с недавних пор попал в число нечаянных родственников Брюллова. Бывали здесь и явные аферисты, игроки, спекуляторы. А что еще хуже – генералы Л. Дубельт, управляющий III Отделением, и Я. Ростовцев, известный в обществе тем, что в свое время донес о готовящемся восстании декабристов. Нередко вечера получались шумными, бестолковыми, невероятно пестрыми и многолюдными – собиралось до восьмидесяти человек. Гости заполоняли всю квартиру, толклись в гостиной, в столовой, где на противоположных стенах красовались друг против друга брюлловские портреты братьев Нестора: Павла, профессора Вильненского университета, и Платона, управляющего делами Новосильцева, и уже по тому, как он исправлял эту должность, пользовавшегося сомнительной репутацией. Все это скопище разных, ничем меж собой не связанных людей суетилось, гомонило, курило так, что к исходу вечера в квартире было не продохнуть. После полуночи люди случайные расходились. В столовой накрывался стол для своих, человек на двадцать. Выходил Нестор и своим характерным говорком на «о» сообщал: «До сих пор была только увертюра, опера начнется потом».
Струговщиков пишет, что все неприглядное, происходившее вокруг «братии», исходило от Платона Кукольника. Он смотрел на гостей брата как на дойных коров, настаивал на приглашении Дубельта или Ростовцева, имея, как он сам выражался, «важную стратагемму». Он наседал на Глинку и брата, чтобы они скорее кончали цикл романсов «Прощание с Петербургом», заключив за их спиной сделку с издателем. Он налегал и на Брюллова, чтобы тот написал портреты его и Павла, – разумеется, «за спасибо»: иметь дома работы кисти Брюллова было выгодно во всех отношениях. Это и создавало в обществе известное реноме, а в случае нужды их всегда можно обратить в звонкую монету. Но даже если главную вину за неприглядные «стратагеммы» возложить на Платона, все равно тень ложилась и на остальных членов «братии» – ведь они, смотревшие на его проделки сквозь пальцы, невольно становились соучастниками его затей, во всяком случае, выглядели таковыми в глазах многих. Немало послужил дурной славе сообщества и непременный член вечеров Яков Яненко. Панаев называет его угодником, шутом, блюдолизом. «Бесталанный художник, грубый, наглый циник… для того только, чтобы хорошо выпить и поесть, готов был пожертвовать всем в угоду кому-либо из патронов, даже женой и дочерью», – такую беспощадную характеристику дает Панаев Яненке.
Понимая, что роль Платона очень уж неприглядна, и Глинка, и Нестор мечтали от него отстраниться. Это осуществилось в 1840 году, когда Нестор переехал в маленькую квартирку у Харламова моста. Здесь можно было работать спокойнее, да и вечера приобрели иной характер. Однако попойки вскоре возобновились в жилище Яненки, которого по просьбе Глинки генерал Астафьев пристроил с семьей на жительство в баню при доме своего родственника, стоящую в густом саду. И Глинка, и Брюллов бывали там чаще, чем нам сегодня хотелось бы, обедали и ужинали с возлияниями в складчину – убивали время, не зная, что осталось его у обоих не так-то много…
1839 год стал для Глинки и для Брюллова годом жестоких испытаний: обоим одновременно выпала на долю тяжелая личная драма. До Глинки дошло, наконец, то, что ни для кого в обществе давно не было секретом – слухи о многочисленных романах его жены. Он ушел из дому. Жил некоторое время у своих приятелей Степановых. Отогревался в кругу «братии» – и в Смольном институте, где через служивших там своих родственников познакомился с одной из классных дам, Екатериной Ермолаевной Керн, дочерью той, кому Пушкин посвятил одно из лучших своих стихотворений. Глинка нежно полюбил эту девушку. И взаимно. Не раз рассказывал ближайшим друзьям о ней, с жаром, словно защищая свое право на любовь, говорил, что «в своей близости к лицу, которое его понимает, артист черпает новую силу». Он положил на музыку пушкинское «Я помню чудное мгновенье…», посвященное ее матери, сам же посвятил Екатерине «Вальс-фантазию». Брюллов, слушая друга, тяжело думал о своем. Одиночество все больше томило его, мысль о том, что одинокий человек в чем-то неполноценен, превращалась порой в род навязчивой идеи. Однажды он поздним вечером гулял по петергофскому парку. Вечер был тихий и теплый. В аллеях пусто и сумеречно. Потом он так рассказывал об охвативших его тогда чувствах, о внезапно блеснувшей великой догадке: «Я думаю, было заполночь, когда я пошел ходить по большой аллее к Марли. Подхожу: домик Петра Великого так хорошо рисуется между зеленью дерев в лунном свете… Смотрю издали и говорю: мило, но что-то холодно… подхожу ближе и вижу, что как в чистом зеркале, все это отражается в озере… Я так и схватился за сердце: как пополняется отражением, подумал я… чудо! Нет, единица не существует! вот оно, дивное соединение… даже человек, один, что такое? жалкое какое-то недоконченное создание… Душа, без души парной, ни цены, ни цели, не имеет…» В другой раз, когда он слушал пение сестер в доме Ростовской, пение в два голоса, он опять заговорил о том же: «Какая странная вещь, что единица в мире не существует! Все прекрасное может быть только, когда одно другим пополняется. И как это чудно и премудро!..» Много лет спустя Федор Михайлович Достоевский заметит в дневнике: «Быть, значит общаться диалектически», «один голос ничего не кончает и ничего не разрешает. Два голоса – минимум жизни, минимум бытия».
Еще не встретившись с будущей своей женой, Брюллов уже был готов полюбить, он страстно желал обрести на земле «парную душу». С горечью вспоминал прежние свои мимолетные увлечения. Единственное светлое за всю жизнь – любовь к Юлии Самойловой. Но как давно это было! А после? Растет в Москве сын Алеша, которого он никогда не видел. (Мы знаем об этом из единственного сохранившегося письма его матери. О ней самой известно лишь, что звали ее Лизой. Судя по тому, что она упоминает имена учителя Витали, мраморщика Трескорни, и самого Ивана Петровича, можно предположить, что она каким-то образом была связана с этим кругом московских художников). И потом, в Петербурге, бывали мимолетные связи, не задевавшие души, с женщинами, не просто далекими от того идеала, который он составил в своих портретах, но порой прямо противоположными ему. Обеспечивая их будущность деньгами, он расставался с ними с облегчением. Не раз приходилось тратить усилия на то, чтобы отвергать любовные притязания иной светской дамы, желающей завести роман со знаменитым художником – ведь это стало так модно в Европе… Ничего, кроме мутного осадка в душе, все эти истории не давали. И вот в один прекрасный день – кто знал тогда, что этот день потом окажется самым черным – в доме профессора Зауервейда он встречает юное, прелестное существо – Эмилию Тимм. От нее веет чистотой, юной свежестью чувств. А когда она садится за рояль и обнаруживается, что она к тому же прекрасная музыкантша, Брюллов не сомневается больше – это та, которую он ждал всю жизнь, его «парная душа». Действительно, Эмилия была одарена натурой богатой, незаурядной. В будущем она станет продолжать свое музыкальное образование в Париже, под руководством Шопена, будет участвовать в благотворительных концертах с Листом, встречаться с Вагнером, Шуманом и его женою Кларой Вик. Когда она попросит Листа давать ей уроки, он удостоит ее такой фразы: «Выдающаяся ученица Шопена во мне не нуждается…» Но все это – в далеком будущем Эмилии, в ее будущей жизни без Брюллова. Сейчас же восемнадцатилетняя барышня приехала в Петербург к своему брату Вильгельму, который учится в Академии, у Зауервейда. Впоследствии он приобретет известность как издатель «Художественного листка». Брюллов в упоении радостью начинает ее портрет – тоненькая девушка в белоснежном кисейном платье стоит у рояля на фоне красного занавеса. Хрустальная ваза с ландышами – будто символ чистой прозрачности, поэтичности ее души. Именно такою воспринял ее художник своим восторженным и доверчиво открытым в тот миг сердцем. Звонкость цвета – красный, синий, белый, черный – созвучна в своей ликующей приподнятости чувствам, владевшим тогда художником. Этот портрет по своей поэтической, возвышенной тональности естественно входит в галерею женских образов Брюллова. Только теперь – впервые после портретов Самойловой – он пишет женщину, в чертах которой не просто ищет примет собственного представления об идеале, но ту, которая, как он надеется, станет для него живым воплощением взлелеянного идеала, верной спутницей жизни.
Судьбе было угодно распорядиться иначе. За внешним обликом юности и поэтической красоты Эмилии скрывалась мрачная трагедия. Отец ее, рижский бургомистр, не смог совладать со своей противоестественной страстью к собственной дочери. Эмилия открылась жениху накануне свадьбы. Много потребовалось душевных сил, чтобы снести такой удар. И все же свадьба состоялась, настолько сильна была любовь и жалость Брюллова, настолько не хотел он отказаться от надежд, настолько сильна была в нем вера, что жернова совместной жизни, движимые любовью, сотрут в порошок и комья грязи и осколки тягостных воспоминаний… Но притязания отца не прекратились и после брачной церемонии. Теперь уже Брюллов не в силах противиться горькой мысли, что он оказался в положении заведомо обманутого, что отец хотел лишь, чтобы дочь официально числилась замужней женщиной, получала от мужа содержание и жила при этом по-прежнему в отцовском доме. И тогда он принимает окончательное решение: долгими бессонными ночами, вновь и вновь перечеркивая написанное, ища верного тона и выражений, составляет прошение о разводе на имя Бенкендорфа и министра двора князя Волконского. Это было мучительно – облекать трагедию в слова, обнажать душу перед сторонними людьми, рассказывать о случившемся, вновь переживая только что перенесенное крушение веры, надежды, любви…
«Убитый горем, обманутый, обесчещенный, оклеветанный, я осмеливаюсь обратиться к Вашей Светлости, как главному моему начальнику, и надеяться на Великодушное покровительство Ваше», – начинает он послание к Волконскому. Рассказав откровенно о случившемся, он продолжает: «Родители девушки и их приятели оклеветали меня в публике, приписав причину развода совсем другому обстоятельству, мнимой и никогда не бывалой ссоре моей с отцом за бутылкой шампанского, стараясь выдать меня за человека, преданного пьянству… я считаю даже ненужным оправдываться: известно, что злобное ничтожество, стараясь унизить и почернить тех людей, которым публика приписывает талант, обыкновенно представляют в Италии самоубийцами, у нас в России пьяницами… Я так сильно чувствовал свое несчастье, свой позор, разрушение всех моих надежд на домашнее счастье… что боялся лишиться ума».
21 декабря 1839 года, всего через два месяца после свадьбы, консистория дала разрешение на развод. Эмилия несколько лет спустя выйдет замуж за сына издателя «Северной пчелы» Греча, будет жить то в Петербурге, то в Риге, то за границей. По прихоти судьбы она будет похоронена в Павловске, рядом с братом Карла Брюллова, Александром. Много десятилетий спустя ее племянница Мария Гревинк выпустит книгу об Эмилии Тимм. В ней не только нет хулы в адрес Карла Брюллова. «Этот выдающийся художник был редко умный, тонко образованный, любезный и интересный член общества; близкие с печалью отнеслись к его смерти», – пишет Гревинк. Расторжение брака приписано разнице возраста супругов и тому, что художник был «нервно-возбужденным» человеком…
Вскоре и Глинка переживает все тяготы бракоразводного процесса. В самый разгар подготовки премьеры «Руслана» он каждый день будет ездить в консисторию, в Александро-Невскую лавру, для очных ставок и «судоговорения» с женой. «На беду, слухи о недавней размолвке Глинки и Карла Брюллова с женами ходили еще по городу с прибавлениями, разумеется, петербургских кумушек, – писал в те дни Струговщиков и с горечью продолжал. – Странно было при этом, что петербургская публика, в особенности барыни, нападали на своих любимцев в то время, когда они подавали собою пример бескорыстного, свободного труда и творческой деятельности, как будто эта славная деятельность, воочию всему Петербургу, не давала им права на более осторожные приговоры в делах, для постороннего темных. С отвращением припоминаю некоторые отзывы в конце тридцатых годов, как о К. Брюллове и Глинке, так и о Пушкине, которого костюм и манеры не всегда приходились по вкусу пустозвонам великосветского пошиба. Да, попугаизму и злословию открылось тогда широкое поле. К. Брюллов и Глинка, при всей их сдержанности, почувствовали себя ненормально; но работали еще усиленнее, нежели когда-либо, что можно доказать одними перечнями их работ; надобно же было и желчь разгонять…»
Да, сплетням, перешептываниям, клевете не было конца. Гневался царь, всплескивали руками светские дамы. Из многих гостиных поспешно убрали бюсты Брюллова, красовавшиеся дотоле на самом видном месте. «Пустозвоны великосветского пошиба» готовы были повторить травлю – они еще не забыли своего опыта преследований Пушкина… И Глинка, и Брюллов чувствовали себя беспомощными – так обычно и бывает, когда люди считают себя правыми, ведь это неправота всегда поспешно обзаводится доказательствами и сыплет фактами и домыслами, а правота об этом не заботится, пребывая в наивной уверенности, что коли она правота, так это и так видно. Брюллов в те дни почти ежедневно приходил в дом к Клодту, поднимался к детям на антресоли и то рисовал им без конца всяческие исторические сценки, то вдруг как ребенок безутешно плакал, с горечью повторяя: «Я не могу выйти из дому: на меня станут показывать пальцами». Глинка тоже прервал все светские связи, никого не допускал к себе, кроме самых близких друзей. Желая развлечь его, Степанов рисовал комичные сценки: Глинка, преследуемый фуриями-сплетнями. Лермонтов в «Княгине Лиговской», писавшейся почти в то время, говорит о том, что значит для человека в России быть «замешанным в историю»: «Благородно или низко вы поступили, правы или нет… вы теряете все: расположение общества, карьер, уважение друзей… отъявленный взяточник принимается везде хорошо: его оправдывают фразою: и! кто этого не делает!.. Трус обласкан везде – потому что он смирный малый, – а замешанный в историю! – о! ему нет пощады: маменьки говорят о нем: бог его знает, какой он человек, – и папеньки прибавляют: мерзавец!..» Лермонтов с такой страстностью пишет об этом обыкновении высшего света, потому что сам на себе не раз испытывал его косые взгляды. Пушкина клевета посредственности преследовала и после гибели: «С тех пор, как я сделался историческим лицом для сплетниц Санкт-Петербурга, я глупею и старею не неделями, а часами», – писал когда-то поэт. Незадолго до гибели Пушкин в статье о Вольтере писал: «Гений имеет свои слабости, которые утешают посредственность…» И посредственность, так называемые «приличные люди», хватаются за это «утешение» с необычайной жадностью. Но только эти «приличные люди» не пишут картин, не сочиняют музыки, не потрясают сердца поэтическим словом. Они пьют, едят, множатся. Лучшие из них ищут опоры и утешения в творениях тех самых гениев, человеческие слабости которых обсуждаются с таким пылом. Но, быть может, те, кому даны особые дары и они ими служат миру, быть может, они могут иметь право и на особенную жизнь, несхожую с обычной… Можно ли мерить на одних весах поступки художника и поступки людей обыкновенных? Ведь порой и самое малое, ничтожное событие внешней жизни, и самое большое горе, и, на сторонний взгляд, пустая встреча – все в душе художника идет в переплавку, оборачиваясь драгоценным созданием. Нередко творец сам идет навстречу трагическим коллизиям, словно ищет случая испытать страдание, чтобы ценой собственной боли, собственной жизни оживотворить свое творение глубиной чувств. Давно замечено, что великим поэтам и художникам свойственно иметь «душу, терзающую самое себя»:
Я жить хочу! хочу печали
Любви и счастию назло;
Они мой ум избаловали
И слишком сгладили чело.
Пора, пора насмешкам света
Прогнать спокойствия туман;
Что без страданий жизнь поэта?
И что без бури океан?
Он хочет жить ценою муки,
Ценой томительных забот.
Он покупает неба звуки,
Он даром славы не берет —
писал Лермонтов. «Насмешки света» и с чела Брюллова «прогнали спокойствия туман». Как пишет Рамазанов, зависть и вечная ее спутница, клевета, еще с академических лет шли по его пятам, не дремали, имея всегдашним девизом: «Он выше нас, это нестерпимо, будем бросать в него грязью». Правда, в своей краткой, безапелляционной характеристике Брюллова цензор Никитенко оговаривается: «Остер, любезен, безнравственен, но не циничен». Слухи об истории с женитьбой докатились и до Италии: Иванов сообщает отцу, что до них дошло известие, будто Брюллов застрелился. Но он не сдался, он не застрелился. Он стал мудрее, как ни горько досталось ему умудрение. Свое страдание, свою печаль, боль и разочарование, свою новую мудрость он «переплавил» в новые творения. Кто знает, быть может, не выпади на долю художника тогда столь тяжкие переживания, он не создал бы таких блестящих произведений, как «Маскарад», портрет Струговщикова, свой собственный портрет.
Как раз в это время в Петербург возвратилась Юлия Самойлова. Она приехала по делам огромного наследства, завещанного ей вторым мужем ее бабушки, графом Ю. П. Литта. Ее приезд для Брюллова был и утешением и счастьем. Она, презрев наветы света, окружила его ножной заботливостью и участием. Больше того, явив собою образец гордой независимости и дружеской доброты, она стала светлым лучом в том царстве мрака, безнадежной уверенности, что все на свете дурно, в которое погрузился в те дни художник. Оживленная, веселая, в блеске торжествующей красоты – несмотря на немалые годы (ей сравнялось тридцать семь), современники называют ее по-прежнему в числе первых красавиц Петербурга – она в окружении свиты поклонников, красавцев итальянцев и французов, шумно появлялась в мастерской, велела вечно сонному Лукьяну наспех собрать необходимое и увозила Брюллова к себе в Графскую Славянку. Имение находилось неподалеку от поместья другого приятеля Брюллова, Витгенштейна. Большой, поместительный дом отстроил для графини Александр Брюллов. Здесь все было на редкость удобно и уютно; комнаты небольшие, соразмерные человеку, обставленные ласкающе мягкой мебелью. Даже внизу вместо огромных зал – анфилада небольших комнат, с эркерами, выдвинутыми в зелень сада. Брюллову здесь было хорошо, покойно, уединенно. Увидев после разлуки Самойлову, он словно бы обрел вновь свой идеал, уверился, несмотря на одолевший его скепсис, что жизнь вовсе не соткана лишь из предательств, измен, клеветы и обмана, что все его портреты, воспевавшие прекрасного человека, прекрасную женщину – не ложь и не пустая фраза. И словно желая еще больше утвердиться в этом, он берется за новый портрет графини. Столь совершенного, столь сложного по замыслу парадного портрета-картины он еще не создавал. Торжествующее явление красоты и духовной силы яркой, независимой, свободной личности – вот содержание, хочется даже сказать – пафос этого портрета. Решительно все служит здесь этому желанию художника – непременно вызвать в нас чувство величия. Зал, в котором происходит действие, мало назвать просто залом и еще меньше – комнатой. Мощные архитектурные формы сродни величавым фантазиям Пиранези. Пространство в сложном переплетении колонн и огромных арок кажется бесконечно продолжающимся вглубь. Откровенно утрированную в своей мощи и объеме колонну, у которой стоит покидающая маскарад Самойлова с юной Амацилией Пачини, окутывает пурпурный занавес, падающий такой тяжелой массой, сложенный в такие крупные складки, что он кажется соразмерным не столько физической плоти Самойловой, хоть и она тоже торжественно-весома, величаво-значительна, но и силе ее духа, нравственной мощи. Именно поэтому и изображает Брюллов ее не в буржуазно-уютных анфиладах Славянки, а в этом фантастическом интерьере. Сама Самойлова не просто стоит, не просто приостановилась на минуту, прервав движение – Амацилия уже спустилась на ступеньку вниз, к выходу, и эта деталь обнаруживает скрытую инерцию движения, – нет, она, кажется, пребывает здесь вечно, как скульптура, как некий памятник. Все формы ее фигуры – литые плечи и руки, длинные и тоже словно отлитые из бронзы локоны, слишком тяжелые для шелка складки платья – откровенно, подчеркнуто скульптурны.
Портрет имеет второе название – «Маскарад», и второй план, второй смысловой слой. Самойлова, сняв маску, покидает маскарад. И тут фантастическая грандиозность интерьера помогает проявиться еще одной грани авторского замысла: кажется, там, в глубине, не просто веселятся маски на обычном маскараде, имевшем место в доме такого-то, такого-то числа. Нет, там творится грандиозное лицедейское действо, вселенский маскарад жизни, где каждый пытается выдать себя не за того, кто он есть на самом деле. Некто, наряженный султаном, указывает маске Меркурия на юную девушку в восточном костюме. Пригнувшись к плечу «султана», «Меркурий» что-то услужливо нашептывает властителю. С дьявольской усмешкой косится в их сторону арлекин в красном мефистофельском одеянии, с мефистофельской бородкой. В этом мире лжи и лицедейства, в мире купли-продажи Самойлова, полная человеческого достоинства, пренебрежительно скинувшая маску, гордо демонстрирует свою непричастность к маскараду жизни. Кстати, сам Брюллов говорил, что задумал в этом портрете показать «маскарад жизни».
Не только тема – сама фразеология созвучна драме Лермонтова, написанной несколькими годами ранее и вышедшей в свет в 1840 году. Чуть позднее, в 1843 году, в Петербург приехал человек, чье имя давно уже было известно в России. Остановился он на Миллионной, в центре города, в доме Титова. Петербуржцы в то лето часто видели его характерную фигуру, обращавшую на себя внимание прохожих, зрителей в Павловском воксале, гостей светских салонов: тучный, низенький, коренастый, с черными как смоль волосами и карими глазами, лихорадочно горящими и выражающими внутреннюю силу. Приехавший к своей прекрасной даме, Эвелине Ганской, Бальзак незадолго до этого, в 1841 году, был осенен идеей все основные свои произведения, составляющие куски единой картины мирского лицемерия, предательства, корыстолюбия, коварства и тщеславия, объединить общим названием – «Человеческая комедия». «Человеческая комедия», «маскарад жизни» – идея, тема, наконец, точка отсчета нравственных ценностей оказались родственными у великого нравописателя Франции, у его ровесника, русского живописца Брюллова, и у лучшего после гибели Пушкина поэта России…
К Самойловой Брюллова влекла ее вольная независимость, гордое пренебрежение условностями, редкое умение пренебречь мнением толпы. Ему самому были свойственны эти качества. Казалось, в те тяжкие дни они вдруг изменили ему. Общение с Самойловой, а еще больше – работа над ее портретом исподволь восстанавливали душевное равновесие, возвращали уверенность в себе, питали его силу. И в портрете он воспел эти ее качества, которые помогли ему тогда выбраться из беспросветного отчаяния. В то же самое время он пишет портрет женщины, во всем противоположной Самойловой, которая тоже помогла ему вернуться к жизни – Иулиании Ивановны Клодт. Благодаря ей, благодаря ее семье Брюллов, быть может, впервые в жизни понял, какая же это могучая сила – доброта. В доме царила необыкновенно теплая атмосфера согласия и радушия. Брюллов с тех пор часто стал бывать у Клодтов и на воскресных обедах, скромных, но сытных, на которых помимо домашних садилось человек двадцать гостей. Венецианов, Агин, Брюллов, актер Самойлов со временем стали завсегдатаями. Дети, друзья, мастеровые, звери – на всех в доме Клодтов доставало заботы, нежности, участия. Всех кормили, всем помогали, хотя достаток в доме был более чем скромный: после смерти скульптора останется два выигрышных билета и 60 рублей ассигнациями. Душою дома была Иулиания Ивановна. С брюлловского портрета на нас глядит ее милое лицо. Абрис лица, черты, линия рта – все отличается какой-то удивительной мягкостью, нежностью. За минутной серьезностью таится природная веселость: кажется, еще мгновение – и дрогнут в улыбке полные губы, а темные большие глаза заблистают искрами задорного веселья. То, о чем так страстно мечтал Брюллов для себя и с надеждами на что вынужден был расстаться – семья, дом, очаг, – он воочию видел в семействе Клодтов. Вот уж воистину «парные души»! Когда Клодт ненадолго уедет за границу, он в одном из писем скажет Александру Брюллову: «Я всегда, как вы знаете, был нежным мужем; но только теперь вполне чувствую, как велика моя привязанность к ней; только подле нее я могу назваться счастливым, а без нее мне везде скучно и грустно…» Не только доброта и участие Клодтов врачевали Брюллова. Благодетельным был сам факт – да, так бывает, люди на земле подчас встречаются со своей «парной душой». Брюллов не был завистлив. Пусть это счастье выпало не на его долю, пусть он оказался трижды прав, когда писал брату: «Я никогда не женюсь – жена моя – художества». Однако же неправда, что всякий человек заведомо обречен на одиночество. Это утешало. Это возрождало в душе робкую надежду. Это возвращало к жизни.
«Моя жена – художества…» Теперь Брюллов окончательно утвердился в этой мысли. Из всех печалей, из отчаяния его может вывести единственная верная дорога – работа. Так уже бывало не раз, так стало и теперь. Не дожидаясь, пока время залечит сердечную рану, утешит взбунтовавшееся самолюбие, он, как за спасение, хватается за работу. На этом горячечном возбуждении написан и один из лучших портретов русской живописи – портрет Александра Николаевича Струговщикова.
На первый взгляд портрет Струговщикова удивительно прост: прямо перед нами, строго в фас сидит, откинувшись на спинку красного сафьянового кресла, человек, уже переживший свою молодость, но далеко еще не старый. Его бледное, усталое лицо оказывается как бы в двойном обрамлении: очертания спинки кресла, идущие строго параллельно краям холста, образуют вторую раму, жестко ограничивают отведенное ему в полотне пространство. Этот прием сразу рождает ощущение замкнутости, отъединенности от мира, полной погруженности в себя, в собственный внутренний мир. Фон над креслом пуст, нейтрален, в портрете полностью отсутствуют детали. Внутренняя, скрытая от чужого глаза жизнь – вот что больше всего занимает художника. Внутренний мир героя, помноженный на сложное сплетение чувств и мыслей самого художника, получил в портрете отражение глубокое и полное. Пожалуй, ни в одном из портретов Брюллов, постигая душу сидящего перед ним человека, воплощая черты другого человека, не выразил вместе с тем так сильно и самого себя. Портрет Струговщикова – самый, если так можно выразиться, «автопортретный» среди всех работ Брюллова. Это ощущение, бесспорно, усиливается и тем, что по цвету, по композиционному приему, по состоянию модели портрет Струговщикова очень напоминает автопортрет Брюллова, который тот напишет восемь лет спустя: себя он тоже изобразит в красном кресле, на схожем фоне, с бессильно упавшими руками, в состоянии отрешенного самоуглубления. Не случайно в той исповеди, которой, по сути, станет автопортрет, он вспомнит портрет Струговщикова – уже в нем он начал говорить и о себе. Собственные раздумья, собственные сомнения, собственную рефлексию вложил он в холст, когда писал Струговщикова. Разговаривая с ним, вглядываясь в его черты, он слышал в себе отзвук многих его мыслей, начинал лучше понимать самого себя. За внешней простотой, за спокойствием недвижной позы он смог прозреть мучительную двойственность поэта, сына своего смутного времени, времени, которое породило и самого художника. Струговщиков был занят тогда переводом «Фауста». Они наверняка говорили об обеих противоречивых идеях, на которых построено гениальное произведение Гете: идее «фаустианства», то есть неудержимого, напряженного стремления к истине, и идее «демонизма», мефистофельского скепсиса. Страстное желание достичь истины, постичь смысл бытия и сопутствующие этим исканиям сомнения – то и другое владело умами во всей Европе. Не случайно тема, поднятая Гете, вызывает столько продолжений: поэт Ленау создает поэму, посвященную Фаусту, а Лист по мотивам этой поэмы пишет «Мефисто-вальс». Художники Корнелиус и Делакруа создают циклы иллюстраций к «Фаусту» Гете. Одно за другим рождаются замечательные произведения: увертюра Вагнера «Фауст», «Фауст-симфония» Листа, «Осуждение Фауста» Берлиоза. Причем во многих произведениях один и тот же герой часто оказывается носителем обоих начал: раздвоенность, разорванность сознания, рефлексия были чертами целого поколения, страдавшего не от недостатка энергии, а от незнания, куда и как энергию приложить. Это поколение найдет отражение в русской литературе в целой галерее образов «лишних людей». Лермонтов не только в «Демоне» или «Герое нашего времени» касается этих проблем, в основе многих его лирических стихотворений лежат мотивы рефлексии, мучительных раздумий, раздвоенности душевного мира.








