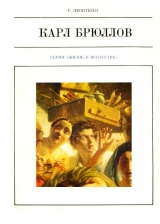
Текст книги "Карл Брюллов"
Автор книги: Галина Леонтьева
Жанры:
Искусство и Дизайн
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 29 страниц)
Побывал Брюллов и в театре. Самым интересным тут было представление народных сценок, нечто вроде итальянской арлекинады, которым кончается всякая пьеса. Наполовину импровизируя действие и текст, актеры мастерски представляли англичан, французов, осмеивали испанских щеголей на французский манер. Завораживали и андалузские танцы – качуча, фанданго, своеобразные пантомимические признания в любви, в которых все зависит от страсти, темперамента, вдохновения танцора.
«Кто не видел Севильи, тот не видел чуда», – гласит народная пословица. Если и сохранилась где прежняя романтическая Испания с гитарой, низкими балконами, дуэньями, ночными свиданиями у окна, так это в Севилье. Вся жизнь сосредоточивается во внутренних мавританских двориках. Ведущая на улицу решетчатая дверь специально делается как можно больше, чтобы видны были картины, зеркала, фонтаны, составляющие убранство дворика. Сквозь решетку можно видеть и хозяйку – с горячими черными глазами, иссиня-черными длинными волосами, в черном платье, оставляющем руки обнаженными до плеч, и в черной мантилье. Тип женщин здесь особенный – роста они небольшого, необыкновенно грациозны и тонки, походка медлительна, а движения порывисты и быстры. Их смуглые, матовые, без румянца лица воспел в своих произведениях Мурильо. В капуцинском монастыре в Севилье и в городском соборе Брюллов мог видеть много работ этого мастера. Религиозный экстаз, пронизывающий многие его полотна, оставил русского художника равнодушным. И все же только побывав в Севилье, можно было по-настоящему оценить, насколько мастер сумел уловить национальные черты своих земляков, а также и то, каким плодотворным оказалось обыкновение Мурильо писать героев библейских сказаний со своих земляков-севильянцев. Тем не менее симпатии Брюллова оставались на стороне другого уроженца Севильи, великого портретиста Веласкеса. Даже Боткин, с таким воодушевлением восторгающийся Мурильо, тем не менее говорит: «Никто в мире не уловил природы во всей ее животрепещущей действительности, как Веласкес: портреты итальянцев и фламандцев бледны и мертвы перед его портретами». Надо думать, что не преминул Брюллов побывать и у Анисето Браво, купившего дом, в котором когда-то жил Мурильо, и собравшего отличную коллекцию картин испанской школы. Кстати сказать, в Севилье в редком доме нет нескольких хороших картин, собирательство там было в большом почете.
На все смотрел Брюллов широко открытыми глазами, все, любые мелочи привлекают его взор. Он многие часы проводит в севильском соборе, поражающем обильной щедростью, восточной роскошью отделки интерьеров при крайне скромном убранстве фасадов. Он удивлялся малолюдью церквей – инквизиция, приучившая верить слепо, не рассуждая, жестокостью своей политики отвратила народ от религии. В полупустом соборе он мог подолгу наблюдать за какой-нибудь севильянкой. В андалузских церквах нет скамей, мужчины присутствуют на службе стоя. Женщины же становятся на колени и после небольшой молитвы принимают особенную полулежачую позу, при которой складки их черных платьев ложатся необыкновенно живописно. В одной руке они перебирают четки, а в другой играет, ни на миг не успокаиваясь, веер. На это, как на некое театральное действо, можно смотреть часами. Когда собор совсем пустел, Брюллов подолгу разглядывал украшавшие стены работы Мурильо, Сурбарана, Моралеса, Вальдеса и других мастеров испанской школы, о которых прежде имел весьма поверхностное представление.
Дальше путь лежал на северо-восток – в Кастилию, в Мадрид. Кастилия уныла, пустынна, но величественна. Часами тянется голая равнина, оживленная лишь кустами розмарина и редкими деревушками. В окрестностях Мадрида и розмарин исчезает. Город расположен на пустынном плато, по архитектуре похож на европейские города. «Среди этой-то уныло-страстной природы и выработался тип испанского характера, медленный, спокойный снаружи, раскаленный внутри, упругий и сверкающий, как сталь…» – пишет Боткин. В Мадриде, как, впрочем, и во всей Испании, каждому иноземцу бросалась в глаза непринужденность и простота обращения между аристократами и простым людом. На Прадо знатные дамы разгуливают рядом с работницами табачных фабрик и гризетками. На улице простолюдин может остановить знатного гранда, чтобы от его сигары раскурить свою. Куртуазность обращения простиралась до того, что не только аристократ к простолюдину, но и генерал к солдату обращался словами «ваша милость».
«Как бы вы ни были расположены к созерцательной, художнической жизни, как бы вы ни чуждались политики, в Мадриде – вы брошены насильно в нее», – пишет Боткин. С кем бы ни заговорил прохожий, если не первым, так вторым вопросом будет разговор о правительстве, о политике. Небольшая площадь Puerta del Sol превращена в своеобразный форум мадридцев. Все стоят здесь небольшими группами, завернувшись в плащи, рассуждая о государственных делах. Каждая близлежащая кофейня и даже некоторые магазины служат своего рода политическими клубами для сторонников различных партий. Число собирающихся подчас так велико, что покупателям не пробиться сквозь толпу. Некоторые хозяева вешают на своих лавках объявление: «Здесь не держат собраний». Этот горячий интерес всех слоев населения к положению в родной стране, к событиям сегодняшнего дня поразил Брюллова, и это его удивление не останется бесследным, как мы увидим, для его творчества.
Вообще впечатления поездки по Испании окажутся очень плодотворными. Брюллов в пути, как и в молодые годы, не делает беглых путевых набросков. Острые впечатления хранятся до поры в его цепкой памяти. Конечно же, более всего поразил его Мадридский музей, состоявший, по словам Боткина, из одних шедевров. Работы Рафаэля Менгса – он был знаком с воззрениями этого классициста по книге «Об искусстве смотреть художества по правилам Зульцера и Менгса», – а также его учеников по Мадридской Академии Сан-Фернандо оставили Брюллова совершенно равнодушным. Насильственно насаждавшийся классицизм выглядел на испанской земле чужеродным. Куда интереснее были произведения самобытной испанской школы живописи. Брюллов мог насладиться здесь работами своего любимого мастера – нигде еще он не имел возможности увидеть сразу столько произведений Веласкеса. Вряд ли он оставил без внимания и творчество мастера, работ которого до сих пор не видел, но имя встречал уже не раз: Гюго в «Соборе Парижской богоматери» упоминает трагические образы заключенных, созданные Франсиско Гойей, Дюма-отец, исторические хроники которого Брюллов вновь увлеченно читает на Мадейре и делает к ним иллюстрации, в «Королеве Марго» тоже вспоминает трагические видения Гойи, когда описывает королеву Екатерину Медичи, прибывшую со свитой поглядеть на труп адмирала Колиньи, раскачивающийся на виселице. В 1832 году побывавший в Испании Делакруа писал об огромном впечатлении, произведенном на него работами четыре года назад умершего Гойи: «Весь Гойя трепетал вокруг меня…» Наконец, в 1842 году Теофиль Готье опубликовал отдельную статью об этом замечательном испанском мастере. Сборник «Кабинет любителя и антиквара», куда эта статья вошла, мог попасться Брюллову на глаза. Страстная гражданственность, жгучая современность, глубочайшая народность творчества великого испанца, причастность его произведений к политической жизни родины – все эти качества могли навести русского художника на те же мысли, что возникли у него в переломном 1848 году. Героями многих работ Гойи выступает простой народ, а темой служат народные обычаи – «Похороны сардинки», «Праздник майского дерева», «Процессия флагеллантов». Потрясающие по силе выразительности росписи Гойи он мог видеть в маленькой церкви Сан-Антонио де ла Флорида на окраине Мадрида. Мог побывать и в доме Гойи, увидеть драматические фрески мастера, в том числе «Сатурна, пожирающего своих детей». К образу Сатурна-Хроноса Брюллов обратится в последний год жизни в эскизе «Всепоглощающее время». Мог он и в музее, и в частных собраниях увидеть замечательные по силе правды портреты Гойи, развивавшего традиции Веласкеса. Не могла не привлечь его внимания и необычная текстура живописи Гойи – широкий, размашистый корпусный мазок и легкие, не сглаживающие шероховатой фактуры нижнего слоя лессировки. Многие работы Гойи – серия «Капричос» и другие графические циклы, картина «Испания, Время, История» – построены на аллегории. Как мы увидим, аллегорический способ претворения замысла займет большое место и в поисках Брюллова.
После Мадрида Брюллов отправился в главный город Каталонии – Барселону. Неизвестно, разыскал ли он старика врачевателя, на помощь которого так надеялся. Во всяком случае, судя по тому, что в Барселоне он вновь взялся за кисть и написал портреты певца Роверы и его жены, чувствовал он себя неплохо. Однажды в Барселоне ему довелось увидеть исполненную трагизма сцену – шествие слепых. Рисунки этой поразившей художника сцены были, вероятно, сделаны там же, в Барселоне. Приехав в Италию, он сразу отсылает их в Петербург, адъютанту герцога Лейхтенбергского Петру Романовичу Багратиону. Судя по письмам, полным дружеской приязни и заботы, Брюллов и Багратион за время совместного пребывания на Мадейре очень сблизились. Картина же «Процессия испанских слепых в Барселоне» была, судя по тому, что теперь она находится в Миланском музее, выполнена Брюлловым уже по приезде в Италию. К характеристике этой очень интересной работы мы вернемся чуть позднее.
Свое первое письмо из Италии, адресованное Багратиону, Брюллов начинает словами: «Roma и я дома». Он счастлив, что снова в милой его сердцу Италии. Гоголь когда-то говорил: «Когда вам все изменит, когда вам больше ничего не останется такого, что бы привязывало вас к какому-нибудь уголку мира, приезжайте в Италию. Нет лучшей участи, как умереть в Риме; целой верстой здесь человек ближе к божеству». И все же Брюллов, едва только приехав в желанную Италию, уже в 1850 году делится в письме к Фомину своими планами на возвращение в Россию: «…сам я буду, если не в этом году, то в том, если бог позволит». На протяжении тех последних двух лет он тоскует по России постоянно, мечтает о времени, когда снова увидит «наш холодный север», мечтает еще хоть раз в жизни увидеть белоснежные покровы русской зимы. Кажется, даже хмурая петербургская осень представляется ему теперь не такой уж невыносимой…
Тоскуя по России, он, естественно, настойчиво ищет общения с русскими. Необычайную радость доставила ему встреча с давней своей знакомой Зинаидой Волконской. Присутствовавшая при этом сестра княгини рассказывала потом: «Они долго не виделись, и встреча их была таким взрывом радости, таким слиянием общих интересов, иных, высших, и более специальных, чем у других, что сразу все присутствующие почувствовали, что они отходят на задний план и что они только случайные, посторонние зрители другой жизни». Часто встречается Брюллов с бывшими своими учениками Федором Моллером, Григорием Михайловым, который тоже недавно побывал в Испании. Встречается Брюллов и с Александром Ивановым. Но только поначалу – Иванов живет теперь еще более замкнуто и уединенно, чем когда-либо. 20 мая 1851 года Иванов пишет Гоголю: «Я почти ни с кем не знаком, и даже почти оставил и прежних знакомых. Я, так сказать, ежедневно болтаюсь между двумя мыслями: искать знакомства или бежать от него?.. С Брюлло я, в начале приезда, часто виделся, но теперь с ним не бываю. Его разговор умен и занимателен, но сердце все то же, все так же испорчено». Дороги Иванова и Брюллова разошлись. Даже о смерти Брюллова Иванов отзовется единственной равнодушной фразой в письме к Иордану: «У нас еще прибавился знаменитый покойник – Карл Павлович Брюлло…» И тем не менее, когда к Иванову в 1856 году приедет родственник Гоголя, П. Ковалевский, собиравшийся издавать переписку Гоголя, Иванов скажет ему, что выше всех художников последнего времени он ставит Брюллова: «Брюллов произвел революцию в искусстве!» Сам Иванов произведет на Ковалевского впечатление человека «одичалого, вздрагивавшего при появлении всякого нового лица, раскланивавшегося очень усердно с прислугою, которую принимал за хозяев…» Вместе с Александром Ивановым жил в студии его младший брат Сергей, архитектор. Вот с ним Брюллов продолжает видеться довольно регулярно.
Вскоре круг русских знакомств еще больше сужается – уезжает Федор Иордан, а скульптор Ставассер, которого Брюллов когда-то напутствовал накануне отъезда в Италию, внезапно умер, не дожив и до сорока лет. Чем меньше рядом становилось русских, тем больше тосковал Брюллов по родине. И с тем большим упорством начал разыскивать Юлию Самойлову. По его просьбе розыски продолжает его новый итальянский друг и ученик Луиджи Галли. Но все тщетно. Говорили, что вскоре после приезда из России, графиня, будучи проездом в каком-то маленьком итальянском городке, влюбилась страстно в местного тенора, красавца Пери, и вышла за него замуж, потеряв титул, вынужденно продав по дешевой цене свои поместья в России, потеряв и русское подданство. Говорили также, что через год ее муж умер в Венеции от чахотки. Где она скрывалась после этой трагедии, Брюллову так и не довелось узнать. Больше они не встретились. Нам же известно, что судьба ее сложилась неудачно: в 1863 году она лишь ради возврата графского титула выйдет замуж за графа Шарля де Морнэ, вероятно, того самого, которого много лет назад Делакруа изобразил в парном портрете вместе с Анатолем Демидовым. Умрет графиня в 1875 году, похоронят ее на кладбище Пер-Лашез.
Возобновляет Брюллов и старые свои итальянские знакомства. Из Милана приходят нежные письма от семьи Мариетти, которой Брюллов так помог в трудную минуту. Дочь Мариетти Адель называет в письмах Брюллова «благодетелем», «единственным другом», не покинувшим их в беде. Появляются в его жизни и новые люди. Чувствовал он себя почти постоянно очень скверно. В его письмах то и дело мелькают фразы – «Устал, грудь больно», «прижимаю вас к своему слишком быстро бьющемуся сердцу». Состояние его требовало постоянного присутствия верного человека и днем, а нередко – и ночью. На слугу Роберто, на все просьбы отвечавшего неизменной фразой: «А что я знаю? Я ничего не знаю!» надежды было мало. Брюллов как-то набросал его взъерошенную со сна фигуру и подписал: «Я ничего не знаю!» В конце концов нашелся милый молодой человек из хорошей, но обедневшей семьи, Сальваторе Росси, который стал одновременно и учеником и верным помощником Брюллова, ухаживал за больным, читал вслух во время долгих, мучительных бессонных ночей.
В Италии Брюллов встречается с человеком, семья которого становится его семьей, дом которого становится его домом. В жизни художника, пожалуй, еще не было такого преданного, верного, заботливого друга, каким стал до последнего дня Анджело Титтони. Официально род его занятий определялся так: «Оптовый торговец всеми сельскими произведениями и всяким скотом». На самом деле Титтони был виднейшим деятелем Рисорджименто, участником революции 1848 года, соратником Гарибальди. Почти весь 1849 год он за участие в революции – будучи полковником революционной национальной гвардии, Титтони входил в сформированный революцией муниципалитет Рима – провел в заключении в замке Святого ангела. После поражения революции Анджело Титтони и его брат Винченцо, как и автор «Обрученных» Алессандро Манцони, как другие патриоты, продолжают участвовать в антипапском подпольном движении. Они не сложат оружия до тех пор, пока после многих десятилетий борьбы освободительное движение Рисорджименто не победит, пока в 1871 году Рим, освобожденный от власти папства, не станет столицей объединенной Италии. Ныне на Яникульском холме в Риме, ставшем своеобразным памятником участникам Рисорджименто, в числе других скульптур, изображающих соратников Гарибальди, стоит и бюст Анджело Титтони.
Вскоре после знакомства с Титтони Брюллов принимает их предложение поселиться в римском доме Анджело на улице Корсо. А лето он проводит вместе со всей семьей Титтони в их загородной вилле в местечке Манциана. Дружба с семьей патриотов Титтони, с семьей политических деятелей несомненно оказала сильное воздействие на творчество русского художника, в котором появилось в последние годы так много новых черт, что они дают право говорить о наметившемся переломе и в мировоззрении мастера, и в его творческом методе. Конечно, если бы Брюллов не был уже внутренне подготовлен к перелому еще в Петербурге, а затем в путешествии по Испании, вероятно, и дружба с Титтони прошла бы для его творчества бесследно, принеся лишь отдохновение измученному сердцу. Еще в Петербурге у него родилась догадка, что искусство, отвернувшееся от современности, обречено на прозябание в нынешнем бурном веке. В Испании он мог видеть, как работал Гойя, смело вторгаясь в сегодняшнюю жизнь страны, страстно отстаивая понятия добра и правды, вмешиваясь в политику. И вот теперь в творчестве Брюллова появляется несколько эскизов на темы не просто из современной, но из политической жизни сегодняшней Италии. На стене у него висит гравюра с картины Лоуренса, изображающей папу Пия VII. Она полюбилась ему за выразительность, за чисто художественные качества. Теперь же ему хочется разобраться в социальной и политической природе папства, его роли в жизни Италии. Он видел пышные, театральные церемонии католических празднеств, видел, как папу проносили в драгоценном кресле, как идола, под опахалами. Как шеренги солдат папской гвардии по команде лязгали ружьями и падали в определенный момент церемониала на колени. За внешним великолепием проглядывало кощунственное ханжество духовенства. Во многом ему мог помочь разобраться и Анджело Титтони, сознательно отдавший жизнь освобождению родины от давящей власти папства.
Титтони рассказывает Брюллову о недавних событиях, о тех светлых надеждах, которые было появились в сердцах итальянских патриотов с восшествием на престол папы Пия IX. Первое благословение, которое дал новый папа народу с балкона дворца Квиринале 18 июня 1846 года, превратилось в политическую демонстрацию, выражавшую надежды народа. Еще бы – Пий IX начал свое правление с того, что даровал амнистию участникам политической борьбы. Риму было дано новое муниципальное устройство. Всем гражданам дозволено записываться в гражданскую гвардию. На какое-то время утвердилось в обществе представление, что новый папа как бы готов возглавить движение за объединение Италии и освобождение ее от австрийского владычества. Вот этот-то радостный день 18 июня и изображает Брюллов в своих эскизах. На выполнение большого полотна слабых сил художника не хватило. Но даже те три эскиза «Политической демонстрации в Риме», которые Брюллов сделал, говорят не только об изменении взгляда его на задачи и возможности живописи, но и о некоторых новых художественных приемах.
Вся площадь перед дворцом Квиринале залита народом. Нет и намека на искусственные группировки, считавшиеся по теории классицизма обязательной основой построения композиции. Народ охвачен общим воодушевлением, объединен единой надеждой, всеобщей радостью. Разделение на группы нанесло бы неминуемый ущерб замыслу. Поэтому толпа всех этих женщин и мужчин, старцев и детей, аристократов и бедняков, бросающих в воздух шляпы, приветственно машущих руками, дана в монолитном единстве. От Титтони Брюллов узнал, что церемония первого благословения происходила вечером. Так вторым «действующим лицом» картины становится свет. Факелы и костры художник помещает между толпою и дворцом Квиринале. Благодаря этому приему обелиск со статуями укротителей коней и люди на переднем плане рисуются четким контражуром. Некоторые фигуры переднего плана добавочно освещены светом, падающим из невидимого нам источника, они высвечены, вырваны светом из общей темной массы демонстрантов. Столь необычное распределение света вносит во всю сцену ощущение тревожной призрачности, зыбкости действия. Призрачными оказались и надежды, которые возлагали римляне на нового папу. Он вскоре передал правление в руки Пеллегрино Росси, которого одинаково ненавидели как в клерикальных кругах, так и в среде деятелей Рисорджименто. Росси был убит неизвестным лицом 15 ноября 1848 года. Испуганный Пий IX тотчас сбежал в Гаэту. Началась революция, закончившаяся провозглашением в феврале 1849 года римской республики. На Рим двинулись войска Австрии и новоиспеченного французского императора Луи Наполеона. Обороной города командовал Гарибальди. Патриоты сопротивлялись отчаянно. И все же 3 июля Рим пал. Сразу же было провозглашено восстановление папской власти. Вот тогда-то Анджело Титтони вместе с другими патриотами и был брошен в замок Святого ангела. В апреле 1850 года папа Пий IX торжественно вернулся в Рим. Вновь Рим попал в рабскую зависимость от ненавистной панской власти, восстановившей сразу же инквизицию.
Словно чувствуя себя летописцем последних событий Рисорджименто, Брюллов берется за еще одну композицию, изображающую на сей раз крушение надежд народа, доверчивость которого оказалась так жестоко наказанной. В небольшом эскизе «Возвращение папы Пия IX в Рим» Брюллов показывает, как при гробовом молчании толпы проезжает по улицам города Пий IX в сопровождении самодовольного французского генерала – в прямом и переносном смысле Франция вернула папству престол… На этот раз Брюллов считает нужным отчетливо показать лицо лицемерного правителя, в чертах которого читаются ханжество и едва скрытое торжество.
В течение полутора последних лет жизни Брюллов создал портреты почти всех членов семьи Титтони – братьев Анджело, Винченцо, Мариано, их матери Екатерины, или, как ее называли домашние, Нины Титтони, дочери Анджело Джульетты, жены Мариано Терезы-Микеле с сыновьями. Портреты Анджело, Нины и Джульетты написаны маслом, остальные – акварелью. Почти все эти портреты несут на себе отпечаток меняющегося мировосприятия художника. Пожалуй, самый выразительный из них – портрет Анджело. «У тебя голова Брута, – не раз повторял другу Брюллов, – постой, вот я сделаю тебя Брутом». Брюллов и воспринимал Анджело, как современного Брута, борца за восстановление римской республики. Он даже откровенно повторяет поворот фигуры, который придал изображению Брута Микеланджело. Герой Брюллова – личность с сильным характером. В этом Брюллов убедился на собственном опыте. «Из всех, кто знал Брюллова прежде, быть может, никто не поверит той чрезвычайной перемене, которая с ним совершилась в последнее время, не столько под влиянием болезни, сколько под влиянием Титтони, – пишет В. Стасов, который был в Риме в последние дни жизни Брюллова, а сразу после смерти художника познакомился с теми, кто окружал Брюллова, и описал в статье все его последние работы. – Он, прежде сама нетерпеливость и неукротимость, сделался терпелив, снисходителен и почти всегда слушался приказаний Титтони относительно всего, касавшегося его образа жизни и распределения времени, занятий, как ученик слушается учителя своего, как больной – доктора». Брюллов, всю жизнь не выносивший малейших волюнтаристских проявлений по отношению к себе, должен был питать глубокое уважение к Титтони, коль скоро он с такой готовностью принимал его вмешательство в свою жизнь. И, конечно же, это свидетельствует о сильной воле Анджело Титтони.
Несгибаемая воля, стремительная энергия, мощная духовная сила – эти качества Брюллов делает главными в портрете друга. Брюллов действительно создает образ современного Брута, самоотверженного борца за свободу родины. И при этом ничуть не впадает в аффектацию, ложный пафос – портрет покоряет подлинной правдой. Естественной воспринимается гордая поза Титтони – он стоит подбоченясь, чуть подняв голову, устремив спокойный, внимательный взгляд мимо нас, в далекую, будто только ему видимую даль, как в будущее. Его лицо чеканно правильных очертаний, коротко остриженная голова действительно вызывает в памяти героический облик древнего римлянина. Однако эти ассоциации имеют особенную природу: Брюллов не «поправляет» модель с оглядкой на какие-то определенные античные образцы, не заставляет зрителя вспомнить ту или иную статую. Сам он, глядя на микеланджеловского Брута, как бы провидит сквозь пластические формы скульптуры тот живой прообраз, представляет себе живого Брута, который послужил художнику моделью. И у зрителя, глядящего на портрет, оживает в душе то общее представление о древнеримских героях, которое сложилось из целого комплекса знании – исторические факты, литературные источники, изобразительное искусство. Герой Брюллова – это современный герой, унаследовавший героизм своих предков.
Цвет портрета – белая рубашка, темно-синяя куртка, красный кушак, прозрачный серебристо-серый фон – подкупает какой-то ясной чистотой. Цветовой аккорд, составленный из белого, красного, черно-синего, рождает ощущение свежести и силы. Как во многих других поздних портретах Брюллова, важная роль отведена здесь светотени. На лице Титтони, наполовину погруженном в густую тень, наполовину высветленном ярким светом, словно играют отблески далекого зарева, беспокойные сполохи, подвижные и неуловимые. Тени, упавшие на лицо, окутывают и его фигуру, скрадывая очертания рук, позволяя художнику едва лишь наметить детали костюма. Этот прием, дающий возможность избежать ненужной по замыслу детализации, Брюллов начал применять еще в петербургских портретах. Он детализировал портреты обычно в тех случаях, когда ему нечего было сказать о внутреннем мире модели или если человек был ему неинтересен или неприятен. Глинка однажды застал Брюллова за работой над портретом. Окончив голову, Брюллов положил кисти и объявил, что портрет готов. «Я не утерпел и брякнул: „Как тебе не стыдно, К. П., что ты никогда не оканчиваешь аксессуаров? Ведь это тебе ничего не стоит“», – вспоминал потом Глинка. Тогда Брюллов опять усадил на место человека, с которого писал портрет, велел Глинке сесть на свой стул и сказал: «Гляди на голову моего оригинала и заметь, насколько ты, не отрывая от нее глаз, видишь аксессуары, потом посмотри на одну голову портрета, – и ты увидишь, что аксессуары у меня всегда окончены настолько, насколько я их вижу, обращая внимание только на одну голову оригинала». Примерно то же самое ответил Брюллов и Анджело Титтони, который просил его завершить в портрете детали: «На что тебе хочется, чтобы я кончил этот твой портрет? Все, что есть самого важного, самого лучшего, все там есть». На основе этого принципа цельновидения построены многие лучшие портреты Брюллова – Крылова, Струговщикова, автопортрет. Многое из того, что некоторыми современниками Брюллова трактовалось, как небрежная незаконченность, на самом деле являлось одним из важных принципов творческого метода. Подтверждение своей правоты в таком вот отношении к «околичностям» он мог увидеть и у Гойи, которого тоже часто упрекали в незаконченности и который на эти упреки отвечал: «Я не считаю волос в бороде проходящего человека и пуговиц на его одежде, и моя кисть не должна видеть больше, чем я».
Та героика, та внутренняя сила, которыми пронизан портрет Анджело Титтони, целиком совпадают с биографией героя освободительного движения. Брюллов изобразил его не только таким, каким он видел, воспринимал своего друга, но таким, каков он был на самом деле. Нет ничего неожиданного в том, что и братьев его, Винченцо и Мариано, художник изображает в героической тональности – характеры моделей и в этом случае соответствовали именно таким приемам изображения. Но вот когда смотришь на портрет их матери, Екатерины Титтони, и в ее образе тоже находишь удивительную жизненную силу, энергию, собранность, когда видишь, как из четырнадцатилетней дочери Анджело, Джульетты, Брюллов делает героиню, не только латами и конем уподобленную Жанне д’Арк, но и готовностью к подвигу, возвышенным строем переживаний, вот тогда убеждаешься, что и сам автор стал сейчас другим, что изменилось его мировоззрение, отношение к жизни. Во всех почти портретах Брюллова, сделанных в те последних два года, нет и следа расслабленности, безволия, бездейственности. Он словно бы понял, что время размышления, пассивного углубления в себя, время рефлексии прошло. Оно миновало для России, а в Италии Брюллов оказался в окружении активно действующих людей, борцов, солдат революции. И он словно заражается их жизненной силой, их верой, их мужеством, их взглядом на жизнь. Неверно было бы предположить, что Брюллов попросту выдумывает или идеализирует своих новых героев. В самих характерах старой итальянки, взрастившей сыновей-борцов, и юной восторженной девочки, начинающей сознательную жизнь в столь грозное для родины время, были эти черты. Особенности душевного состояния художника сказываются прежде всего в том, что из числа многих других черт характера своих моделей он выбирает именно эти, ибо понимает, что сила, мужество, героика мобилизованы, призваны самим временем, которое переживала тогда Италия.
Великолепный портрет аббата, написанный Брюлловым в 1850 году, и еще более – портрет археолога Микельанджело Ланчи с очевидностью демонстрируют и еще одно свойство брюлловского портретного искусства последних лет. Дело в том, что изображенные им люди привлекают не только выраженной в их характерах действенной силой; созданные им образы ничуть не утратили и тонкого интеллектуализма, свойственного ряду портретов петербургского периода. Уже в характере Анджело Титтони ощущается это сочетание действенной силы и напряженной мысли. В портретах аббата и Ланчи гармоническое сочетание этих свойств выражено еще полнее.
В портрете аббата Брюллов решительно отсекает все второстепенное, весь небольшой холст почти целиком отдан голове. Лицо, глаза – вот что больше всего интересует художника. Об этом человеке мы не имеем никаких сведений, не знаем даже его имени. Если в прочтении портретов семьи Титтони на нас безотчетно могли воздействовать сами факты их биографии, то здесь мы можем целиком положиться только на то, что нам рассказал об этом человеке художник. Что же поведал нам Брюллов об этом незнакомце? Художник говорит нам, что это человек большого ума, развитого интеллекта. Мы ясно улавливаем это не только потому, что у него большой высокий лоб, хотя и это привычное, ходячее свидетельство ума несомненно оказывает на нас свое воздействие. И все же главное здесь – не черты лица, но мастерски уловленный, нашедший зримое, материальное воплощение характер. Многие современники отмечали это драгоценное для портретиста качество Брюллова – умение воссоздать в портрете не только глаза, но сам взгляд, не только уловить характерные черты, но то подвижное, казалось бы, неуловимое, что мы называем выражением лица. Незнакомец открыто встречает наш взгляд, отвечает на него взором требовательным, твердым, он смотрит на нас как бы даже с вызовом. Все мускулы его лица пребывают в состоянии крайнего напряжения – крепко сжаты зубы, сомкнуты резко очерченные губы, кажется, даже чуть повернутую влево голову он держит с напряженным усилием. Вот это-то сквозное напряжение и рождает в нас впечатление внутренней силы человека, действенности его натуры. Он весь – как сжатая пружина, готовая в любой момент во вне вылить скопившуюся энергию. Если, скажем, в портрете Струговщикова нас ждала встреча с человеком топкой душевной организации, большого ума, но силою обстоятельств обреченного на бездействие, то здесь мы видим человека-мыслителя, человека-действователя в одном лице.








