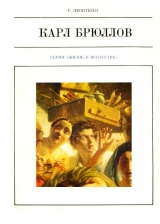
Текст книги "Карл Брюллов"
Автор книги: Галина Леонтьева
Жанры:
Искусство и Дизайн
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 29 страниц)
Еще в Москве он смог почувствовать, чем живет сегодня мыслящая Россия, еще там, в разговорах с Пушкиным, с Тропининым и другими москвичами он понял: для того, чтобы творить на родной земле, ему необходимо проникнуться «образом мыслей и чувствований» сегодняшней России. Теперь, в Петербурге, этот процесс приобщения к миру идей современности продолжается. В те годы Брюллов более всего сближается не с художниками, а с литераторами, музыкантами, актерами. Случилось это отчасти по стечению жизненных обстоятельств – благодаря Пушкину, благодаря возобновившейся дружбе с Глинкой, который вскоре сведет Брюллова с Кукольником. В течение нескольких последующих лет этот триумвират – Глинка, Брюллов, Кукольник, «братия», как сами они себя называли, – будет неразлучным. Но и не только поэтому. Дело в том, что к моменту его возвращения на родину в русском изобразительном искусстве воцарилось глухое затишье. Из числа ведущих мастеров одни состарились, другие перерождались на глазах, третьи ушли из жизни. 5 октября в Риме умер Кипренский. Годом раньше не стало Мартоса. Нет в живых Пименова, а Демут-Малиновский, став в 1836 году ректором Академии, целиком отдастся службе и ничего значительного уже не сделает. В архитектуре, после такого поразительно бурного взлета первой трети века, тоже нет былого блеска. Из корифеев жив только Росси, да и он, отставленный по приказу царя от дел, за десять оставшихся лет жизни не создаст более ничего. Самый великий живописец эпохи, Александр Иванов, в Италии. Брюллов видел там лишь раннюю его картину «Аполлон, Кипарис и Гиацинт», а теперь вот в Петербурге – «Явление Христа Марии Магдалине», недавно присланную автором в столицу. Другой замечательный русский художник, Федотов, в те годы только что получил билет на право посещения рисовальных классов Академии. Короткий блестящий взлет его искусства впереди, а пока что он командует ротой в лейб-гвардии Финляндском полку.
Профессора Иванов, Егоров, Шебуев, учившие Брюллова, к его возвращению перешагнули рубеж своего шестидесятилетия, и хоть им предстоит еще немало лет жизни (Шебуев даже переживет своего бывшего ученика на несколько лет), вершина их искусства осталась в далеком прошлом. Брюллов давно их обогнал, прежние учителя теперь ничего не могли дать ему. Судьба Иванова сложилась в те годы весьма печально, как, впрочем, и судьба его последних картин. Около пятнадцати лет трудился он над полотном, посвященным герою войны 1812 года Кульневу. Картина эта настолько пришлась не по вкусу императору, что старый профессор поплатился за нее отставкой от должности. Полотно это до нас не дошло, потомкам не довелось рассудить тот давний конфликт между царем и художником. Не сохранились и две картины, посвященные Петру I. Замысел одной из них очень интересен и необычен для академического искусства. «Скажу теперь об идее, которая мною выбрана по сей задаче: Петр I уничтожает предрассудки – это, по моему мнению, есть главное, с чего ему начать было должно», – писал Иванов сыну.
Вскоре, опять-таки по приказу царя, будет изгнан из Академии и профессор Егоров. Творчество его, начиная с 1830-х годов, переживает тяжелый кризис. Даже блестящий дар рисовальщика изменяет ему. Брюллов, будучи у Егорова, смотрел и не узнавал в этих вялых линиях, дробной, измельченной форме виртуозную руку бывшего учителя. Дольше всех «держался» из этих трех учеников Угрюмова Шебуев. Он не был так категоричен, не стремился, подобно Егорову и Иванову, непременно, во что бы то ни стало, сохранить верность обетам классицизма. Брюллов помнил, что еще в давних его работах – «Автопортрете с гадалкой», «Нищем» – было видно, что автор вовсе не чурался романтических веяний. Это чувствовалось и в ослепительно ярких контрастах светотени, и в куда более открытом, чем дозволял классицизм, проявлении чувств. Было заметно в его картинах и то, что Шебуев не проходил с закрытыми глазами мимо бурлящей вокруг него обыденной жизни. Даже в его церковных картинах для Казанского собора проглядывали уловленные в жизни жесты, движения, поразительные по верности детали. Сейчас он работает над большим полотном «Подвиг купца Иголкина». Брюллов вместе с остальною публикой увидит картину в 1839 году. И вместе с остальною публикой будет глубоко разочарован и безнадежно устаревшей идеей, и ординарностью ее пластического претворения. Мучительные попытки вырваться из плена академических установлений тут, правда, ощущались. Некоторые поговаривали даже, что Шебуеву захотелось проследовать за своим учеником, Брюлловым, отсюда, дескать, и эти преувеличенно бурные движения, и нарочито повышенное звучание цвета… Об упадке в творчестве Шебуева весьма красноречиво говорили и последние его церковные работы, вроде «Тайной вечери» для Тифлисского собора, и монументально-декоративные, к примеру, плафон в конференц-зале Академии, безжизненные, сухие, мертвенные. Печально прав был Кукольник, когда писал: «Что было у нас в то время, когда исполнялась картина „Последний день Помпеи“? Корифеи нашей живописи Егоров и Шебуев обогащали школу прекрасными произведениями; но вкус значительно изменился; их строгая, важная живопись, умеренность в колорите не удовлетворяли современным требованиям». Кукольник, не желая обидеть старых мастеров, льстит им, но никакими деликатными словами не заслонить горькую правду – современным требованиям русского общества их творения больше не отвечали.
Творчество такого высоко одаренного мастера, как Федор Толстой, тоже в те годы перерождается, клонится к упадку. 1836 год, когда он завершил серию медалей в честь войны 1812 года, стал высшей точкой расцвета его искусства, рубежом, за которым начался стремительный спад. В течение почти двух десятилетий, с 1828 года, он в качестве вице-президента фактически руководит всей работой Академии. А государственная служба в николаевской России неизбежно накладывала отпечаток на человеческую личность и отнюдь не побуждала к творчеству. Как вице-президент, Толстой должен был вести в Академии правительственную линию, претворять царскую волю. Человек честный, он старался исполнять свои обязанности добросовестно. А поскольку многие правительственные указания шли вразрез не только с интересами художников, но и наносили явный ущерб самому искусству, сколько раз приходилось ему, бывшему декабристу, поступаться своими убеждениями! К тому же Толстой принадлежал к числу преданных адептов классицизма, храня верность его канонам вопреки велению времени. В результате волею судеб он превратился в ревнителя консервативного академического искусства, официального искусства империи. Несмотря на это, он оставался человеком весьма привлекательным в общении, интересным собеседником, радушным хозяином. Квартира его помещалась рядом с брюлловской, и Брюллов часто будет бывать у него и на званых вечерах, и в будни, запросто. Подружится с его дочерью Марией и ее мужем, литератором Каменским, будет почетным гостем на крестинах их первенца. Но помощи в творческих поисках ни примером собственного искусства, ни образом мыслей теперешний Толстой оказать Брюллову тоже не мог.
Из сверстников Брюллова самым одаренным, самым многообещающим всегда был Федор Бруни. Он оправдал надежды своих почитателей, когда в 1824 году создал образец русского классицизма – «Смерть Камиллы, сестры Горация». Сейчас он, вместе с Брюлловым вызванный из Италии для занятия должности профессора исторической и портретной живописи, приступает к своим обязанностям. Снова они бок о бок, как когда-то в ученические годы, трудятся в Академии. Но былое соперничество ушло. Слишком по-разному они теперь и работают, и учат, и понимают задачи искусства.
Всего несколько лет назад, в Риме, произошел такой эпизод. Брюллов как-то зашел к Бруни и застал его за работой над портретом баронессы Меллер-Закомельской. Брюллов попросил разрешения заодно порисовать с натуры. Получив согласие, примостился в уголке мастерской и принялся за работу. Очевидец рассказывает, что, когда Бруни увидел, какой великолепный портрет сделал в один сеанс Брюллов, он заплакал… И все же из академических коллег чаще всего встречается Брюллов с Бруни. Однажды царь, недовольный образом Иоанна, написанного Бруни для обновленной после пожара церкви Зимнего дворца, спросил в Академии: «С кем из профессоров Бруни особенно дружен», – все хором отвечали: – «С Брюлловым». По-прежнему их имена произносили рядом.
В 1838 году Бруни уедет снова в Италию для работы над огромным полотном «Медный змий». Когда Брюллов увидит это произведение, он поймет, каким далеким, каким чужим стал ему бывший его сотоварищ. Он, Брюллов, всегда ненавидел рабство, всю жизнь стремился и в творчестве, и в каждодневной жизни защищать Человека, воспевать его духовную красоту и силу, отстаивать право на свободу. И он не остался непонятым своими современниками: написал же тогда В. Плаксин, что человек в «Помпее» «велик, могущ и непобедим»! Столкновение человека и высшей силы – Бруни в своей новой работе касался той же темы, которой был одержим Брюллов, работая над «Помпеей». Но какие противоположные выводы из сходной ситуации! Брюллов старался доказать миру, что человек в любых испытаниях должен сохранить достоинство, нравственную силу и чистоту. А бывший товарищ его, оказывается, полагает, что человек, маленький, слабый человек, должен, обязан смириться перед высшей силой, покориться ей безропотно, безоговорочно. Другого выхода для него нет. Если же будет роптать, если сделает попытку не покориться, его ждет мучительная гибель – как единственного не смирившегося героя картины Бруни… Как должна была прийтись по вкусу царю такая проповедь робкого смирения, непротивления, покорности верховной власти! Да и пришлась! Недаром именно Бруни сделался любимым художником императора. Именно он возглавит вскоре один из отделов Эрмитажа, именно он станет главным советчиком царя в делах закупки художественных произведений, именно он будет постоянным исполнителем самых больших церковных заказов. Вскоре после смерти Брюллова и до конца своих дней Бруни займет пост ректора Академии. Кое-кому из молодежи такая карьера представлялась соблазнительной. И это было страшно. Это давало академизму живучесть, вербовало в его ряды новых приверженцев. Вот что напишет много лет спустя, в 1874 году, Крамской в письме к Репину: «Бруни говорит, что „Бурлаки“ есть величайшая профанация искусства. Да, а Вы как полагаете? Вы небось думаете, что Бруни – это Федор Антонович, старец. Как бы не так, он из всех щелей вылезает, он превращается в ребенка, в юношу, в Семирадского… Имя ему легион! Что нужно делать? Его еще нужно молотом!.. И так без конца борьба!» На примере Бруни убеждался Брюллов и в том, как страшно, как пагубно для художника не слышать голоса своего Времени. Брюллов извлекает для себя немалый урок – художник не может не меняться, если меняется время, если иные мысли, иные идеи тревожат соотечественников. Искусство умирает, если теряет живые связи с жизнью.
Вот в каком положении оказывается Брюллов в те годы в Петербурге. Ему не с кем из своих сотоварищей по профессии посоветоваться, не с кем поделиться замыслами и сомнениями, обсудить те способы, которыми можно было бы в пластической форме воплотить новые, насущные идеи. В столетнюю годовщину со дня его рождения художник Н. Ге, высоко чтивший Брюллова, напишет горькие, но справедливые слова: «Брюллов все время пребывания в России был в тяжелом положении человека, который в нравственном и умственном отношении должен был давать и ничего ни от кого не может получить». Он – единственный, ему нет равных не только по судьбе, по мировой славе, но и по существу, по силе творческого горения. Он вырвался вперед, обогнал своих современников – и жестоко расплачивается за это одиночеством…
Впрочем, один живописец, с которым он мог говорить о самом своем сокровенном, самом главном, в Петербурге был. Он старше Брюллова на целых двадцать лет. Он всегда был чужд классицизму, а сейчас бесконечно далек от проторенных дорог академического официального искусства. В Академии он даже и не учился. Когда в 1824 году в Петербурге на одной из выставок появилась небольшая картина мало кому известного художника «Гумно», никто не превозносил автора, никто не увидел тогда события в рождении этого небольшого полотна. Лишь с годами стало ясно, какое место суждено ему занять в истории русского реалистического искусства. Звали этого скромного художника Алексей Гаврилович Венецианов. Брюллов прежде о нем не слыхал, лишь теперь встретился с ним – и с его произведениями. После встречи с Тропининым, Пушкиным, Гоголем, знакомство и дружба с Венециановым стали для Брюллова еще одним источником, из которого он черпал знание сегодняшней России. И в работах, и в рассуждениях Венецианова все было для Брюллова новым, необычайно интересным и во многом – как ни различно их творчество – близким. С жадным интересом и удивлением вглядывался Брюллов в картины Венецианова. В них поражало все – и то, что изобразил художник, и то, как, какими средствами, в каких пластических формах это сделано. Не Аяксы и Андромеды, а русские Иваны да Марьи населяли небольшие полотна. Они не совершали легендарных подвигов. Они пахали, жали, чистили свеклу, пасли скотину. Они жили, они просто жили обыкновенной своею жизнью на этих маленьких, едва в десятую долю любого классицистического полотна картинках. Какой же внутренней силой должен был обладать этот невысокий сухонький человек с мягким, каким-то даже тихим взглядом из-под неизменных очков, чтобы первому в целой России отрешиться от привычных тем, отказаться от мифов, отринуть условности и каноны! Брюллов, видевший русскую деревню лишь из окна кареты, открывал для себя новый мир, узнавал неведомую ему прежде простую, обыкновенную жизнь простых обыкновенных людей. На венециановских картинах теснились серые крестьянские избы, расстилались равнинные просторы русских полей, светило покойное неяркое русское солнце. Брюллова поражало, как все здесь просто, прекрасно и даже величаво! А люди? Брюллов впервые очутился лицом к лицу с простым человеком, исполненным такого спокойного достоинства и национальной красоты. Да, в сущности, и национальные русские костюмы он мог тут разглядеть впервые… Вглядываясь в черты этих людей, Брюллов думал: так вот, оказывается, за чью свободу боролись и погибли декабристы. Слышанные в Москве слова – «народность, национальность, правда жизни» – наполнялись сейчас в его представлении живым содержанием, облекались в людскую плоть. Ему, относившемуся к жизни с позиций возвышенных идеалов романтизма, было мило и понятно и то, что для своих картин Венецианов брал из жизни не первого попавшегося, любого человека, а выискивал тех, в ком проявлялись прекрасные черты – красота, достоинство, нравственная значительность. Близко было и то, что Венецианов не брал сцен, исполненных грубости, неприглядного убожества, душераздирающего трагизма, а лишь такие ситуации, где наиболее полно проявлялись лучшие черты. Брюллов ведь тоже стремился всегда отыскать «счастливый момент» в жизни тех людей, с которых писал портреты. Это мы сейчас говорим об идилличности, о налете идеализации в образах венециановских картин. Брюллову же тогда такой прием казался не только естественным, но и необходимым.
Конечно же, Брюллов понимал – так, как Венецианов, он никогда не будет, да и не сможет работать. Для рождения подобных народных образов нужна длинная череда лет, прожитых рядом со своими героями, а он так долго был отчужден от обыденной жизни России. Да и для того, чтобы так чисто, так непредвзято увидеть жизнь, наверное, лучше не иметь за плечами груза стольких лет академической выучки. Ведь Венецианов не копировал с детских лет изо дня в день чужих оригиналов и гипсов. Когда к Брюллову впервые придет Федотов, он, поглядев его работы, скажет ему: «Это-то, что не копировали, и счастье ваше. Вы смотрите на натуру своим глазом. Кто копирует, тот, веруя в оригинал, им поверяет после натуру и не скоро очистит свой глаз от предрассудков, от манерности». Какой-то скрытой горечью за себя, грустным сознанием, что ему-то самому уже не удастся до конца освободиться от предвзятости, коснуться глубинной правды натуры веет от этих слов великого Карла…
И вот что еще притягивало Брюллова к венециановским полотнам. Они были пронизаны светлым чувством покоя, гармонией бытия. В отличие от его, брюлловских приемов – бурное движение, стремительное действие, насыщенность цвета – Венецианов придерживался обыкновения изображать не переходные, а длительные состояния людей, его герои всегда показаны в житейской обстановке, нередко за каким-то занятием, но неизменно чужды беспокойства, резкости жестов. Душевное состояние Брюллова, взбудораженного всем, что он увидел на родине, мучительными размышлениями, было в ту пору тревожным, неустойчивым. В мире образов Венецианова он находил отдохновение. Да и само общение с мягким, деликатным художником, сумевшим не затаить на Брюллова зла, когда многие его ученики, привлеченные шумной славой мастера, покинули его, перейдя в брюлловскую мастерскую, было для Брюллова весьма отрадным. Как хорошо слушать его тихий голос: «Покой лучше веселья, и он добрее, его скорее можно найтить, – и он живет в своем кругу, в себе самом, в вере, в боге, и он растет, приходит сам-пят, сам-десят, сам-сто…» Для Венецианова пора метаний, поисков самого себя, смысла жизни, как, впрочем, и самых больших свершений, была позади. Из всех окруживших Брюллова по приезде в Петербург людей он был личностью наиболее сложившейся, наиболее цельной, и уже поэтому в глазах Брюллова стал и своего рода учителем. Он часто сам приходил к Брюллову, смотрел, как тот работает. Именно с Венециановым поедет Брюллов к Энгельгардту хлопотать о выкупе Шевченко из неволи. Венецианов не пытался наставлять Брюллова, он просто делился с ним своими соображениями – о жизни, об искусстве, об умении учить других. Он был чужд погоне за чинами, званиями, выгодой, считал, что счастлив тот, кого «не ослепляет едкий свет необузданной суетности», а тот, кто сделается «узником, влекущимся на золотой цепи в страшную неволю етикета, должности, чести и всякой модной сволочи обязанностей», – напротив, несчастнейший из людей. Еще любопытнее было слушать рассуждения Венецианова об искусстве. Впервые в жизни Брюллов встретил художника, который не только утверждал, но и в практике своей руководствовался столь смелым, столь новым принципом: только природа и жизнь могут быть источником искусства, о качестве художественного произведения можно судить по тому, насколько удалось автору передать глубинную сущность натуры. В работах великих мастеров, считал Венецианов, нужно видеть отражение реальности, а не готовые приемы изображения отдельных предметов: «…путь их к достижению совершенства была одна натура в ее изящном виде, почему слепое подражание произведениям сих великих не только нас не приближает к усовершенствованию изящных искусств, но лишить может художника навсегда сего намерения». Брюллов и сам уже не раз думал об этой проблеме, сам пришел к выводу о бесплодности внешнего подражания. Сколько лет подряд вдалбливали Брюллову и его сверстникам в Академии, что «неизящную» натуру надо непременно поправлять, глядя на античные образцы! А Венецианов тихим своим голосом, но весьма категорически говорил: «Тот, кто рано начал поправлять натуру, никогда не достигнет высшей степени художества». И еще одна идея Венецианова увлекла его нового друга. Он полагал, что высшая цель искусства – преобразование общества, что живопись «суть не что иное, как орудие, содействующее литературе и, следовательно, просвещению народа».
Пример Бруни показывал Брюллову, какой трагедией оборачивается для художника пренебрежение велениями времени. В лице Венецианова он нашел, по сути дела, единственного петербургского мастера, который услышал голос времени, услышал желание современников понять, а что же представляет собою российская действительность и люди, простые люди, которые кормят всю необъятную страну. И только потому, что Венецианов сумел ответить на запросы общества, на запросы времени, ему удалось наметить принципы нового направления в искусстве. Это был урок, которого Брюллов еще не получал…
Постепенно – из разговоров, встреч, посещения мастерских академических профессоров Маркова, Басина – перед мысленным взором Брюллова вырисовывалась цельная, но, увы, не очень отрадная картина состояния российских художеств. А тут еще в сентябре и октябре в залах Академии развернулись две подряд выставки, на которых сразу, вместе предстали перед ним многие последние работы современных живописцев и ваятелей. Брюллов ходил по залам со стесненным чувством – так вот как, значит, работают нынче его собратья: тут висит «Спаситель в вертограде», там «Вид Иерусалима». В портретном роде безраздельно господствует малоодаренный Плюшар. Яркие, нарядные картинки Тыранова приятны глазу, но пищи сердцу и уму дать никак не могут. А виртуозно выписанные детали только и могут вызвать ироническое замечание язвительного Осипа Сенковского: «Со времен серебряных пуговиц графа Шереметева работы Кипренского, лучших пуговиц и тщательнее вычищенных не бывало еще в продаже…» Брюллов хорошо понимал – рабское пристрастие к деталям не прихоть какого-то одного художника; когда нет большой одушевляющей идеи, чем же и заняться еще, как не ювелирною отделкой мелочей. Когда умирает большой стиль, его приверженцы, чувствуя это, всегда бросаются из одной крайности в другую – то впадают в схематизм, то ищут спасения в натурализме. Но и тогда уже самые прозорливые из современников отдавали себе отчет в том, что уход в мелочное правдоподобие не сможет вывести отечественное искусство на широкую дорогу. Вот что писал по этому поводу один из них: «Кто полагает высшею целию последнего [то есть искусства] хитро придуманное раскрашивание предметов и микроскопическое усмотрение всех рябинок и волосков на человеческом теле, тот представляет собою не более как механическую машину, нечто вроде дагерротипа, с тою разницею, что последний действует необыкновенно быстро и верно, передавая натуру почти непогрешительно, а человеческое подобие его со вниманием, устремленным исключительно на понятные ему одному мелочи, как вампир мучает свою жертву на бесчисленных сеансах».
Как бесконечно далеко было все, что увидел Брюллов на выставках, от того, что происходило в жизни, от великих идей народности и правды, о которых они так много толковали в Москве с Пушкиным! Сам Пушкин тоже посетил и сентябрьскую и октябрьскую выставки. Он приехал вместе с Натальей Николаевной, всех поразившей и красотой, и изяществом наряда – белое гладкое платье, черный бархатный корсаж, палевая соломенная шляпа с огромными, затеняющими лицо полями. Поэт ходил по выставке в сопровождении президента Оленина, быстро минуя картины академического толка, задержавшись лишь около небольшого пейзажа Лебедева и у скульптур молодого Пименова и Логановского, изображающих юношей, играющих в бабки и свайку. «Слава богу! Наконец и скульптура в России явилась народная!» – воскликнул он. И даже посвятил обеим скульптурам по четверостишию. Однако же от русского в скульптурах было разве что изображение народных игр. Недаром оба стихотворения поэт написал гекзаметром, недаром вспомнил античного Дискобола:
Вот и товарищ тебе, Дискобол! Он достоин, клянуся,
Дружно обнявшись с тобой, после игры отдыхать.
Действительно, оба героя скорее походили на родственников Дискобола, чем на деревенских русских парней… Но и то, что изображена-то была русская национальная игра, уже подкупило и обрадовало Пушкина.
Теперь, после знакомства с последними работами русских художников, Брюллов особенно ясно понял, почему его «Помпее» был оказан публикой такой горячий прием: в его полотне находили то, чего не видели в работах других – отражение современности, петербургской атмосферы. От него ждали, что именно он станет мастером, который обратится к действительной жизни, сумеет ответить на жгучие вопросы современности. Во всех адресованных ему похвалах таилось ожидание. Это звучало и в прессе московской и петербургской, и во всех устных приветствиях. Право, он и не предполагал, что разбудил в людях столько надежд. Особенно остро почувствовал это, когда как-то ему показали стихи молоденького мичмана Баласогло. Он был приятелем архитектора Норева, сочинившего ту самую кантату, что пели академисты в честь Брюллова, через Норева, видно, и пришли эти стихи в стены Академии. Волнуясь, читал Брюллов рукописный листок:
…Я неуч, но в твоей широкой панораме
Ясна твоя мне мысль, о современный ум!
Я вижу этот миг, мне внятен этот шум; —
Здесь жизнь, здесь человек, здесь драма в этой раме!
Не журналист, не художник – морской офицер да просто русский человек свидетельствовал Брюллову о глубоком понимании внутренней сути его замысла. Много лет спустя Брюллов вновь услышит его фамилию – Баласогло будет осужден по делу революционного кружка Петрашевского. Его устами обращалась к художнику молодая мыслящая Россия, одержимая идеями революционного преобразования. Она, эта молодая Россия, усмотрела в брюлловской картине жизнь, драму. Это она видела в художнике современный, то есть идущий в ритме со временем ум… Хватит ли у него сил, сможет ли он оправдать надежды соотечественников – вот в чем был главный вопрос. От него многого ждали. И это рождало в душе благодетельную для каждого творца уверенность, что его труд нужен людям.
С тем большим воодушевлением он берется за работу. Еще до исхода года он пишет несколько портретов. Портреты чередуются с первыми набросками композиции для «Осады Пскова». Работа над этим полотном, мучительная, сложная протянется долгих восемь лет, о ней говорить пока рано. Среди портретов, написанных вскоре после приезда в Петербург, есть два, в которых особенно глубоко обнаруживаются и душевное состояние автора, и волнующие его мысли: портрет старого доброго знакомого генерала Василия Перовского и портрет человека, с которым судьба столкнула его только что, но который в ближайшие годы войдет в число самых близких, самых коротких друзей художника – Нестора Кукольника. Перовский, произведенный после сражения под Варной в генеральский чин, служил нынче губернатором Оренбургского края. Брюллов вообще терпеть не мог писать «служивых» людей, однако Перовский был личностью исключительной: мало кому в николаевское время удавалось так успешно сочетать, казалось бы, несочетаемое – блестящую карьеру на государственной службе и либеральный образ мышления, высокое понятие чести. Он был близок с Гоголем, с Жуковским. У него останавливался Пушкин, когда ездил в Оренбург собирать материалы о Пугачеве, и не кто иной, как Перовский, уберег поэта от тайного надзора там; юный Лермонтов, задыхаясь в петербургской атмосфере, хотел поехать с Перовским в Хиву. Он не побоится хоть сколько-то облегчить участь Шевченко, когда тот окажется в ссылке в Оренбургском крае. Однажды какой-то чересчур ретивый чиновник в чине генерала явится доложить Перовскому, что ссыльный арестант Шевченко, несмотря на высочайшее запрещение писать и рисовать, сделал несколько эскизов. Перовский, грозно взглянув на доносчика, значительным тоном молвит: «Генерал, я на это ухо глух; потрудитесь повторить мне с другой стороны то, что вы сказали!» Чиновник, поняв, в чем дело, обошел Перовского и начал говорить нечто, вовсе не имевшее касательства к Шевченко… Даже это было проявлением известной смелости со стороны губернатора, ведь генерал мог не погнушаться и донести о его поведении в Петербург. Геройство в николаевскую эпоху мерилось иными мерками, взвешенными атмосферой наушничества, послушания, всеобщего молчания.
Человеком честным, смелым, сочувствовавшим декабристам, человеком, европейски образованным, болевшим за Россию, за отечественную словесность и художества, – таким Брюллов знал, почитал и любил Перовского. В Петербурге, где художник нашел, говоря словами Герцена, «вычищенную и выбеленную лейб-гвардию, безмолвную бюрократию, казаков с нагайками, полицейских с кулаками, полгорода в мундирах, полгорода, делающий фрунт, и целый город, торопливо снимающий шляпу», где редкий день проходил без печальных известий – такой-то посажен на гауптвахту, другой сослан, третий выгнан со службы, где со всех сторон слышались горькие сетования на то, что времена героизма миновали, – в этой смутной, гнетущей атмосфере Брюллову хочется отыскать и показать людям положительного героя. Посмотрите, вот какие люди есть еще на Руси великой – словно бы говорит своим соотечественникам Брюллов. Он выбирает для портрета героическую тональность. Перовский показан стоящим во весь свой значительный рост, художник сам любуется гордой статью его подтянутой, пружинистой фигуры. Нарядно золотится бахрома генеральских эполет, в мягком свете мерцает, переливается металл орденов – знаков героических отличий. Брюллову не хочется снижать праздничную приподнятость образа каким-нибудь обыденным действием. Перовский просто стоит, хочется даже сказать – предстоит перед зрителем, излучая собранную силу, непоколебимую твердость. Величественная устойчивость его позы оттеняется порывистым движением горячего коня, которого подводит к Перовскому киргиз. Далеко позади расстилается широкая киргизская степь с едва намеченными силуэтами вольно пасущихся лошадей. Брюллов и не скрывает условности фона, написанного без натуры, «из головы». Фон нужен ему больше всего для того, чтобы иметь повод дать в картине это небо с бурно несущимися облаками – прием не новый, не раз употреблявшийся романтиками как аллегория мятущейся души героя, его мятежных порывов. Наследником партизана Давыдова, романтического героя, созданного кистью Кипренского, кажется Перовский в этом портрете. Но только там героика проявлялась в иной, куда более свободной форме, героизм Давыдова тогда сливался с всеобщим, всенародным, там и личность раскрывалась открыто, непринужденно, с уверенной небрежностью. Человек другой эпохи, эпохи антигероической, Перовский замкнут, сдержан, сурово собран. На людей, на мир, на жизнь он смотрит сосредоточенно, настороженно, требовательно. Его мужество, его сила сказываются не в конкретном непосредственном действии, но в собранной готовности к действию. Хоть героика здесь и выражена несколько прямолинейно, односложно, тем не менее портрет Перовского с достаточной очевидностью показывает, как искренне хотелось Брюллову в той тяжелой атмосфере безвременья отыскать нравственную опору, дать пример характера мужественного, стойкого.








