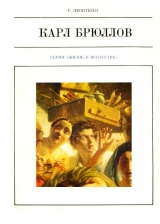
Текст книги "Карл Брюллов"
Автор книги: Галина Леонтьева
Жанры:
Искусство и Дизайн
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 29 страниц)
Распростившись с гостеприимной Одессой, Брюллов поспешил в Москву. 25 декабря, после многодневного утомительного пути, приблизились к древней столице. Вот уже миновали заставу. Едва въехали в город, усталость как рукой сняло. Брюллов ведь первый раз в жизни ехал в Москву. Жадными глазами глядел он по сторонам, боясь хоть что-то упустить. Окраинные улочки тут и там отстроены новенькими домами – пожаром 1812 года выгорела почти вся старая деревянная Москва. Ранние зимние сумерки спускались на город. В прозрачном воздухе отрешенно переговаривались колокола бесчисленных церквей. У папертей сбирался народ к вечерней службе. Близ мелких окраинных лавочек – публика иного сорта: маклаки-оборванцы с волосами, «проросшими сквозь картузы», отставные подьячие с готовыми челобитными «об обидах». Ближе к центру лавчонки сменяются солидными торговыми предприятиями, тут и там сияют вывески французских магазинов, содранные было после 1812 года. Покрутившись по кривым, узким переулкам, выехали на Тверскую. Лавируя между экипажами, ломовыми подводами, легкими санями, возок мчался вперед. Все ближе красные башни Кремля с зелеными кровлями. Вот уже видно, как над ними с громкими вскриками кружат бесчисленные галки. На круглых тумбах по всему городу пестрели свеженькие афиши: «3-го января, в пользу актера г-на Щепкина, в первый раз Фарисеев (Тартюф), комедия в 5 действиях».
Остановился Брюллов поначалу в доме Чашникова на Тверской. И в тот же вечер, после такого тяжкого пути, едва смыв дорожную грязь и переодевшись в чистое платье, помчался в Малый театр. Как же сильно, оказывается, стосковался он по всему русскому! Прибыв в Москву часа за два до начала спектакля, места в кресла он не достал, купил билет в стулья, расположился среди скромной публики. Вдруг – вот так встреча! – узнает в человеке, поправляющем в антракте лампы, своего академического товарища Каракалпакова, изгнанного из стен Alma Mater – тогда еще Брюллов стал во главе защитников своих товарищей, назначенных к исключению, да ничто не сломило злой воли Оленина… Судьба круто обошлась с Каракалпаковым. Он вел рисунок в Кадетском корпусе, где был у него любимый ученик Павел Федотов, теперь уже отбывший на службу в лейб-гвардии Финляндский полк в столицу. И что за жалованье учителя рисования в военном заведении – вот прирабатывает смотрителем ламп в театре. Обрадованный нечаянной встречей, старый товарищ сразу побежал к директору театра. Опять встреча со старым знакомым – директорствует здесь Загоскин, который много-много лет назад принимал в своем петербургском доме молоденького академиста Карла Брюлло. Теперь перед ним – великий Карл, мастер с мировой славой. Брюллова тотчас с почетом ведут за кулисы, представляют актерам, с восхищением глядящим на знаменитого соотечественника.
Среди массы окруживших его новых лиц Брюллов тотчас приметил небольшого роста человека с короткими ручками, с мягкими, какими-то круглыми движениями, быстрым, все замечающим острым взглядом. Михаил Семенович Щепкин стал первым новым знакомцем Брюллова в Москве. Это был не просто блестящий актер, о котором Герцен сказал, что «он создал правду на русской сцене». Это был в глубоком смысле слова передовой человек. В его доме, где и в будний день садилось за стол человек пятнадцать посторонних, помимо своей большой семьи (он содержал сирот своего друга, регулярно подкармливал бедных студентов), на нейтральной почве сходились люди самые разные: убежденные западники и ярые славянофилы – Белинский и Погодин, Герцен и Аксаков. Все любили его за доброе сердце, почитали за талант, уважали за ум. Для всех он был идеалом артиста и человека. Еще не раз встретится Брюллов в Москве со Щепкиным. Увидит его в «Тартюфе». Специально для художника артист будет читать на многочисленных обедах и вечерах – и в торжественной обстановке, и в узком кругу друзей.
О первом вечере Брюллова в Москве и о днях последующих подробнейшим образом написал своему другу Пушкину в Петербург Павел Воинович Нащокин: «Любезный друг Александр Сергеевич, долго я тебе не писал… Теперь пишу тебе вследствие обеда у Окулова, в честь знаменитого Брюллова… Уже давно, т. е. так давно, что даже не припомню, не встречал я такого ловкого, образованного и умного человека; о таланте говорить мне тоже нечего, известен он всему Миру и Риму. Тебя, т. е. твое творение, он понимает и удивляется равнодушию русских относительно к тебе… Он заметил здесь вообще большое чинопочитание, сам же он чину мелкого, даже не коллежский асессор. Что он Гений, нам это нипочем…» Письмо это очень интересно. Во-первых, оно обнаруживает, какое впечатление произвела на москвичей личность Брюллова, его ум, образованность. Во-вторых, показывает, как внимательно за все время отсутствия следил Брюллов за творчеством Пушкина. Он не только «понимал его творение», но и угадывал верным чутьем великую значительность поэта. Обилие подробностей в письме – Нащокин описывает и встречу Брюллова с Тропининым, и торжества – говорит о том, что он был уверен: Пушкина заинтересует всякая малость о прославленном художнике. Пушкин вскоре после этого письма прибудет в Москву, наконец состоится долгожданная встреча поэта и художника, которые уже столько лет заочно знали друг друга. Интересно еще и то, что они настолько стремительно подружатся, что в представлении того же Нащокина их имена будут стоять рядом: когда лет двадцать спустя, уже после смерти обоих, в Москве начнется повальное увлечение спиритизмом, Нащокин в один и тот же вечер станет «вызывать» дух Пушкина и Брюллова – один «продиктует» стихотворение, другой «набросает» бандита на скале и на вопрос Нащокина, каков из себя сатана, ответит: «Велик, велик, велик…»
Более же всего интересно это письмо тем, что оно с полной очевидностью показывает, каким огромным событием было в глазах москвичей возвращение Брюллова на родину. Да это и понятно. Крупных художников, помимо Тропинина, в Москве не было. Как мы увидим, вообще к моменту возвращения Брюллова в художествах русских царило некоторое затишье. К тому же по всей стране шел безудержный разгул реакции. Куда бы ни приходил Брюллов, с кем бы ни беседовал – всюду слышал вести о печальных событиях. Ему рассказывали, какие гнусные расправы чинились в Московском университете – в 1831 году прошли повальные аресты кружка Н. П. Сангурова, замыслившего убийством царя Николая спасти Россию. Чуть спустя из университета был исключен Виссарион Белинский за создание уже чисто литературно-философского кружка. Совсем недавно, в 1834 году, из Москвы были высланы Герцен и Огарев – об этом рассказывал Брюллову Щепкин и другие близкие друзья сосланных. В том же году по высочайшему повелению был закрыт один из лучших журналов той поры – «Московский телеграф», а его издателя Николая Полевого изгнали из Москвы. А всей вины-то – критическая статья на верноподданническую пьесу Кукольника «Рука Всевышнего отечество спасла»… Герцен говорил, что в те годы на поверхности русской жизни были видны «только потери, свирепая реакция, преследования, усугубление деспотизма». Прибывшему в Москву неофиту бросались в глаза и обывательские настроения москвичей. «В Москве мертвая тишина; люди систематически ничего не делают, а только живут и отдыхают перед трудом; в Москве после 10 часов не найдешь извозчика, не встретишь человека на улице», – так Гоголь писал об обыденной Москве. Был и еще один лик у Москвы, о котором так беспощадно сказал Пушкин:
Ты там на шумных вечерах
Увидишь важное безделье,
Жеманство в тонких кружевах
И глупость в золотых очках,
И тяжкой знатности веселье,
И скуку, с картами в руках…
Но была и еще одна Москва. Та, которую современники называли «очагом мысли». Тот же Герцен говорил, что, заглянув за фасад официальной жизни, можно увидеть, как «внутри совершалась великая работа – работа глухая и безмолвная, но деятельная и непрерывная». Там, в недрах общества, шла кипучая интеллектуальная жизнь. На лекции университетских профессоров Т. Грановского, С. Шевырева и других сходились толпы слушателей. Университеты называли «резервуарами умственной жизни народа». Кипит, волнуется «трудящееся сословие» студентов. На смену закрытым кружкам Сангурова, Герцена, Белинского приходят новые. Один из них, кружок Н. Станкевича, объединял лучшие умы Москвы. Одно и то же имя – Гегель – слышится всюду: «великий основоположник новейшей философии», «великий германец», как называли его тогда, откровениями своей диалектической системы увлек всех мыслящих людей. Журналы, как ни карает их правительство руками цензуры, учат публику думать, недаром их называют «вольной академией». Западники – Герцен, Белинский отчетливо видят трагические противоречия русской жизни. Славянофилы, при всей наивности их упований на крестьянскую общину, при всей идеализации патриархальной Руси, все чаще обращаются к современности, постепенно спускаясь из заоблачных сфер на многострадальную русскую землю. Встречаясь со многими москвичами, Брюллов вникал в их споры, прислушивался к доказательствам противников, пытаясь разобраться – кто же прав…
Для этой мыслящей Москвы приезд Брюллова и был великим событием. В нем видели художника, который своим творчеством окажется мощной силой прогрессивного лагеря. Вот что писалось в связи с его приездом в прессе: «Что теперь совершилось в картине, то совершится и в науке и в слове. Художнику надо было начать это завоевание славы европейской и предшествовать в общем триумфе нравственных сил нашего общества». Начало расцвета нравственных сил русского общества – вот что видели соотечественники в творчестве Брюллова, его считали предтечей расцвета русского искусства и высокой нравственности нации.
На самом себе Брюллов видел – да, искусство в теперешнем русском обществе занимало куда более важное место, чем в далекие времена его ученичества. Хоть нет пока специальных журналов по искусству, но раскрой любой из них – всюду есть раздел, посвященный изящным искусствам. А сколько выпускается книг по искусству, сколько гравюр, эстампов раскупается любителями – не счесть. Все интересуются искусством, много коллекционируют, мало кто не рисует сам, особенно среди литераторов. Нынче барышня считается недостаточно воспитанной, если хоть чуть не владеет живописью водяными красками. Молодые люди нарисуют вам и шарж на приятеля или директора департамента, и рисунок в альбом знакомой барышне. И неудивительно – рисунок преподается почти во всех учебных заведениях. Все растет, все ширится круг зрителей, увеличивается, а главное – разнообразится круг заказчиков. Уже не только дворяне, знать, но разночинные сословия, купечество, все чаще выступают в роли заказчика. Искусство врастает в каждодневную жизнь все более широких слоев народонаселения необъятной России.
Три дня спустя после приезда Брюллова в Москву состоялся торжественный обед в его честь, данный недавно учрежденным Художественным классом в доме Долгорукого на Никитской. Здесь присутствовала вся образованная Москва. Была даже выпущена брошюра с описанием торжества – пусть все те, кто не попал в число приглашенных, узнают, как москвичи чтят талант своего прославленного соотечественника. Знаменитый певец Лавров пропел своим приятным баритоном куплеты, специально сочиненные к этому случаю:
Тебе привет Москвы радушной!
Ты в ней родное сотвори,
И, сердца голосу послушной,
Взгляни на Кремль и кисть бери!
Тебе Москвы бокал заздравный!
Тебя отчизна видит вновь;
Там славу взял художник славный,
Здесь примет славу и любовь…
Распорядителем обеда был граф Михаил Федорович Орлов. С еще одним замечательным человеком свела судьба Брюллова. Два брата, Алексей и Михаил, были точно две полярные стороны тогдашней русской жизни: Алексей в 1844 году сменит Бенкендорфа на посту шефа III Отделения. Когда А. Смирнова-Россет придет к нему хлопотать о пенсии для Гоголя, он презрительно спросит, а кто это такой, и добавит сквозь зубы: «Охота вам хлопотать об этих голых поэтах». Михаил же – член «Союза благоденствия», под кличкой «Рейн» он состоял в Арзамасе. Был близким товарищем Пушкина. Во время кишиневской ссылки поэта они особенно сблизились – Орлов командовал там дивизией. У себя в дивизии он отменил телесные наказания, старался облегчить быт солдат, строго взыскивал с командиров за произвол и жестокость. Обо всем этом, конечно, последовал донос в Петербург. Его отстранили от дивизии. В 1826 году привлекли к следствию по делу декабристов – он был связан с ними и родственными узами: его жена, Екатерина Николаевна Раевская, которую так ценил Пушкин, была родной сестрой Марии Раевской-Волконской, последовавшей за мужем в Сибирь. Алексей на коленях вымолил у царя прощение для брата. С тех пор Орлов жил в Москве. Он был окружен тут вниманием и почетом, как Чаадаев, как опальный генерал Ермолов. Но его деятельная натура жаждала применения сил. Он принадлежал к числу тех патриотов, которые надеялись что-то сделать в условиях существующего строя. Но николаевскому режиму не нужны были мыслящие люди, царь словно бы намеренно окружал себя льстивыми посредственностями. Так было удобнее и спокойнее. Герцен говорил, что Орлов похож «на льва в клетке».
Орлов был, по словам Рамазанова, «одним из полезнейших первоначальных деятелей Московского художественного общества», созданного в 1833 году. Вокруг Художественного класса группировались все видные московские художники – В. Тропинин, И. Витали, Е. Маковский, братья А. С. и В. С. Добровольские. Через бывших соучеников по Академии И. Дурнова, К. Рабуса Брюллов вошел в их круг. Со всеми ними он постоянно встречается в Москве. Входит в заботы устроителей Художественного класса, обещает им помочь, прислать свои работы для выставки. Очень уж ему по душе их высокая цель – «образование вкуса общественного», создание общедоступной картинной галереи, библиотеки и собрания эстампов, курса лекций по истории художеств. Среди учеников Художественного класса были и люди крепостного состояния. Кстати сказать, по просьбе Брюллова два ученика были освобождены от неволи своими владельцами – графом П. Зубовым и графом В. Мусиным-Пушкиным, бывшим декабристом, с которым художник будет и переписываться, и встречаться в Петербурге. Как, однако, показательно, что именно с такой просьбой обращается Брюллов к своим новым знакомым!
От бесконечной череды торжеств он в конце концов немного приустал. «Не люблю я этих званых обедов, – сказал он как-то в сердцах, – на них меня показывают, как зверя. По-моему, лучше щей горшок да каша, зато дома между друзей». Время свое Брюллов делит между друзьями, новыми и старыми, бесконечными прогулками по Москве, и конечно же, работой. Уже столько месяцев прошло, как он не писал маслом – в путешествиях работал только акварелью, сепией да рисовал. Он истосковался по самому запаху масляных красок: «Наконец-то я дорвался до палитры», – приговаривал он, потирая руки. И за полгода пребывания в Москве успел сделать столько, сколько иному бы едва осилить в добрых два года.
Один из членов-учредителей Художественного класса, московский губернатор князь Д. В. Голицын, дважды побывав у Брюллова, подал мысль заказать ему картину о Москве 1812 года. И москвичам, и Брюллову идея эта пришлась по сердцу: «Я так полюбил Москву, что напишу ее при восхождении солнца и изображу возвращение ее жителей на разоренное врагом пепелище», – с жаром воскликнул он в ответ на предложение Голицына. И теперь, бродя изо дня в день по широким площадям и тесным переулкам города, стоя на колокольне Ивана Великого или глядя на панораму Москвы с Воробьевых гор, он до отказа полон видениями минувшего. То ему чудится Дмитрий Самозванец, рвущийся с чужеземными войсками к столице, то мерещится трагическая фигура Бориса Годунова, то оживает образ Петра и казненных им здесь, на Красной площади, стрельцов, то рисуется в воображении тень Наполеона около кремлевских соборов… По Москве Брюллов бродил, не зная усталости. Иногда прогулки дарили неожиданные и презабавные впечатления. Как-то раз, идучи с друзьями по Новинскому бульвару, он увидел балаган с зазывной надписью: «Панорама последнего дня Помпеи». Вошли. Пред ними предстала грубая, безвкусная карикатура на брюлловское полотно. «Чудо!» – смеясь воскликнул художник. Когда же он заметил предприимчивой хозяйке балагана мадам Дюше, что Помпея у нее никуда не годится, та высокомерно ответила: «Извините, сам художник Брюллов был у меня и сказал, что у меня освещения больше, чем у него…» А другой раз в витрине книжной лавки он увидел не менее забавное свидетельство собственной популярности: литографию, которая тоже называлась «Последний день Помпеи». Ничего не скажешь, некий Федор Бобель, хоть рисовать решительно не умел, но зато обладал весьма пылкой досужей фантазией: это была действительно «гибель» брюлловской «Помпеи»…
Ездил Брюллов и в московские пригороды. Побывал в Архангельском, восхищался тихой прелестью вековых деревьев парка, любовался ширью едва начинавших зеленеть весенних полей, неяркой синевой высокого русского неба. Но галерея тамошняя ему не понравилась. Особенно рьяно нападал он на Давида и его школу, находя теперь – как же сильно изменились его воззрения! – метод великого классициста и сухим, и безжизненным.
Несравненно хороша Москва с Воробьевых гор. Широко разметавшийся окрест город, с бесчисленными колокольнями, с золотом ослепительно горевших на солнце глав – казалось, их и вправду не меньше ста – виден отсюда до самых окраин. Видимо, привез сюда Брюллова Загоскин. Горячий патриот Москвы, всех неофитов он непременно влек туда, желая показать древнюю столицу «во всей красе». Толстенький, подвижный, добродушный, он всю дорогу болтал без умолку, сыпал поговорками. Когда поднялись на вершину, Загоскин смолк, круглое румяное лицо сделалось серьезным – красота и величие раскрывшейся панорамы не дозволяли ни шуток, ни суеты. Долго молча стояли они, глядя на расстилавшийся у ног город, «мать русских городов». Брюллов невольно вспомнил те ощущения, что охватили его там, в Риме, когда из фонаря собора св. Петра он впервые смотрел на Рим, – удивление, восхищение, восторг. То, что он испытывал теперь, не поддавалось пересказу столь же определенными словами. Больно и сладко сжималось сердце. Душа неодолимо тянулась ко всему этому – своему, родному, до слез близкому, что ничем нельзя заменить, никакими самыми прекрасными дальними странами. Любовь и горькая обида за полную превратностей судьбу родины смешались в одном неразделимом чувстве.
Ему хочется писать о родине. Мечта «произвести картину из российской истории» всегда, с юности жила в нем. Теперь, под натиском впечатлений Москвы, он в карандашных набросках пробует то одну, то другую тему. С молодых лет его, как и Пушкина, притягивает образ великого преобразователя России Петра. Когда Пушкин приедет в Москву, они без конца будут говорить о нем. Пушкин будет приводить длинный ряд возможных сюжетов, и на одном из них внимательно слушавший Брюллов остановит его словами: «Я думаю, вот такой сюжет просится под кисть», – и начнет развивать свою мысль, «кратко, ясно, с увлечением поэта». Так свидетельствует об этой беседе Е. Маковский. Сейчас в Москве Брюллова больше всего влечет сама Москва, ее судьба, ее подвиг в войне 1812 года. Наполеон и Россия, чужеземный тиран и патриотическое одушевление народа – вот какие сложные взаимосвязи увлекают его. К сожалению, дальше карандашных набросков дело не пошло. Поистине, к великому сожалению, ибо даже в тех крохах, беглых наметках, что он сделал, ощущается совсем другой, незнакомый Брюллов, художник, имеющий совсем иное понятие о сути исторической картины. Правда, простота, естественность, полное – впервые в работах Брюллова – отсутствие отголосков жестких правил классицизма видно в этих эскизах. Никаких групп, насильственно втиснутых в треугольник, ни следа пресловутой барельефности, никаких внешних эффектов. Все сдержанно, спокойно, глубоко трагично. Ясно, что художник, из-под рук которого вышли подобные эскизы, не мог после такого прозрения продолжать работу над «Нашествием Гензериха на Рим» – это было бы возвратом назад; с точки зрения сегодняшних его понятий эскиз был анахронизмом, чем-то безвозвратно пройденным, целиком принадлежащим прошлому.
Вот один из эскизов. Подавленная, обескураженная пустотой и пожарами, покидает Москву французская армия. Сплошным потоком, расстроенными рядами бредут, опустив плечи как под непосильной ношей, доблестные солдаты армии великого Наполеона, потерявшие в снегах России и доблесть, и веру в величие своего полководца. Над ними мощно и даже как-то угрожающе высятся кремлевские соборы. Как твердыня, как непоколебимая мощь России, как непокоренный дух народа. В другом эскизе – сам Наполеон. Он стоит у окна кремлевского дворца, заложив обычным своим жестом руки – за спину и за отворот жилета. Кажется, в этой привычности жеста он ищет опоры, хочет вернуть себя в мир привычных вещей и понятий в этой странной стране, где необычно все, где неожиданности на каждом шагу, где ломаются сложившиеся представления о завоевываемой стране, о покоряемом народе, о своей армии, о самом себе…
Брюллова давно, как, впрочем, и многих русских, в том числе Пушкина и Лермонтова, интересует личность Наполеона. Встреча, хоть и беглая, с Гортензией Бонапарт в Риме подогрела этот интерес. В журналах на протяжении целого десятилетия, начиная с 1830 года, появляются одно за другим стихотворения Лермонтова, посвященные Бонапарту. Поэт стремится, с одной стороны, постичь суть его величия, тайные пружины могущества этой личности, а с другой – показать обреченность его попытки покорить Россию. Первая идея пронизывает такие стихотворения, как «Эпитафия Наполеона», «Святая Елена», «Воздушный корабль», другая лежит в основе «Двух великанов», «Поля Бородина». «Хоть побежденный, но герой», – таково восприятие Лермонтовым личности Наполеона, в котором он видел наследника французской революции, спасителя ее от крайностей якобинской диктатуры. Брюллов в ряде набросков – «Наполеон на острове св. Елены», «Наполеон на Поклонной горе», – как и Лермонтов, пытается докопаться до глубин противоречивой сущности этого тирана-героя. Многосторонность в намеченном решении личности Наполеона, простота и освобожденность от каких бы то ни было канонов в решении композиции – все это обещало, что, будь картины написаны, в России, возможно, впервые бы появились образцы новой реалистической исторической живописи. Но короткой жизни Брюллова не хватило на такой бросок вперед. Вплотную подойдя к еще неведомому новому, он оказался не в силах осуществить свои догадки, претворить их в жизнь. Художник переломной эпохи, переходного времени, он сначала в нескольких греческих пейзажах сделал открытие пленэра, и, то ли не придав этому значения, то ли не имея желания или возможности, не смог удержать, развить свое открытие, продолжать начатое, наглядно продемонстрировать новые принципы в больших работах. Так и тут: прикоснувшись к новым способам решения картины в московских исторических эскизах, как бы забежав вперед времени по пути развития русского исторического жанра, он не сумел закрепить завоеванные, вернее, лишь увиденные позиции. И когда он в недалеком будущем начнет работу над «Осадой Пскова», все вернется «на круги своя» – картина будет решена в привычном для него виде компромисса между незабытым еще классицизмом и освоенным романтизмом. Зато в портрете – отчасти уже в Москве, а в основном по возвращении в Петербург – он с очевидностью и блеском покажет, как немал его вклад в нарождающееся искусство реализма. Во многих из них отличительными свойствами станут простота, естественность, глубина национального характера, что, по сути дела, и было выражением народности и реализма в портретном жанре.
Именно эти задачи стояли тогда перед русским искусством. Можно только удивляться, как человек, столько лет отделенный от родины тысячами километров, мог с такой чуткостью поймать, подхватить носившиеся в воздухе новые идеи. Такое доступно только истинному художнику. К середине 1830-х годов отгремели бои классицистов и романтиков. Отгремели не только в России, но и на полях художественной брани всей Европы. Романтики победили. Но, как нередко случается, сразу после долгожданной победы стало очевидно, что и романтизм не в силах вместить в свои тоже не безграничные рамки той тяги к правде, истинной народности, что обуревала тогда русское общество тем более властно, чем суровее и беспощаднее делалось правительственное давление. Встреча с Москвой, первая в жизни, а потому особенно его пленившая, тесное, открытое общение с москвичами стали для Брюллова тем огнивом, от которого в душе художника вспыхнули искры новых идей, новых озарений. В кругу москвичей Брюллов то и дело слышит слова, которые как-то не привык тесно связывать, прикладывать непосредственно к искусству живописи, – натуральность, народность, правда. Все читают и обсуждают только что вышедшую работу А. Никитенко, этого бывшего крепостного, который в течение многих лет будет потом исправлять должность цензора, – «О творческой силе в поэзии или поэтическом гении». Автор утверждал, что основою искусства может быть только «действительный человек, подчиненный условиям времени и пространства». Все громче, Заразительнее звучит голос молодого Белинского, для которого правда и поэзия неразделимы: «Где истина, там и поэзия». Причем истина стоит в его ставшей крылатой формуле на первом месте, как нечто исходное, первичное. Великий Пушкин, под пером которого родился русский реализм, первым утверждает право творца изображать «самый низкий предмет», узаконивая тем самым реалистический принцип равноправия всех сторон жизни как предмета искусства. «Нет предмета низкого в природе», – вслед за Пушкиным возглашает преклонявшийся перед ним Гоголь. Когда кто-то из московских знакомцев Брюллова достал экземпляр гоголевского «Ревизора», художник, прослушав пьесу, был вне себя от восторга и высшую свою похвалу выразил так: «Вот она, истинная натура…» – он уже начинает судить об искусстве с позиций передового русского общества, с позиций многих своих московских друзей. Он даже пользуется их фразеологией. Прежде он употребил слово «натура» в оправдательном письме Обществу поощрения по поводу картины «Итальянское утро». Какая эволюция от тех извиняющихся слов: «Я решился искать того предположенного разнообразия в тех формах простой натуры, которая нам чаще всего встречается и нередко даже больше нравится, нежели строгая красота статуй. Сии-то рассуждения и ввели меня в ошибку…» до нынешнего убеждения в том, что наиглавнейшее в художественном произведении – воплощение истинной натуры…
Многие встречи сильно повлияли на брюлловское мировосприятие. Но среди этого множества были две, которые, быть может, стоили почти что всего остального, – с Василием Андреевичем Тропининым, московским портретистом, и с Александром Сергеевичем Пушкиным.
О Тропинине он был наслышан. Иначе вряд ли на другой же день по прибытии в Москву очутился бы у него в гостях на обеде. Знакомство это было для Брюллова равносильным встрече с самим сегодняшним русским искусством. Брюллов сразу и надолго полюбил его за ровность нрава, за мудрость, доставшуюся ценой нелегкой судьбы – лишь к сорока семи годам освободился известный всей России художник от крепостной зависимости. Старый художник отнесся к Брюллову не только с обычным своим радушием, но и с почтением к таланту его. «Карл Павлович, – говаривал он не раз общим знакомым, – после всех иностранцев, приезжавших нас обучать и приносивших каждый свою манерность, указал нашей академии на истинный путь, которым должны следовать в живописи». Еще говорил, что работы Карла замечательны близостью к природе, естественностью колорита – все те же критерии, те же термины. Брюллов же как-то сказал: «Если бы мне пришлось поместиться на хлебах, то я пошел бы к В. А. Тропинину». Сам Тропинин в автопортрете вроде бы и хотел изобразить себя торжественно – на фоне Кремля. Однако и тут не укрылась его приветливость, близорукие глаза из-под очков глядят с такой добротой и радушием, что и правда хочется к нему «на хлеба»…
Брюллов мог часами, неотрывно смотреть на работы старого художника. Отчасти они могли заменить и новые знакомства – с его портретов глядела старая Москва, та обыденная Москва, о которой писал Гоголь, с тихой застойной жизнью, праздным и ленивым бытом местного дворянства. Незатейливость, какая-то «домашность» окутывает его героев. Вот московский барин Равич, немолодой франт в богатом красном халате, с модными бакенбардами, любитель вкусно поесть, после обеда всласть вздремнуть, а вечерком составить партию в вист с соседями. Сколько таких было в Москве – не счесть. Вот старичок слуга со свечой, вот старый одинокий бедолага с единственным своим другом – штофом. Еще один род москвичей – лицо совсем иного свойства: купец Коновалов, деловитый, энергичный, предприимчивый. Натуральность портретов Тропинина поразила Брюллова. Скоро, совсем скоро это скажется в некоторых интимных портретах петербургских друзей художника. Здесь, в Москве, Брюллов напишет «Гадающую Светлану». Хотя создана она по мотивам поэмы Жуковского, но от романтизма в ней куда меньше, чем от тропининских девушек: Светлана, испуганно-удивленно глядящая в зеркало в святочный вечер, с ее простоватым, но миловидным личиком выглядит родственницей или подружкой тропининских мастериц: «Кружевницы», «Пряхи», «Золотошвейки».
Тропинин писал в Москве портрет Брюллова. Вот это была истинная школа тропининского мастерства. Впервые Брюллов позировал такому большому и такому русскому художнику. С жадным интересом присматривался к его приемам, ведь так интересно художнику заглянуть в «кухню» своего собрата по искусству! Тропинин не только сам все время разговаривал, но и старался незаметно вовлечь в разговор свою «натуру», заставить Карла выйти из недвижной скованности, разойтись, оживиться. Это было само по себе наглядной чертой его метода, а словами он развивал свою мысль дальше, говоря, что нельзя человека усадить и заставить сидеть замерев, иначе будет мертвое напоминание о человеке, а не он сам, живой и теплый. Делился доверчиво своими соображениями о том, что «лучший учитель – природа; нужно предаться ей всей душой, любить ее всем сердцем, тогда сам человек сделается чище, нравственнее…» И вот что еще поразило Брюллова. Когда он смотрел на тропининские наброски с себя, ему казалось будто он глядится в зеркало, да не простое, а особенное, которое умеет передать не только его набрякшее, как после бессонной ночи лицо, с мешками под глазами, но и в тяжелом взгляде глаз отразить смятенное состояние души – боязнь чиновного Петербурга, боязнь завтрашнего дня, усталость, скрываемую от посторонних, но не ускользнувшую от цепкого взгляда Тропинина. Сам Брюллов почти не делал натурных рисунков для портретов, его подготовительная работа заключалась прежде всего в долгих поисках композиционного решения. Тут был новый для него способ работы над портретом, когда в предварительных рисунках с натуры идет процесс ее изучения, изучения досконального, претворения без всяких прикрас, смягчений, «подтягиваний» к идеалу. Но не меньшим уроком было и другое: на законченном портрете Брюллов выглядел таким, каким видели его сквозь восхищение москвичи; каким он хотел бы видеть себя сам – изящный, романтически приподнятый, ровно-приветливо улыбающийся человек на фоне Везувия; если и уцелела в его образе нота утомленности, то она в контексте портрета выглядит не более как усталостью от мировой славы.








