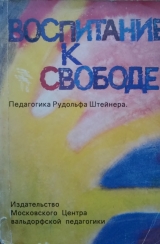
Текст книги "Воспитание к свободе"
Автор книги: Франс Карлгрен
Жанр:
Педагогика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц)
О деятельности Штейнера в школе
Седьмого сентября Рудольф Штейнер открыл школу. В сжатой форме изложил педагогические цели и задачи. Подчеркнул, что вальдорфская школа не будет школой строго определенного мировоззрения: «Тот, кто скажет, что вальдорфская школа ориентируется на антропософскую науку о духе и что в ней будет внедряться только это мировоззрение – я говорю это в день открытия школы – глубоко ошибается. Мы совсем не собираемся прививать наши принципы, содержание нашего мировоззрения молодым людям в период их становления. Мы совсем не стремимся к тому, чтобы осуществлять догматическое воспитание. Мы стремимся к тому, чтобы все, что может дать духовная наука, стало живым делом воспитания» ("Рудольф Штейнер в вальдорфской школе. Речи перед детьми, родителями и учителями”).
Когда школа начала функционировать, в ней было восемь классов и около трехсот учеников. Она носила имя той фабрики, с которой вначале было связано большинство родителей: «Свободная вальдорфская школа». Рудольф Штейнер принимал активное участие в работе школы, хотя жил в Дорнахе и постоянно был перегружен другой работой. Каролина фон Хейдебранд, одна из первых учительниц этой школы, в книге «Рудольф Штейнер в вальдорфской школе» очень ярко описывает начало ее работы:
«В начале работы вальдорфской школы учителя и ученики испытывали множество трудностей. Для детей все было совершенно новым. Даже в самых старших классах дети из разных сословий жили вместе. Вальдорфская школа была первой единой школой в Германии, в которой этот принцип соблюдался до старших классов. Гимназисты, ученики средних и народных школ учились в одном классе; вместе мальчики и девочки. Это было для них непривычно. Учителям тоже. Очень трудно было жить вместе».
Естественно, были трудности с дисциплиной. Рудольф Штейнер, который при своих частых посещениях Штуттгарта, уделял много времени вальдорфской школе, пришел как-то раз в шумный недисциплинированный класс. «Тогда он стал рассказывать классу одну историю: Он знает город, в котором есть одна школа, а в этой школе класс, в котором дети ведут себя так-то и так-то и делают то-то и то-то. Дети начали толкать друг друга и говорить: да это мы, он считает, что это мы. Но они не обиделись, ведь он ничего плохого им не сказал. Он объяснил им только, что все, что эти дети делают, сказывается на их учителях, вредит здоровью. А в конце педагог рассказал, как этот класс может стать лучше. Дети были умиротворены. И всегда, когда доктор Штейнер бывал в классе, наступало чувство глубокой удовлетворенности в истинном смысле этого слова. Дети успокаивались. Они чувствовали себя непринужденно, были веселы и совсем не так уж тихи – они не давали ему понять, что они очень послушны – но чувствовалось, что весь класс получал большое удовлетворение». «...Бывало так, что если на конференции шла речь о каком-либо ребенке из класса вальдорфской школы, Штейнер обычно спрашивал, где этот ребенок сидит – у окна, в середине на третьей парте, в углу, у двери и т. п. и он уже точно знал, о каком ребенке шла речь. Это было тогда, когда школа была еще маленькой. Позднее, когда учеников стало значительно больше, он просил показывать ему отдельных детей».
Для трудных детей, с которыми у учителей возникали неразрешимые проблемы, Штейнер находил множество неожиданных педагогических решений. Приведем несколько примеров.
Так, одному особенно трудному мальчику он предложил купить новые башмаки, или починить ему старые. Это благотворно подействовало на мальчика.
Герберт Хан рассказывает об одном мальчике, у которого была добрая мать, но очень тяжелые домашние условия. Мальчик был непоседливым и болезненного болтливым. Это мешало ему учиться. Классный учитель беспокоился о его развитии. Рудольф Штейнер посоветовал в течение нескольких недель ежедневно давать мальчику задание – подготовить дома один вопрос и спрашивать его на следующий день. Учитель воспользовался этим советом и обратил внимание на взгляд мальчика, когда тот правильно отвечал на вопрос, заданный ему накануне. «В нем появилось нечто спокойное, открытое, серьезное, чего не было никогда раньше. И все лицо мальчика выражало нечто особое от сущности этого взгляда». Так продолжалось и дальше. «И что удивительно, тот факт, что его спрашивали каждый день, и на следующий день он должен был отвечать, действовал оздоравливающе на душевную жизнь мальчика. У него появилась уверенность в себе, которая медленно начала возрастать». Мальчик существенно изменился.
Само собой разумеется, что наблюдения и советы Рудольфа Штейнера проистекали из его повседневной работы. На конференциях он детально и очень по-деловому рассказывал о своих наблюдениях за характером конкретных детей и как он, благодаря этим наблюдениям, ставил правильные диагнозы и предлагал соответствующие терапевтические мероприятия. Чтобы хоть приблизительно показать, как Штейнер работал, стоит привести хотя бы один случай из его практики.
Школьный врач д-р Эжен Колиско рассказал о семилетнем мальчике, который только что поступил в школу и оказался специфически трудным. «У него была неуклюжая, качающаяся походка и нетвердая осанка. Он был очень бледен, лицо вытянуто, челюсть отвисла, лоб сумрачно сморщен. Я не думаю, что он в своей жизни много смеялся. По малейшему поводу им овладевал неистовый гнев. Все его лицо было как маска, через которую не проступало ничего душевного». Он не мог принимать участие в регулярных занятиях и посещал вспомогательный класс. К удивлению учителей и врача, Рудольф Штейнер твердо надеялся на его выздоровление. Он говорил, что формирующие и созидающие силы, которые действуют в любом живом организме и которые можно наблюдать, если сосредоточить сверхчувственное восприятие, не способны проникнуть в соответствующее полушарие его головы. Штейнер предложил ряд медицинских и педагогических приемов. – «Уже через пару месяцев мальчик смог смеяться, его физиономия приобрела нормальный человеческий вид, он пробудился, перестал гневаться и в конце концов оказался очень милым мальчиком, о существовании которого никто раньше и не предполагал.
... После трехгодичного курса лечения, этот мальчик очень хорошо влился в коллектив детей своего возраста. Его родители сменили место жительства и теперь, когда ему уже двенадцать лет, он учится в другой школе вместе со своими сверстниками. Я совершенно убежден, что без такого курса он никогда не смог бы включиться в регулярное обучение. Рудольф Штейнер видел этого ребенка один или два раза. И то, что он обнаружил в первый же раз и смог это объяснить, спасло ребенка».
Когда мы рассказываем о таких случаях, которые показывают, что судьба каждого ребенка воспринимается индивидуально, может создаться впечатление, что первая вальдорфская школа создана прежде всего для трудных детей. Но это не так. Специфически трудные дети посещали вспомогательный класс, который вели чрезвычайно искусные учителя, за их работой Рудольф Штейнер следил особенно внимательно. И современные вальдорфские школы основаны для здоровых и обычных детей. Поскольку нет никакого отбора и никакого противостояния между учителями и учениками – дисциплина основывается на доверии и совместной работе – самостоятельные инициативные дети могут умело пользоваться своими правами.
Взаимоотношения между учиелями и учениками
Манера преподавания в первой вальдорфской школе была для того времени очень свободной. Рудольф Штейнер не был сторонником обязательных домашних заданий в младших классах. Он рекомендовал давать свободные задания, которые были бы составлены так, чтобы пробуждать у детей интерес; только в пятом или седьмом классе приобретают значение обязательные работы. Он отвергал строгую, чисто внешне обязательную дисциплину. Занятия с кисточками и красками, тетради для рисования, декламация, театральные представления, пение и музыка делали жизнь в классе разнообразной и подвижной. Тон в школе был достаточно непринужденным. Ученики старших классов пользовались такой свободой, о которой их сверстники в государственных гимназиях могли только мечтать. Рудольф Гроссе, который впоследствии долгие годы был вальдорфским учителем, в семнадцатилетнем возрасте в 1922 году поступил в десятый класс. В своей книге «Прожитая педагогика» он так описывает свои первые впечатления: «Для ученика, который пришел из обычной гимназии, все в вальдорфской школе было ошеломляюще новым. Когда я переступил порог своего класса, с которым должен был теснейшим образом срастись, меня окружила группа молодых людей, чья открытость, прямота и раскованность привели меня в дикий восторг; казалось, каждый определял границы своего поведения». Естественно, в младших классах были обязательные правила распорядка, но их, насколько это возможно, было мало. В общем и целом единственная сила, на которой держалась вся школьная работа – непосредственный человеческий контакт между учителями и учениками. Если такой контакт нарушался, очень быстро возникали проблемы, решение которых требовало от учителя больших внутренних усилий.
Проблемы школы старшей ступени
Рудольф Штейнер заметил, что в старших классах дистанция между учениками и некоторыми учителями начинала увеличиваться. Тон преподавания, по его мнению, становился слишком поучительным, меньше было бесед и непосредственного человеческого общения. Это приводило постепенно к конфликту, о котором он, как иногда оказывалось, тщетно предупреждал. Так, однажды одна из учениц написала Рудольфу Штейнеру письмо, приглашая его встретиться для разговора со всем классом в кабинете административного совета. Рудольф Гроссе вспоминает: «Он сидел за большим письменным столом, а мы расположились вокруг него полукругом, и некоторые из нас стали высказывать наши требования. Высказались четыре или пять учеников, и каждого Рудольф Штейнер выслушал спокойно и серьезно. Сам он не говорил ни слова... Что двигало учениками? Они рассказывали, что им не нравится, как учитель ведет уроки, что он часто позволяет себе отвлекаться от преподавания, чем некоторые пользуются и что поэтому он учит их недостаточно; что учителя знают учеников только по своим урокам, не стараясь узнать ребят вне этих уроков, и так далее, и тому подобное. Разговор продолжался не менее получаса. Штейнер нас дружески выслушал и отпустил, не вступая ни в какие дискуссии. Когда же мы пришли в школу после каникул, мы с удивлением обнаружили, что по основным предметам были другие учителя и все преподавание было построено так, как мы давно хотели.» Вероятно, следует еще добавить, что эти изменения произошли при полном взаимопонимании между Рудольфом Штейнером и учителями, о которых шла речь.
Все воспоминания, связанные с первыми годами работы первой вальдорфской школы, свидетельствуют о том, что тогдашние учителя сами были в высшей степени учениками. Уроки, которые им задавала повседневная работа в школе, а также Рудольф Штейнер, были очень полезны – в истинном смысле этого слова – но и очень трудны. Тот, кто хотел подключиться к этой работе, должен был учитывать, что обучение это проходило не в тихой изоляции, а в процессе разрешения самых разнообразных задач, возникавших во время работы.
Кульминация событий
В 1922-1924 гг. жизненная драма Рудольфа Штейнера достигла своей кульминации в результате целого ряда примечательных событий. Он принял настоятельное приглашение одного известного немецкого концертного агентства, которое организовало ему в январе и феврале 1922 г. турне с докладами по крупным городам Германии. За первые две недели этого турне он выступил в общей сложности перед 20 000 зрителей. По мере того, как рос интерес к Рудольфу Штейнеру и его антропософии, росло и число его противников. Во время своего второго турне в мае того же года Рудольф Штейнер оказался в угрожающей ситуации: в двух городах – Мюнхене и Эльберфельде – жизнь его подверглась опасности со стороны нарушителей общественного порядка. Их подстрекатели, которые позднее примкнули к национал-социализму, видели в Рудольфе Штейнере, с его космополитическими идеями и позицией, основанной на внутренней свободе, своего главного противника. В новогоднюю ночь с 1922 на 1923 год было подожжено и полностью сгорело деревянное здание Гетеа-нума. Параллельно с этими событиями антропософское движение, которое начало работать во многих социальных, научных сферах и в области искусства, внося туда свои новые идеи, стало испытывать внутренний кризис. Это произошло большей частью потому, что сподвижники Рудольфа Штейнера, взявшие на себя его задачи, оказались не способными справиться с ними ни в деловом, ни в духовном плане. Он был вынужден в долгих беседах и на заседаниях разъяснять ошибки и просчеты и формулировать новые идеи. Вальдорфские учителя интенсивно работали с ним, причем повседневная работа в школе должна была идти своим чередом. Они смогли найти в себе силы для восстановления только благодаря своему постоянному внутреннему развитию. Гроссе говорит об этом следующее: «Если оценивать их достижения с точки зрения сегодняшнего дня, каждому можно выдать диплом только с отличием. Я никогда не знал таких учителей, которые бы так самоотверженно посвящали себя педагогической деятельности, как учительский коллектив первой вальдорфской школы». Официальная инспекция вюртембергского школьного ведомства, проводившаяся с 19 октября по 13 ноября 1925 г., в подробном отчете полностью признает превосходную методическую работу школы и дает прекрасную оценку учителям. «Этот учительский коллектив с его высочайшим духовным и моральным уровнем» придает школе своеобразие и поднимает ее на большую высоту.
Сам Рудольф Штейнер во всех этих событиях является наибольшей загадкой. Глядя на него, можно было часто заметить, как тяжело ему переносить тройную нагрузку нечеловеческого труда, резкие нападки общественности и неумелость коллег. Но никогда он не терял ни работоспособности, ни контроля над собой. В день нового 1923 г., вечером после пожара, который вместе с Гетеану-мом уничтожил результаты его десятилетнего труда как художника и архитектора, он уже стоял во временном зале за кафедрой; несколькими трогательными тихими словами прокомментировав это событие, он приступил к своему естественнонаучному докладу, который стоял в программе. Весь 1924 г., когда его работа, заключавшаяся в непрерывной череде докладов, курсов лекций и дискуссий достигла высшей точки, он был уже тяжело болен. Среди всех областей практической и социальной деятельности, в которые он заложил основы, особенно начали вскоре выделяться биолого-динамическое сельское хозяйство и антропософская лечебная педагогика. По единодушному мнению его коллег, именно в этот год он излучал больше всего жизнерадостности и непосредственной человеческой теплоты.
Работа с учителями
Рудольф Штейнер давал понять учителям, что он постоянно думает об учениках. Когда он приезжал в Штутгарт, учителя чувствовали, как ответственно он относился к работе в вальдорфской школе. Протоколы конференций сообщают о напряженной работе над повседневными педагогическими проблемами, над планами уроков и учебными планами, методическими проблемами и над всем, что было нужно персонально для личности каждого отдельного ученика. Рудольф Штейнер всегда очень хорошо ориентировался в тонкостях текущей школьной работы. В этой фазе становления новой педагогики он с полным правом выполнял роль руководителя школы. Его мгновенная сообразительность и компетентность при решении сложнейших вопросов, связанных, например, с такими предметами, как история, литература или искусство, биология, физика и математика, были потрясающими. Но это его преимущество никогда не подавляло его коллег. Конференции учителей, проводимые под руководством Рудольфа Штейнера, превратились в текущие семинарские занятия. Он учил учителей прежде всего тому, чтобы они в каждом ребенке могли увидеть вопрос, ту божественную загадку, которую воспитатель, благодаря искусству воспитания, проникнутого любовью, должен решать до тех пор, пока этот ребенок не найдет сам себя.
Ученики
Вполне очевидно, что исполненный любви человеческий интерес, с которым относились к ученикам их учителя во время их школьной жизни, способствовал тому, что в детях проявлялось все самое лучшее.
Когда во время праздников Рудольф Штейнер, разговаривая с ними, имел обыкновение спрашивать: «Любите ли вы своих учителей?» – они с восторгом отвечали: «Да». И это не было результатом массового внушения. Благодарность большого числа бывших учеников, выражаемая школе и учителям, совершенно очевидно доказывает, что этот возглас «Да» был выражением истинного чувства. Насколько была сильна внутренняя связь воспитателей и воспитанников, Рудольф Штейнер почувствовал в последний год своей жизни, когда ученики первого выпуска школы на встречах выпускников и при личных встречах выразили желание сохранить контакты с учителями и с ним; они говорили, что испытывают глубокую потребность в беседах, в советах по выбору профессии и в дальнейшей учебе. Жизнь показала, что любовь бывших учеников к школе сохранилась, но образ мышления молодых людей постепенно приобретал у каждого собственный путь. В дальнейшем мало кто из учеников вальдорфской школы стал заниматься антропософией, и это лишний раз доказывает, что учителя выполняли чисто педагогические задачи.
О социальных целях вальдорфской педагогики
Как мы видим, истинной целью движения за социальную трехчленность было выявление и развитие таких человеческих способностей, которые необходимы для гармоничного сосуществования человечества на Земле. Речь идет о социальных качествах, которые мы могли бы назвать «внутренними органами», необходимыми для свободы, равенства и братства. Рудольф Штейнер потерял надежду на то, что сразу после первой мировой войны можно будет осуществить трехчленность всей жизни общества, соответствующую этим качествам, но он заложил основы педагогики, открывающей возможности развивать социальные способности воспитанием и обучением.
Последующие суждения могут показаться произвольными, но они в сжатой форме передают то, что раскрывает и подтверждает дальнейшее изложение книги. Эти положения явились плодом действительных наблюдений жизни. Рудольф Штейнер был первый, кто всеобъемлющим образом открыл законы душевной жизни, о которых пойдет речь. Любой, кто захочет, сможет проверить их действие на окружающих и на всей общественной жизни человечества, и найти им собственное подтверждение. В дошкольном возрасте преобладает стремление к подражанию. Ребенок подражает не только видимым фактам, но и образу мыслей человека, который долго находится рядом с ним. Это становится составной частью его жизни и его поведения. Моральные качества, которые ребенок таким образом перенимает у окружающих, являются решающими в его будущей жизни. Тот, кто в раннем детском возрасте не смог удовлетворить, реализовать эту потребность прежде всего из-за недостаточного душевного контакта с родителями, останется подражателем навсегда, неуверенным, неудовлетворенным собой человеком, который нередко следует примерам примитивнейших людей, встречающихся на его жизненном пути. В экстремальных случаях, что все чаще наблюдается в промышленно развитых странах, он становится морально ущербным. Психиатры и криминалисты могут многое рассказать о людях, которые в детстве были беспризорниками; этими людьми владеют в большей или меньшей степени звериные инстинкты, которые часто приводили и приводят их в тюрьму, в том числе и в глубоком душевном смысле слова.
Своеобразие любого человеческого «Я» и его право на личную неприкосновенность зиждется в его способности в необходимой степени подавлять низменные инстинкты.
В возрасте примерно семи лет у ребенка появляются новые стремления. Ребенок хочет идти в школу, хочет учиться, и вполне определенным образом: он хочет иметь внутреннюю опору, он хочет испытывать полное доверие к учителю, всему, что тот говорит и делает. Другими словами, он нуждается в том, что Рудольф Штейнер называет словом «авторитет». Конечно, истинного авторитета нельзя завоевать строгостью или даже силой.
По-настоящему уважают только тех, кто сам испытывает искреннюю симпатию к детям. У детей, которые в первые годы жизни получали достаточную пищу для удовлетворения своей потребности к подражанию, это стремление к авторитету разумеется само собой. Если же такая потребность не удовлетворена, то в более позднем возрасте могут возникать отклонения в поведении. Дети, которым слишком рано пришлось принимать самостоятельные решения и выдавать самостоятельные суждения, нередко чувствуют определенную неуверенность; их недоверчивость, их стремление к противоречию, свидетельствуют не о силе духа, а о внутренней слабости. Поскольку потребности в подражании в раннем детстве не были удовлетворены, они ищут для себя, особенно в подростковом возрасте, так называемые «особые авторитеты» среди поп-музыкантов, героев «дикого Запада» или политических диктаторов. Недостаток стабильности, который часто господствует в их жизни, приводит к тому, что в дальнейшей жизни им будет очень трудно естественным образом работать вместе с другими людьми.
В период полового созревания (пубертатный период) пробуждаются другие потребности: стремление проверить внешнюю сторону бытия и научиться понимать насыщенную жизнь человека во всех ее «углах и извивах». То есть, другими словами, человек достигает такого возраста, когда у него формируются действительно глубокие интересы. Для того чтобы это состоялось, он нуждается в людях, умеющих ненавязчиво наладить с ним душевный контакт, подсказать ему истинный путь к знаниям и деятельности, помочь найти смысл жизни, предостеречь от безличной пустоты, так характерной для многих современных профессий.
Если ребенок скучает на школьной скамье или готовится к профессии, которая не дает ему пищу для ума и для развития его вкуса, то это – особенно, если он живет в большом городе,– чревато многими опасностями. У подростков, если они, благодаря полученному к этому возрасту соответствующему воспитанию, жизнелюбивы и уверены в себе, потребность в углубленном познании мира и человека возникает как бы сама собой.
Итак, социальные способности, которые можно воспитать на описанном здесь пути, в двух словах, таковы:
Через подражание в дошкольном возрасте – к осознанию свободы и неприкосновенности других людей.
Через авторитет в школьные годы – к чувству уверенности в жизни, а благодаря этому к способности демократической совместной работы.
Через обучение, осуществляемое в подростковом возрасте в близком человеческом контакте с учителями – к углубленному интересу к миру и условиям жизни окружающих людей.








