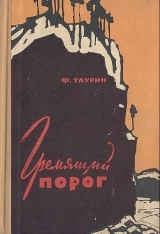
Текст книги "Гремящий порог"
Автор книги: Франц Таурин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц)
ГРЕМЯЩИЙ ПОРОГ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
– Подождите, – сказала Наташа, – не могу я… дальше идти… – Она опустилась на тропу, привалилась на бок, сминая высокие стебли иван-чая, и съежилась, подтянув колени к самому подбородку.
Аркадий испуганно смотрел на искаженное болью лицо Наташи.
– Понесем ее, – сказала Люба Броднева. – Чего уставился? Не может она идти.
Люба склонилась над подругой, бережно приподняла голову Наташи, заправила под косынку свисавшую на глаза прядку светлых волнистых волос.
– Я сама, – сказала Наташа и с усилием поднялась на колени.
– Не упрямься, – сказала Люба. – Поднимай ее! – прикрикнула она на Аркадия.
Они взяли Наташу на руки и понесли по тропе, полого вздымавшейся по распадку.
Идти с ношей в гору было трудно, особенно Любе: она была намного ниже Аркадия. Пока дошли до медпункта, несколько раз останавливались перевести дух. Домик, срубленный из свежераспиленного, не успевшего еще потемнеть бруса, приютился на крохотной полянке между высокими соснами, смыкавшими свои кроны над тесовой кровлей. Глядевшие в распадок окна были открыты настежь. В верхних створках окон плавилось горячее летнее солнце.
Наташу усадили на широкую ступеньку крыльца. Аркадий заглянул в раскрытое окно и крикнул:
– Принимайте больную!
Сестра вышла на крыльцо с книжкой в руках. Поглядела на сжавшуюся в комочек Наташу и сказала:
– Нет у меня места.
Потом положила раскрытую книгу корешком вверх на подоконник и спросила: – Что у нее?
– Она… оступилась, – растерянно сказал Аркадий.
Сестра подошла к Наташе, присела на корточки и привычными, заученными движениями ощупала колени и ступни ее ног.
– Не там смотришь! – не выдержала Люба. – Надорвалась она. Бревно несла.
Сестра поглядела снизу вверх в сузившиеся глаза Любы.
– Тогда надо ее в больницу.
– Не дойдет же она! Не видишь разве? – возмутилась Люба. – А ты чего пристыл? – прикрикнула она на Аркадия. – Беги за бригадиром!
Но Федор Васильевич уже торопливо поднимался по распадку, размашисто перешагивая через поваленные, отливающие медью стволы и ржавые от усохшей хвои кучки хвороста.
– Что же вы ее здесь посадили? – спросил он строго, кивнув в сторону Наташи.
– Говорит, некуда, – ответила Люба.
Не останавливаясь, Федор Васильевич прошел в медпункт. Сестра вошла за ним. Аркадий вытянул шею, прислушиваясь.
– На койке кто? – резко спросил Федор Васильевич.
– Из первой бригады, ногу порубил, – ответила сестра.
Федор Васильевич так же быстро спустился с крыльца, легко и вместе с тем осторожно поднял Наташу на руки и понес в медпункт. Наташа не успела или не смогла сказать ни слова и только посмотрела на него грустно и растерянно. Люба хотела крикнуть ей вслед что-то ободряющее, но, перехватив этот взгляд, промолчала.
– Федор Васильевич, да что же вы, право?.. – протяжно, плачущим голосом запротестовала сестра. – Нельзя же в перевязочную. Вдруг порубится кто или еще что случится…
– Уже случилось! – оборвал сестру Федор Васильевич. – Дай ей чего-нибудь. Видишь, ее всю стянуло от боли.
Люба вздрогнула и так сердито посмотрела на Аркадия, что тот сжался под ее взглядом.
Федор Васильевич остановился на крыльце, отер кепкой пот с лица и устало опустился на ступени. Сказал Любе с укором:
– Что же вы, девчата, самовольничаете? Сто раз говорил вам, не хватайтесь за бревна. Ваше дело – сучья убирать.
Люба потупилась.
– Чем вам это бревно помешало?
– …Это я… это я виноват, – решился, наконец, Аркадий. – Я хотел костер развести… на этом месте… чтобы ближе сучья подносить…
Федор Васильевич как будто только заметил его.
– Заботу проявил? – жестко переспросил он. – Толкнул донку под комель, а сам выпрягся!
– Я… споткнулся.
– С этих пор начнешь, всю жизнь спотыкаться будешь.
Откровенное презрение бригадира словно подхлестнуло Аркадия.
– Вы больше моего виноваты! Это не женский труд!
– Верно говоришь, не женский. Только чей же, если такие лбы от работы прячутся?
– Вы мне нотации не читайте! Я…
– Мне с тобой и говорить тошно. Пусть тебе нотации читает Кузьма Сергеевич. Скажи ему, что я тебя из бригады выгнал.
Аркадий опешил. Он собирался козырнуть именем отца. Теперь сказать ему было нечего.
Но Федор Васильевич уже и не смотрел на него.
– Люба, беги на участок, – сказал он. – Забирай первую машину – и сюда. Я тут обожду. И скажи, чтобы позвонили в больницу.
Представитель главка в продолжение всего разговора расхаживал по кабинету из угла в угол. Это раздражало Набатова. Было в этой манере Круглова что-то начальственно-покровительственное, даже пренебрежительное. Во всяком случае, несовместимое с серьезным разговором, который они вели.
– Мне, дорогой Кузьма Сергеевич, понятны ваши патриотические, так сказать, чувства. Увлеченность своим делом всегда похвальна. И я могу вас понять.– Круглое остановился у открытого окна и картинным жестом простер руку.– Дикое величие природы! Потрясающая воображение мощь этой великолепной реки! Противоборство человека и стихии!.. Должен признаться, дорогой Кузьма Сергеевич, в душе я тоже романтик…
«Чиновник ты, а не романтик»,– подумал Набатов и, словно опасаясь, как бы не сказать лишнего, крепко сцепил зубы, так что крупные желваки обозначились на его широком скуластом лице.
– …Но, кроме романтики, существует экономика, с ее железными законами, и в наш сугубо практический век она и определяет направление технического прогресса.
Набатов откровенно поморщился, но Круглов не заметил этого; он снова зашагал по кабинету, неторопливо переставляя длинные ноги.
– Я могу вас понять,– повторил Круглов,– но вы видите только свою стройку и, поскольку ваш кругозор ограничен столь тесными рамками, вам, уважаемый Кузьма Сергеевич, трудно быть объективным. И вы упускаете из виду весьма существенные обстоятельства,– Круглов произносил слова отчетливо и размеренно и каждым шагом словно припечатывал каждое свое слово,– весьма существенные: время и деньги. Что время—те же деньги, давно известно, а наше время – вы понимаете, в каком смысле я это говорю,– дороже всяких денег…
– Павел Петрович,– не выдержал Набатов,—мы инженеры и аргументировать должны не общими рассуждениями, а цифрами и расчетами!
– Кузьма Сергеевич,– мягко возразил Круглое,– не забывайте, существуют общие принципы.
– Общий принцип один – благо народа. – Это уж слишком общий принцип,– улыбнулся
Круглов.– Но я согласен танцевать и от этой печки. Извольте! Строительство тепловых электростанций экономически выгоднее, чем строительство гидростанций. Это подтверждается и опытом и расчетами, как с точки зрения стоимости строительства, так и с точки зрения сроков строительства.
– Это прописные истины.
– А вы спорите! – Круглов остановился и, широко улыбаясь, развел руками.
– Буду спорить! – упрямо сказал Набатов.– И цифрами докажу!’ На нашей гидростанции,– он подчеркнул слово «нашей»,– установленный киловатт обойдется не дороже, чем на тепловой. А время… Пока вы составите проекты, утвердите их и развер—нете строительство тепловых станций, наши турбины уже будут крутиться! Мы два года работаем, а вы хотите зачеркнуть наш двухлетний труд!
– Почему я? – Круглов снова развел руками.
– Ваш главк!
– При чем тут главк? Надо же понимать… Это линия!
– Насчет линии и общих принципов мы уже договорились. Сейчас я говорю о деле.
– О деле? Извольте! – уже с явным неудовольствием, произнес Круглов, и наигранная благодушная улыбка на его бледном, с точеными строгими чертами лице сменилась откровенной усмешкой.– Вам, полагаю, известно: сроки строительства Красногорского рудного комбината сокращены. Почему – также, полагаю, известно. Стране нужен металл. Через два года Красногорск должен выдать руду металлургическим заводам. Красногорску нужна энергия. Вы дадите ее через два года?
Круглов остановился и испытующе посмотрел на Набатова.Тот угрюмо молчал.
– Выход один: строить крупную тепловую станцию.
– А кто вам построит Красногорскую тепловую за два года? – зло спросил Набатов.
– Видимо, вы.
– Я?!
– Я имею в виду коллектив строителей Устьинской гидростанции,– подчеркнуто официально произнес Круглов,– ну и, естественно, вас лично, как руководителя этого коллектива.
«Тебя бы заставить!» – хотелось крикнуть Набатову, но он сдержал себя. К чему спорить? Кому доказывать? Разве Круглов отстаивает свое мнение? Так решено в главке, в министерстве. А Круглов… он «организует выполнение», «проводит в жизнь». И ему глубоко безразлично, что «проводимое» им решение противоречит живой жизни. Прикрыть стройку, «законсервировать»…—и слово-то какое нелепое, будто речь о груде огурцов!.. А стройка уже сейчас, еще не набрав сил для полного размаха, уже вросла в жизнь своего края. Пока они с представителем главка ведут никчемный спор (ни один из них не убедит другого), в приемной дожидаются люди. И у каждого дело к нему, Набатову. Там не только работники стройки. С утра дожидается председатель колхоза из соседнего села Вороновки.’Ему Набатов обещал помочь тракторами и автомашинами. К часу дня приедет секретарь райкома. Задумано большое дело: сплошная электрификация района. Тоже надо помочь и советом и делом. Уже сейчас стройка нужна людям, нужна народу. Прикрыть стройку —все равно, что резать по живому…Круглов по-своему истолковал молчание Набатова.
– Не понимаю, чего вы страшитесь Красногорска? Может быть, вы думаете, что это будет совнар-хозовская стройка? Нет, Рожнову мы вас не отдадим.– Круглов не заметил усмешки Набатова.– Могу вас заверить, строительство Красногорской станции останется в ведении министерства. И скажу нам откровенно, Кузьма Сергеевич,– Круглов снова попытался взять доверительный тон,– непонятно мне, что вы так уцепились за эту стройку? Ведь это же сумасшедший риск! Проектировщики до сих пор спорят, как перекрывать эту бешеную реку. Тут в два счета голову сломить! И совсем другое дело – тепловая станция. Там вы строите на сухом берегу. Имеете под ногами твердую почву…
– А здесь? – перебил его Набатов.– Здесь все забросить, похерить двухлетний труд!.. Нас здесь двенадцать тысяч! – голос Набатова наливался глухой яростью.– Начинали с палатки, с землянки. На голое место пришли… А теперь все бросить!
– Кузьма Сергеевич, понимаю я вас,– теперь Круглов говорил осторожно, как говорят с тяжелобольным.– Но другого выхода нет. Не… разумно,– он хотел сказать «нелепо», но сдержался, остерегаясь раздражать Набатова,– неразумно строить одновременно и тепловую станцию, которая нужна нам сегодня, и гидростанцию, которая нужна будет только завтра.
– Она нам сегодня нужна! Круглов только пожал плечами.
– Вопрос о консервации вашей стройки, по сути дела, решен. Я оставлю вам проект постановления коллегии министерства. Хотелось бы, чтобы вы его завизировали.
«Вот почему ты вокруг меня юлишь!» – подумал Набатов.
Круглое, словно не замечая откровенно презрительного взгляда Набатова, спокойно достал из портфеля проект – несколько листов плотной хрустящей бумаги, соединенных проволочной скрепкой,– и положил на стол Набатову.
Когда Круглов ушел, Кузьма Сергеевич несколько раз перечитал проект и долго сидел один в тяжелом раздумье. Надрывно звонили телефоны – он не снимал трубки. Заглядывали в дверь и заходили какие-то люди – он отсылал их нетерпеливым движением руки.
На заглавном листе проекта, выше отпечатанного синими буквами названия министерства, ярким красным пятном выделялся государственный герб. Набатов, не отрываясь, смотрел на него, и он то сжимался в острую красную точку, то расширялся, окрашивая весь лист.
«Что ты можешь сделать?» —снова и снова спрашивал себя Набатов.
Стройка – его детище, главное дело его жизни – обречена на консервацию. И ему – ему самому! – предлагают подписью скрепить это решение…
Ну и что же?.. Подписать?.. Никогда! Он будет доказывать, отстаивать свою правоту. Да, строить тепловые станции, как правило, дешевле и быстрее. Но здесь, в Сибири, особые условия. Многие гидростанции Сибири, и прежде всего Устьинская – его детище,– исключение из этого общего правила. Он может доказать это. Ему не надо ворошить толстые тома проекта. Это его дело, его жизнь. И каждая страница, каждая цифра живут в его сознании. За ними массивные громады бетона и ажурные переплетения металлических конструкций, умный труд людей и мощный гул турбин, извергающих потоки энергии…
Он может доказать! Но кому?.. И зачем?..
Он снова посмотрел на лежащий перед ним проект постановления коллегии министерства.
Разве человек, который, сидя за двухтумбовым столом в одном из многочисленных кабинетов главка, «готовил» эту бумагу, нависшую над стройкой как мрачная туча,– разве он, этот человек, не знает цифр проекта Устьинской ГЭС? Разве люди, которые за длинным столом в зале заседаний министерства превратят эту бумагу из проекта в постановление и тем самым зачеркнут труд и мечту его, Набатова, и двенадцати тысяч его товарищей по труду и мечте,– разве они, эти люди, не знают цифр проекта Устьинской ГЭС?.. Они их знают. Больше того – они знают, что цифры эти точны.
Но что им цифры, когда у них есть «линия»!
Федор Васильевич сам отвез Наташу в больницу. Вместе с Любой они под руки ввели ее в кабинет хирурга. Боль у Наташи не проходила, но она уже притерпелась, и, только всмотревшись в запавшие ее глаза, можно было понять, как трудно ей удерживаться от стонов.
– Кто дежурит в хирургической? – спросил Федор Васильевич в регистратуре.
– Зинаида Петровна,– ответили ему.
– Самый лучший наш врач,—сказал Федор Васильевич Наташе.
Дежурный хирург, пожилая уже женщина, выглядела очень суровой. Может быть, потому, что носила большие очки в темной роговой оправе.
– Попрошу вас выйти, – строго сказала она провожатым.
Федор Васильевич безропотно подчинился. Люба тоже двинулась к двери, но, перехватила тревожный, испуганный взгляд подруги.
– Можно мне остаться? – робко попросила она. – Да ей и не раздеться самой.
Уловила ли строгая Зинаида Петровна безмолвную просьбу больной или вспомнила, что дежурная сестра занята в палате и помочь ей не сможет, только Любе позволено было остаться.
– Наденьте халат!
Люба кинулась в угол, где на гвозде висел длинный белый халат, но, еще не дойдя, остановилась, рывком сдернула с плеч брезентовую спецовку и, не зная, куда ее деть, открыла дверь и швырнула куртку в коридор.
Зинаида Петровна молча наблюдала за ней, с трудом сдерживая улыбку.
Люба бережно усадила Наташу на стул, осторожно стянула с ее ног старенькие, порыжевшие сапожки, помогла снять куртку, шаровары и выцветшую от стирки кофточку.
Короткая сорочка, из которой Наташа уже выросла, туго обтягивала грудь и открывала выше колен красивые, сильные ноги.
– Помоги ей лечь.
Наташа опустилась на узкую кушетку и зябко поежилась: тонкая, отглаженная простыня показалась очень холодной.
– Больно? – участливо шепнула Люба.
– Нет, ничего… – так же тихо ответила Наташа.
Сейчас ей было не так больно, как страшно.Зинаида Петровна долго осматривала Наташу.Люба, не отрываясь, следила за движениями ее рук, неторопливо ощупывавших напряженно-неподвижное тело Наташи. Строго поблескивали стекла очков в массивной темной оправе, отчего сосредоточенное лицо женщины казалось еще более хмурым, и Люба кусала губы, чтобы не расплакаться.
Вошла сестра со свертком белья в руках. Равнодушно спросила Любу:
– Что с ней?
– Надорвалась она. Тяжелое несла.
– Не берегутся, а потом вот, пожалуйста… – сестра развернула сверток и стала переодевать Наташу в больничное.
Люба с надеждой и страхом смотрела на хмурое лицо врача.
– Бить вас некому! – сердито сказала Зинаида Петровна. – Такой великолепный организм! Такое прелестное тело! Калекой могла остаться, на корню засохнуть! Да и сейчас еще…
– Доктор, а что же с ней будет? – жалобно спросила Люба.
– А то, что ничего не будет. Здоровья не будет! Рожать не будет!
У Любы даже губы побледнели.
– Ой, доктор! – взмолилась она. – Как же теперь?..
– Не ойкай раньше времени! – цыкнула на нее Зинаида Петровна. – Мы-то зачем здесь?
Наташу на коляске повезли в палату. В коридоре дожидался Федор Васильевич. Пропустив коляску, он осторожно тронул сестру за руку.
– Что врач сказал?
– Полежит у нас в стационаре.
– Очень худо ей?
Сестра с раздражением отмахнулась. В палату Федора Васильевича не пустили. Он попрощался с Наташей в коридоре.
– Ты, главное, духом не падай, – сказал он ей и, не решаясь пожать, подержал в своей руке маленькую, покрытую ссадинами руку Наташи.
А она уже совсем обессилела от боли и только легонько пошевелила пальцами.
Коляску вкатили в палату. Федор Васильевич остановился в дверях, провожая взглядом Наташу. Только ее большие синие глаза жили на обесцвеченном болью лице.
Федор Васильевич помахал ей рукой. Наташа медленно сомкнула ресницы, и Федор Васильевич понял, что это она кивнула ему на прощание.
– Выздоравливай скорее! Мы навещать тебя будем, а сегодня…– но сестра закрыла дверь, и то, что еще сказал Федор Васильевич, Наташа уже не слышала.
В палате было всего три койки. На той, что у двери, сидела женщина и неторопливо расчесывала длинные, прохваченные сединой волосы.
– И молодых хворь не минует, – покачала головой женщина. – Ох, грехи наши! Ей беда, а я, дура старая, рада: хоть будет словом с кем перемолвиться.
– Вы, мамаша, ее теперь не беспокойте,– предупредила сестра..– Ей уснуть надо. Я ей сейчас укол сделаю.Наташа очень боялась уколов, но тут она даже не обратила внимания на слова сестры. Пусть делают что угодно. Только бы, хоть ненадолго, забыть об этой неотступной, словно прилипшей к ее телу боли…Молодая развесистая березка, словно жалея Наташу, протянула к самому окну свои тонкие, гибкие ветви. Из окна виден круто уходящий вниз склон, поросший’ высокими соснами. В просветах между толстыми стволами видно широкое плесо реки, перехваченное лохматой грядой порогов, а дальше – пока хватает глаз – россыпь зеленых островов, опоясанных голубыми лентами проток и рукавов реки.
Все это мельком увидела Наташа, когда ее укладывали на койку. Но постоять у окна, распахнутого в красоту, не было сил. Сейчас она желала одного: скорее бы заснуть…
Проснулась Наташа вечером. Боль стихла, но шевелиться было страшно, и она лежала неподвижно, вытянув руки вдоль усталого, будто чужого тела.
Отблеск заката широкой полосой окрасил потолок и стену над дверью. Соседка по палате спала, временами вздыхая во сне. И Наташе показалось, что она уже очень много времени в этой комнате с голыми стенами, а ее работа на лесоучастке и несчастье, столь, внезапно свалившееся на нее, отодвинулись куда-то так же далеко, как отъезд на стройку, как жизнь там, дома…
Воспоминание о доме вызвало тревожную мысль: как сообщить о случившемся матери?Наташа долго размышляла и решила: «Ничего не буду Писать. Напишу потом, когда выйду из больницы». А сама подумала: хорошо, если бы мать и сестренка пришли сейчас, посидели с ней… Нет, не хорошо. Снова горе для матери. А его и без того слишком, слишком много было… Нет, как только хоть чуточку легче станет, надо написать ей письмо – ласковое, веселое: пусть думает, что у дочки все хорошо…
Все хорошо… Нет, давно уже не все хорошо. И не в сегодняшней беде дело. Это пройдет, поболит и пройдет. Уже давно ей трудно и горько после памятного для нее разговора с Вадимом, когда разошлись их пути.
Может быть, она говорила с ним очень резко, очень обидно для него, но ведь она была права. Поступок его был постыдным, позорным. Сотни, тысячи парней и девчат мечтали об этой путевке, как о счастье, а он пришел в райком и с наигранной улыбочкой вернул путевку. Разве могла она говорить спокойно?
– Тебя захлестнула болотная романтика,– сказал он ей тогда, даже не выслушав до конца.
– Болотная? —с укором переспросила она.
– Ну, пусть таежная,– отмахнулся он, сдвинув брови.– Не в словах дело. А впрочем, где тайга, там и болото. Так даже в учебнике географии написано:
Он стоял перед ней, высокий, не по годам осанистый, и снисходительно усмехался.
– Вадик! Что ты говоришь?
– Я всегда говорю то, что думаю,—высокомерно ответил он.– Хотя бы это шло вразрез с мнением его величества коллектива. И надеюсь всегда быть искренним в своих словах и поступках. И даже не считаю это доблестью.
И тогда она сказ.ала ему:
– Вадим, мне жаль тебя!
Его большие серые глаза сузились и потемнели.
– Пожалей себя! – со злостью бросил он.– Послушная овечка в дисциплинированном стаде.
– А ты…—задыхаясь от волнения, выкрикнула она,– ты… благоразумный уж!
Он заставил себя улыбнуться.
– Пятерка по литературе оправдана. Впрочем, умолкаю. Ужи не жалят.
Он церемонно поклонился и ушел не оглядываясь.А она проплакала всю ночь.В оставшиеся до отъезда дни она не искала встречи с Вадимом. Наверно, и он не искал. Однажды они едва не встретились на улице. Но когда их разделяло всего несколько шагов, он резко свернул и скрылся за стеклянной дверью магазина. Проходя мимо, она взглянула на вывеску. Это был магазин фотографических товаров. Фотографией он не занимался. Это. она точно знала.
Она старалась не думать о нем. Старалась, но не могла. Много лет они были дружны. Между ними не было еще произнесено слов о любви, но они знали, что это впереди и что это будет. И вот все рухнуло. Он не поедет к ней. Она ему совсем не нужна…
Она корила себя за слепоту и беспечность, за то, что, гордясь им, привыкла смотреть на все его глазами и не заметила, не почувствовала, как он менялся день ото дня, как уверенность в своих силах перерастала у него в самомнение, а решительность и твердость – в деспотическое высокомерие.
Матери она ничего не сказала. Мать сама заметила и прямо спросила, едет ли Вадим.
– Нет,– ответила она.
После этого в доме больше о нем не вспоминали. Только, младшая сестренка Олечка как-то спросила:
– Почему Вадик к нам перестал ходить?
– Некогда ему по гостям расхаживать,– строго сказала мать.– Ему заниматься надо. К экзаменам готовится.
– Можно подумать, мама, что ты осуждаешь Наташу за то, что она едет,– вступилась Олечка за сестру.
– А-ты не думай,– просто сказала мать и улыбнулась.– Заступница!
…Нет, мать ее не осуждала. Наташа не услышала ни одного слова упрека. А разве ей было легко? Только теперь, очутившись в этой унылой палате, среди этих голых, печальных стен, Наташа впервые по-настоящему поняла, чего стоило матери ее безропотное согласие…
На другой день, уже под вечер, пришла Люба.
– Порядочки у вас тут! – сердито сказала она Наташе, насупив крутые бровки. От этого круглое ее лицо с коротким прямым носиком стало до невозможности строгим, так что Наташа не могла сдер жать улыбки.—Вчера не пустили. Спит. Сегодня – тоже спит. Сказала им: пока не увижу, не уйду. Чего смеешься, с ними только так и надо. Ну, а ты как? Болит?
– Меньше,– все еще улыбаясь, ответила Наташа.
– Девчонки тебя жалеют. Надька до утра проревела. Хотели бригадой к тебе идти – с работы не отпустили. Я одна с обеда отпросилась: В воскресенье все придем. На Аркашку злятся. А он тоже пришел к тебе.
– Кто он?
– Аркашка. Его не пустили. Вот, просил тебе передать.
Люба подала красную коробку. На коробке распластался в беге олень с длинными ветвистыми рогами.
Наташа нахмурилась, но взяла. Развернула вложенную в коробку записку.
– Чего пишет?
Наташа молча протянула ей бумажку.
– «Товарищу по несчастью»,– вслух прочитала Люба.– Скажите! Тоже товарищ! Хорош! Правда?
Наташа ничего не ответила. Ее отвлек шум в коридоре. Там спорили.
– Куда я тебя поведу? – сердито говорила дежурная сестра.– Фамилию не знаешь?
– Так, поди, не одни же Натальи у вас тут лежат. Вчера ее положили.
– Ну, иди, иди, старый! Раз вчера, значит в этой палате.
Вошел старичок, маленький и седенький. Глаза у него были голубые, веселые, совсем не стариковские. По глазам и лицо – темное, иссеченное морщинами– казалось моложе. В длинном, не по росту, халате он выглядел совсем крошечным и смахивал на елочного гнома.; не хватало только бороды.
– Вот она, стало быть, девица Наталья,– весело сказал старичок, подходя к койке.– Ну, здравствуй, будем знакомы! Демьянычем меня зовут, Василием Демьянычем.
Наташа смотрела на него, ничего не понимая.
– Вы и вчера, дедуся, приходили? – спросила Люба.
– Приходил, девонька, приходил,– подтвердил старичок.– Федя говорит; «Сходи проведай, своих у нее никого здесь нет. Снеси,– говорит,– чего-нибудь вкусненького…» А чего снесешь? В магазине, кроме консервы рыбной, чего купишь? Принес вот тебе свой лесной гостинчик, ягодку голубичку,– и поставил на тумбочку в головах Наташи банку с ис-синя-черными ягодами.
– Спасибо, дедушка,—поблагодарила Наташа.
– Кушай на здоровье, красавица. От лесной ягоды вреданет, одна польза.
– А вы, дедуся, откуда… узнали, что Наташа здесь лежит? – спросила, наконец, Люба.
– Говорю, Федя послал, бригадир ваш Федор Васильевич. Сын он мне приемный,– пояснил старичок.
– Видишь, Наташа, какой он, Федор Васильевич! – сказала Люба.
– Такой, такой,– подхватил старичок,– обходительный он и душевный. Всегда такой был, с изма-летства…– И засмеялся дробным, стариковским смешком.– Из-за этой его обходительности раз даже в беду попал.
– Как это в беду? – неосторожно полюбопытствовала Люба.
– А вот я вам сейчас расскажу,– охотно отозвался старичок.– Как эта, значит, доброта его мне другим боком обернулась. Было это еще в войну, в последний-год. К весне, в марте, надо быть, или в феврале. Пошел я под вечер в баню. Завернула мне старуха бельишко, дала трешницу, и подался я. Еду в 7грамвае и гляжу, стоит солдат, в шинели, с котомкой, ну как есть Федя. А от него уж почитай три года и писем не было. И где он, живой ли, нет ли,– ничего не известно. У вокзала стал солдат сходить. Я за ним.
«Федя!» – кричу.
Обрадовался он.
«Наконец,– говорит,– свиделись. Третий год вам безответные письма пишу. Пришел домой, а там и дома нашего нету».
«Нету,– говорю,– разбомбили. На другой улице живем. Пойдем,– говорю,– скорей. Старуха все глаза повыплакала».
«Невозможно,– говорит,– батя. Два часа всего у меня сроку было. Поезд отходит. Надо свой эшелон догонять. Пойдем, батя! Выпьем по маленькой для встречи».
Зашли на вокзал в буфет. Народу битком. Остановил Федя официантку, симпатичную такую, беленькую, вроде как вот Наташа, остановил и подмигнул ей,– а парень он всех мер, ну да что вам говорить, сами знаете,– значит, подмигнул он ей, нашла она нам столик. Достал Федя из котомки пол-литра, банку консервов мясных, хлеба. Беленькая официанточка нам стаканы спроворила и по тарелке капусты тушеной, добрая душа, принесла.
Выпили по стаканчику. Федя меня угощает, а сам ничего не ест, все рассказывает да расспрашивает. Я говорю:
«Сам кушай, сынок».
Смеется:
«Я сыт, батя, а вам надо подкрепиться».
А я сильно отощал тогда, совсем никудышный был. Официанточка нам еще каши принесла. Федя и спроси ее:
«Не просидим мы тут поезд?»
«Услышите,—говорит,– объявят по радио. Вам куда?»
«На Ленинград».
«Через двадцать минут»,– говорит.
Выпили еще по стаканчику.
Сидим разговариваем, а я все тревожусь: не опоздал бы Федя, дело военное, строгое. Как официанточка мимо идет, каждый раз спрашиваю:
«Как там на Ленинград, скоро?»
«Объявят,– говорит,– услышите».
А чего я услышу? Меня с хорошей еды да вина разморило. Сижу, глаза слипаются. Тут объявляют посадку.
Федя попрощался, налил мне еще.
«Кушайте, батя, а я пошел».
Хотел я за ним, да ноги нейдут. Посидел я, пригубил малость и уснул. Прямо за столом. А проснулся совсем необыкновенно… Слышу, тормошит меня кто-то. Очнулся и, что вы думаете, девоньки, лежу на верхней полке в вагоне. На улице светло—видать, день. А проводник трясет меня и говорит:
«Вставай, отец, приехали. Ленинград!»
«Скажи,– говорю,– бога ради, добрый человек, как я здесь очутился? И почему ты завез меня в такую даль?»
«Приволокли,– говорит,– тебя вчера вечером три официантки на вокзале, втолкнули в вагон и упросили: «Будь человеком, пожалей старика, в Ленинград ему надо!»
Тут я и понял, девоньки, что это та беленькая официанточка, добрая душа, меня выручила.
– Вот уж выручила! – засмеялась Люба.
– Так вот и произошло, девоньки. Пошел в баню в Москве, а оказался в Ленинграде. Хорошо еще, трешница была, телеграмму старухе отбил. Долго она меня потом пилила.
Демьяныч, может быть, рассказал бы еще какую-нибудь историю. Видать, такие терпеливые слушатели попадались ему не часто. Но вошла сестра и без особых церемоний выпроводила всех посетителей,
Кузьма Сергеевич Набатов был коренной сибиряк. Правда, родословную его можно было проследить не дальше четвертого колена, но зато достоверно было известно, что уже прадед проживал в Сибири и работал горновым на знаменитом в свое время Николаевском чугунолитейном и железоделательном заводе.
Во всяком случае, сибирский стаж династии Набатовых исчислялся доброю сотней лет, а это, особенно по нынешним временам, когда некоторые, прожив на сибирской земле без году неделю и не сдав еще брони на московскую квартиру, уже самоотверженно назы-
ваются сибиряками, безусловно, давало право на почетное звание коренного обитателя стороны сибирской.Как уже сказано, прадед Кузьмы Сергеевича – Прокофий Набатов —«делал железо» на Николаевском заводе, дед – Трифон Прокофьич, в натуре которого сильнее сказалась унаследованная от матери кровь таежных следопытов и звероловов,– бродяжил по тайге и «баловался золотишком», а отец, придя на завод десятилетним мальчонкой, после долгих лет соленой заводской науки достиг звания литейщика. За свою трудовую жизнь отлил он без счету котлов и сковород, колосников и кнехтов, станин и маховиков. Последней его отливкой была пушка, изготовленная для партизан прославленного Бурловского отряда. В этом отряде литейщик Сергей Набатов и сложил свою голову, обороняя от колчаковских банд родное Приангарье.Кузьма остался после отца по десятому году. Батрачил с матерью у деревенских богатеев. На всю жизнь запомнил Кузьма горький вкус круто замешанного на слезах сиротского хлеба. Доходил ему пятнадцатый год, когда, надломившись на непосильной работе, сошла в могилу мать.
Ничего доброго не сулила жизнь сироте. Но, видно, и сама судьба спохватилась, что очень уж щедро оделила парнишку невзгодами. Случай свел Кузьму с товарищем отца. Корней Рожнов был подручным у Сергея Набатова в литейной мастерской на Николаевском заводе. Потом вместе они партизанили; из одного котелка ели, одним зипуном накрывались. Корней приютил сироту. Названный отец был всего на десять лет старше приемного сына, и вскоре стали они друзьями-товарищами. Тем более что ростом и статью пошел Кузьма в могучую набатовскую породу и годам к семнадцати поравнялся с Корнеем, хотя и того бог ростом тоже не обидел.
Вместе бродили они по деревням и заимкам, ладили плуги и бороны у мужиков, чинили веялки и жатки у богатеев хозяев – работы мастеровым людям хватало. Далеко от родных мест не уходили. Все ждали, когда снова задымят трубы Николаевского железоделательного, потухшие в пору всеобщей разрухи. Но молодой и не окрепшей еще власти не под силу было возродить старый завод, расположенный к тому же в таежной глуши, вдали от железной дороги и жавшихся к ней городов и рабочих поселков.







