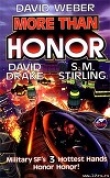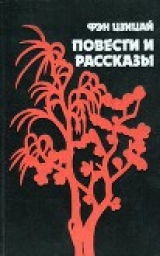
Текст книги "Повести и рассказы"
Автор книги: Фэн Цзицай
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 34 страниц)
Я стал повсюду искать Черныша, расспрашивал всех подряд. Одни что-то знали о нем, другие, как говорится, ни слухом, ни духом, но наконец появилась путеводная нить: один продавец сигарет недавно на обочине проселочной дороги в двадцати ли к западу от уездного центра видел ободранного худого черного пса, видно, совсем обессилевшего от голода. Разносчик пожалел его и бросил ему кусок хлеба. Собака, добавил он, хромала, какое-то время плелась за ним, потом исчезла из виду.
Эта весть укрепила мою надежду. В свободные дни, купив мяса и нанизав его на пеньковую веревку, я отправлялся в окрестности уездного центра на поиски Черныша. Я искал его в полях и на дорогах, заходил в селенья и поселки, пока не понял, что мир слишком огромен и пес затерялся в нем, словно иголка в стогу сена.
Как-то в очередное воскресенье я запасся мясом и, спозаранку выйдя из дому, ходил до полудня, но так и не напал на след Черныша. Я валился с ног от усталости и лишь усилием воли заставлял себя продолжать путь. Решимость найти собаку ни на минуту не покидала меня, я был уверен, что он, как и я, все это время ищет меня. Мне встретился на пути незнакомый поселок, на краю которого, к счастью, была закусочная. Я вошел, взял миску рисовой каши и присел отдохнуть, вытянув гудевшие от усталости ноги. Вдруг послышались детские голоса:
– Бей пса, бей, бей его!
Я выскочил на улицу. Там уличные мальчишки ивовыми прутьями хлестали собаку. Животное, не двигаясь и не сопротивляясь, лежало у стены, не подавая признаков жизни. Неужели Черныш? Сердце сжалось от испуга, я подбежал и с первого взгляда узнал его. Он лежал на боку с закрытыми глазами, не реагируя на удары. Черный как уголь и худой, с облезлой, испачканной в грязи шерстью, он был мало похож на прежнего Черныша.
Я позвал его. На мой голос он рывком приподнялся, едва удержавшись на дрожавших лапах, подался вперед и вытянул морду, уставившись на меня. Мальчишки в страхе разбежались.
– Дай правую лапу, Черныш! – хриплым голосом произнес я.
С трудом, дрожа всем телом, он протянул мне грязную правую лапу. Черныш! Мой Черныш! Я заключил его в свои объятия и крепко прижал к себе. Я почувствовал, как его дрожь передается мне, а его морда, горячо и трогательно, с силой прижимается ко мне. Что тут говорить? Мне казалось, я обнимаю вселенную, всю вселенную со всем ее сущим…
Вы поймете, почему теперь, опасаясь потерять своего пса, я повсюду беру его с собой. Ради него приходится ездить мягким вагоном, здесь спокойнее и контролеры не такие строгие. Черныш все понимает, он без моей команды не подает голоса. А я не хочу даже ненадолго разлучаться с ним: боюсь, как бы это не стало разлукой навек… Он постарел, не убегает больше из дому, мало ест, у него так и не отросла его прежняя густая черная шерсть. Целыми днями он лежит у меня в ногах и, лишь заслышав шум проезжающей машины, приходит в страшное возбуждение, скулит, скалит зубы, шерсть поднимается на его загривке… короче, теперь вы и сами догадались, что у меня наверху в ящике.
Пока я слушал эту удивительную исповедь «безымянного» художника Хуа Сяюя, ком не раз подкатывал к горлу от нахлынувших чувств. Я поднял голову и посмотрел на ящик – безмолвный и неподвижный, который таил в себе историю горестной жизни человека чистой и беспокойной души. Его прошлое заставляло с еще большим сочувствием и тревогой отнестись к его настоящему.
– Так, значит, теперь вы расписываете блюда? – поинтересовался я.
В ответ Хуа с усмешкой покачал головой.
– Если рассказать, вы, пожалуй, посмеетесь надо мной. Сначала я приступил к работе в своем старом цехе декораторов, но через две недели все изменилось, причем из-за события совсем незначительного…
Как-то я гулял по проселочной дороге. Только что прошел дождь, омытые дождем деревья и растения радовали глаз глубиной и свежестью цвета, а показавшееся впереди белое пятно своей ослепительной чистотой еще более усиливало звучание этих нежных полутонов. Так бывает, когда пианист во время исполнения берет октавой выше.
Просветленный, радостно-взволнованный, я продолжал свой путь. Когда пятно приблизилось, то оно оказалось белой рубашкой Ло Цзяцзюя. Мы не встречались несколько лет. Не знаю почему – может быть, под впечатлением обновленной после дождя природы или чистоты этого белого цвета, – только я сразу забыл все неприятное, что было связано с ним. И когда он справился о моих делах, чистосердечно ответил, что расписываю блюда, что у меня голова полна новых идей и что я непременно подниму мастерство художественной росписи на высокий уровень. На следующий день без всяких разъяснений меня перевели в цех по обжигу. Спрашивается, ну кто тянул меня за язык?
– Мне кажется, вы часто обманываетесь в людях!
– Что и говорить, так-то оно так, хотя, с другой стороны, я вовсе не считаю себя в проигрыше. Теперь, работая у печи, я овладел техникой обжига фарфора, а от этого, как известно, на семь десятых зависит успех нашей работы. Гончары говорят: кто не знает толк в обжиге, не понимает и фарфора. Теперь я могу смелее и увереннее добиваться нужного цветового эффекта при обжиге посуды. Странно, человек, постоянно преследующий меня, против своей воли оказывает мне услуги. Как по-вашему, почему так получается?
Я молчал, пораженный, не находя слов, чтобы выразить вертевшиеся в голове неясные мысли. История этого странного человека всецело захватила меня…
– Помните, вы спросили у Ло Чангуя про «глаза» на керамике, что он рассказал вам?
– Он умер как раз в ночь после нашей встречи. А в тот день он мне больше ничего не сказал: он не хотел раскрывать секрет мастерства…
– Они могут подарить вам семейную реликвию, – в раздумье, с горечью продолжал он, – но ни за что не передадут твоего искусства. Этот консерватизм вынуждает нас шаг за шагом повторять путь предшественников, но он же придает нашему искусству характер неповторимой самобытности и вечной неразгаданной тайны. Ло Чангуй, правда, питая ко мне симпатию, обронил несколько фраз, которые помогли мне постичь более глубокие пласты искусства. И если мне удастся вернуться в цех художественной росписи… я слишком самоуверен, не правда ли?
Его глаза, как утренние звезды, горели ярким светом…
В кромешной ночной тьме наш поезд мчался мимо заснеженных и скованных льдом полей. Пассажиры спали, в коридоре было безлюдно и тихо, и только на стыках рельсов тяжелый состав резко и мерно встряхивало. Но во время нашего продолжительного ночного разговора я не слышал скрежета, да и вообще забыл, где я.
– Устали?
Хуа Сяюй посмотрел на старенькие, пожелтевшие, с разбитыми стеклами часы.
– Эге, уже половина шестого, скоро рассветет, через час моя станция. Извините, я всю ночь проговорил, не дал вам поспать.
– Постойте, вы еще не дорассказали свою историю. Вы говорили, что все превратности начались с пятьдесят седьмого года, но так и не назвали человека, который оклеветал вас?
– Никто меня не оклеветал.
– Так это все было сфабриковано Ло Цзяцзюем?
– Нет, он только использовал материалы из моего дела.
– Так, значит, кто-то все-таки донес на вас, раз в деле появились порочащие вас документы?
После некоторого колебания он в конце концов дорассказал мне все как было:
– Так вот! Месяц тому назад я этим же поездом ехал на Северо-Восток. На станции в Шэнъяне меня вдруг окликнули. Это была Ян Мэймэй, девушка, с которой я дружил в институте. Теперь она замужем, судя по всему, живет благополучно… Я, пожалуй, не стану называть место ее работы, она ехала по делам в командировку.
Встреча после многих лет разлуки была неожиданной, и по тому, как она была поражена моим видом, я понял, что здорово изменился. Мы перебросились несколькими словами, потом она отвела меня в уголок и спросила, не подвергался ли я гонениям в первые годы «культурной революции»? Она тут же искренне покаялась мне, как однажды после свидания в парке Храма Неба, где я излил ей свои сомнения и недовольство кампанией против правых, она, ужаснувшись опасному направлению моих мыслей, которые могли бы помешать моей карьере, с самыми благими намерениями сообщила все, как есть, в парторганизацию. Так эти материалы попали в мое дело. Во время «культурной революции» из керамической мастерской у нее запросили дополнительные сведения, уточнения, и тогда она поняла, что я попал из-за нее в беду. Она страшно нервничала, ее мучила совесть, но она так и не осмелилась написать мне письмо.
– Ты наверняка пострадал из-за меня, дурья моя голова! – заключила она.
От ее признаний у меня все внутри похолодело, меня словно обдали ушатом холодной воды. Да, хлебнул я из-за нее горя! В душе одновременно шевельнулся страх: как же она могла предать меня, ведь она любила меня? Останься я тогда в городе, мы бы стали мужем и женой, и она со спокойной совестью прожила бы со мной всю жизнь. Меня мороз по коже подирает при одной мысли об этом…
– Что же вы не сказали ей, что это по ее милости, из-за ее наветов вы потеряли жену и ребенка, мыкались по свету, чуть не погибли! – напустился я на Хуа. – Пусть себе мучается, если в ней осталась хоть капля совести!
– Совесть-то есть у всех, но одни живут по совести, другие – против совести, – возразил он. – Ну а коль скоро она решилась выложить мне все начистоту, значит, и у нее заговорила совесть.
– Что же вы ей ответили?
– Сказал, что не был репрессирован, что ее признание – неожиданность для меня.
– И она… она этому поверила?
– Конечно, нет, но больше она не расспрашивала ни о чем, предпочла поверить в обман. Вам, как писателю, нетрудно понять психологию такого человека. Я избавил ее от угрызений совести. На прощанье она готова была отдать мне все, что было при ней, – конфеты, печенье, колбасу… в суматохе она даже всунула мне свою перчатку. У нее словно камень свалился с души, она спаслась от самой себя и без умолку щебетала, точно вырвавшаяся из клетки птица… Вы смеетесь надо мной? Над моим великодушием? Ну зачем терзать прошлым еще чью-то душу? Хватит того, что я отбыл несколько лет каторги, не злодейка же она, в самом деле, пусть себе живет!
Глубоко взволнованный, с состраданием глядя на этого доброго и несчастного человека, я промолвил:
– Забудем прошлое, будущее, без сомнения, будет лучше настоящего.
Изуверившись в жизни, я без особого энтузиазма произнес эти пустые и расхожие слова. Его ответ поразил меня.
– Нет, умри я даже сегодня, я все равно скажу спасибо жизни за все, что она мне дала. А если мне суждено прожить еще немного, я в свой черед воздам ей за все.
Эти слова невольно перенесли меня в другой мир, трогательный и волнующий. Я, давно не испытывая к жизни ничего, кроме усталости, апатии, отчуждения, вновь ощутил ее мощное и горячее дыхание… и промолчал в ответ. Когда чувства переполняют тебя, лучше оставить их в сердце, чтобы они спокойно улеглись. В этом самое большое счастье.
Забрезжил рассвет, за окном смутно угадывались цвета предметов. Не передалось ли и мне его художественное мироощущение, под влиянием которого я тоже стал видеть краски мира?
Хуа Сяюй поднялся, положил вещи в сумку.
– Мне пора, – сказал он. – Давайте простимся! Я желаю вам всего хорошего!
– Спасибо, я тоже желаю вам… – Я запнулся, потом закончил. – Надеюсь вскоре увидеть ваши блюда с росписью!
Глаза его вспыхнули. Я угадал его заветное желание.
– Непременно! Непременно!
В его словах звучала уверенность. Поезд замедлил ход. Он спустил сверху ящик и, склонившись, тихо, словно ребенку, шепнул в отверстие:
– Ну как, хорошо поспал? Скоро будем дома, а пока помолчи!
– А можно мне заглянуть внутрь? – не удержался я.
Поезд остановился. За окном в холодном утреннем тумане показались неясные очертания станционных построек, перрона, навеса. Я наклонился к отверстию в ящике, но там было темно, до меня донесся лишь специфический запах, который обычно исходит от шерсти животных.
– Простите, не поможете ли вы мне? Мне надо проскочить через турникет, если я стану перекладывать там вещи, контролер может заметить. Нет, что вы, провожать не надо, сделайте одолжение, – говорил он, вешая тем временем через плечо мольберт и беря в правую руку ящик, а в левую – сумку. – Достаньте из кармана пиджака билет… так, положите мне в рот, я прикушу.
С билетом в зубах он уже не мог разговаривать, только улыбнулся мне с благодарностью. Мы простились без слов, обменявшись взглядами, в которых были слова прощания, пожелание счастья, грусть расставания.
Из окна своего купе я с некоторой тревогой следил за тем, как, смешавшись с немногочисленной толпой пассажиров, он подходил к контролеру. Тот вынул у него изо рта билет и спросил о чем-то. Хуа Сяюй помотал головой. Видимо, речь шла о том, не нужен ли ему корешок билета для отчета. За оградой перрона он оглянулся, вытянув шею, посмотрел в моем направлении. Я замахал рукой, но в купе было темно, и он не увидел меня…
С грустью провожал я глазами медленно удалявшуюся фигуру с картонным ящиком в руке. Что пожелать ему? Что ждет его впереди? Скитаясь по свету, я, правда, встречал немало таких горемык, хлебнувших через край нужду и лишения. Но на их лицах вы не увидите следов страданий. Бывает, они расскажут о своих терниях и муках, которые с трудом укладываются в сознании. В них, словно в мешок фокусника, жизнь кидала все, что пожестче, поколючее, погрубее, но они, вынося страшные перегрузки, не лопнули, не расползлись по швам, а молча, стиснув зубы, преодолели все. Их взоры, их сердца всегда упрямо обращены к жизни. И не сама ли жизнь с ее поразительным богатством, таинственностью и глубоко спрятанными надеждами мешает даже отчаявшимся людям с легкостью расстаться с ней? Так и ты, несмотря на все невзгоды, продолжаешь свою мужественную жизнь, о наш великий китайский народ…
Лучи света, ударившие в глаза, прервали течение моих мыслей. Оказывается, мы уже отъехали от станции. Небо посветлело, за окном в лучах солнца искрилась ледяная гладь могучей реки.
Перевод В. Аджимамудовой.
ВОЛШЕБНЫЙ КНУТ
Древнее, древнее, древнее, древнее.
Что было раньше – не то, что есть ныне.
Вникай с усердьем в секреты людской души,
В книгах и в жизни – всюду полно чудес.
Новое, новое, новое, новое.
Что было прежде, то есть и ныне.
Гляди, не робея, на мир, кишащий вокруг.
От души улыбнуться – не так-то просто.
В ту пору в Тяньцзине каждый год устраивали по нескольку праздников в честь святых владык. А на праздниках, известное дело, тут же объявляются всякие любители напроказить. Поначалу случилось у нас только одно происшествие. Это когда при государе Цзяцине во время театрального представления пятилетний малец, который изображал Мать-государыню Запада, умер от солнечного удара прямо на помосте. Ну, то, можно сказать, было делом случайным, все пошумели-повздыхали да разошлись. А потом, когда государь Гуансюй взошел на престол и устроили по этому поводу большие торжества, случилось так, что во время молебна благодарения душ из выставленных напоказ драгоценностей украли одну большую жемчужину. Люди сказывали, цена той жемчужине была чуть ли не сто тысяч. Уездный начальник послал своих людей на розыски, те весь город вверх дном перевернули, а жемчужину так и не нашли. А любители всяческие беспорядки чинить уже целыми шайками стали шастать по улицам. Бывало, затопчут насмерть ребенка, всяк праздник, глядишь, драку затеют и уж кому-нибудь череп да раскроят, что твою тыкву.
Раз случилось, возжигали благовония в зале «Исполнения желаний», где стояла статуя Богини моря, и старинный храм спалили дотла. Какой-то смельчак из тех лихих людей, когда пламя уже вовсю полыхало, уволок статую той богини неизвестно куда. Ходил слух, что в животе богини внутренности были из чистого золота и серебра. Тут же и мужчины и женщины из верующих кинулись богиню искать. Вы не смейтесь, вы себя поставьте на место тех людей да прикиньте сами: коли нет богов, кому же поклоны бить?!
Тяньцзиньцы любят приврать. Один человек клялся, что он собственными глазами видел, как богиню зарыли на заднем дворе бакалейной лавки «Счастье Восточных морей». Нашлись парни, которые не побоялись хозяина лавки, перемахнули через ограду, отвалили два сваленных в углу двора каменных пресса для выжимания сои, перекопали в том месте землю, но ничего не нашли и со злости прессы разбили, да еще и нагадили на них. А хозяин той лавки был приятелем начальника управы, и налетчиков быстренько поймали. Хотели было взыскать с них за причиненные убытки, да не вышло ничего, потому как были это люди бедовые, прямо-таки отпетые разбойники, у них в доме одна циновка, пара одеял да сотня клопов, даже риса и того не водится.
На этот раз старики стали поговаривать о том, что надо бы эти праздники вообще запретить. Тяньцзинь – место бойкое, народ тут живет отчаянный, так и норовит какой-нибудь фортель выкинуть. Нет, не к добру все эти праздники, от которых весь город ходуном ходит. Но кто же может праздники запретить?
Вы еще учтите, что Тяньцзинь жил соляной и рыбной торговлей. Тяньцзиньцы выходили в море, спорили с ветром и волнами и надеялись, что морская богиня их защитит. Даже те, что скопили деньжат, немало горя хлебнули; что же говорить про мелкий люд, который вроде собак и кошек? Потому-то люди и рады были повеселиться в день рождения морской богини. Всюду затевались разные представления, народ высыпал на улицы, люди молились и жгли благовония, чтобы ублажить богиню. Статую богини выносили из посвященного ей храма за Восточными воротами, носили по улицам, разные общины городских жители давали в ее честь представления. Несколько дней город ликовал, а святая сила богини укрощала демонов.
Говорят, то, что неподвластно людям, управляется богами. В Тяньцзине «три мира, четыре вида живых существ, шесть способов существования, десять сторон света» находились в ведении богини. Но с тех пор, как и богиню украли, у людей прибавилось забот. Прежде боги тоже умели водить корабли. Люди не отнимали у небес их полномочий, и небеса не потворствовали прихотям людей. Вот в тот год на праздник и случилось это удивительное происшествие.
1. Одно упрямство под стать другому
По обычаю, в двадцать второй день третьего месяца морская богиня «совершала объезд и раздавала счастье».
Из праздничных дней этот был самый веселый. Каждая община в городе готовила к этому дню какое-нибудь изысканное представление. Говорят, в этот год все общины постарались на славу, можно было увидеть и давно уже не показывавшиеся пляски львов, и танцы журавлей, и свежие цветы, и драгоценные треножники, и большие оркестры, и разных зверей, и восемь бессмертных и многое другое.
Каких только зрелищ тут не было! Народ вышел на улицы задолго до начала праздничного шествия, каждый старался занять место получше, кто не мог протиснуться вперед, взбирался на заборы и крыши домов. Люди солидные сооружали помосты с навесами и оттуда, как из театральной ложи, любовались праздником в свое удовольствие.
У начальника соляной управы почтенного Чжаня в нынешнем году, можно сказать, сбылись все заветные желания. Деньги в его дом сами текли рекой, а еще он взял в жены девушку, подобную яшме и цветку, да и сам пышет здоровьем и духом бодр. Полмесяца тому назад он снял одну лавку на улице Гуицзе и на углу улицы, на самом бойком месте, соорудил высокий помост, чтобы оттуда наблюдать за праздником. Над помостом натянули островерхий навес, укрывавший от солнца, на пол постелили ароматно пахнущие сосновые доски, по обе стороны расставили новые сиденья, сбоку помост обтянули красным шелком и подвесили к нему ярко раскрашенные фонари. Еще почтенный Чжань нанял несколько мастеров биться на кулаках, одел их в одинаковые полотняные куртки и штаны, и они днем и ночью по очереди стояли перед помостом, охраняли его.
В народе говорят: кто силен тратить деньги, тот и духом силен. Робкий народец как-то сам собой держался от этого места подальше. Чуяли люди: если кто-нибудь пойдет поперек воли почтенного Чжаня, непременно быть беде. Кто же знал, что так оно и случится? Ну да смотрите сами…
В день, когда устраивали шествие, новая жена почтенного Чжаня задумала подняться на помост, чтобы поглазеть на праздник. Все знали, что молодую госпожу продали почтенному Чжаню из труппы певичек в квартале Хоуцзяхоу. Ее настоящее имя было Цзыфэн, она искусно пела, вот и получила среди певичек прозвище Фэйлайфэн – Прилетающий Феникс. Эта Фэйлайфэн была сама твердость, прячущаяся под покровом слабости. Она была совсем не похожа на добропорядочных девушек, которые на ее месте и думать бы забыли о своем прежнем имени и тихо жили бы в праздности и довольстве. Эта же вечно бегала хвастаться туда, где она жила прежде: все хотела, чтобы ее прежние знакомые узнали ее, полюбовались ею, пошептались бы между собой о ней, не смея сообщить хозяйке о приключившихся с ней переменах. Была у нее одна тайная мысль: коли она, девица такого низкого происхождения, так красуется у всех на виду, то старая жена почтенного Чжаня ни за что не посмеет вместе с ней показаться на людях и эдак она сможет взять верх над старой женой. Только вот она не рассчитала, что если старая жена не пойдет, то и почтенный Чжань тоже не посмеет пойти, и уловка ее была совершенно без пользы. От этого она страшно злилась, постоянно ко всему придиралась и шумела, и в семье почтенного Чжаня быстро поняли, что она твердый орешек.
Она уселась на стул, обитый узорчатым шелком, изящно сложила перед собой маленькие белоснежные ручки, унизанные блестящими перстнями, за ее спиной встала служанка; волосы у той были зачесаны по сучжоуской моде, одежда вдоль и поперек покрыта нитями жемчуга и расшита цветами, в волосах серебряные шпильки, на ногах крохотные туфельки из бараньей кожи, штаны из темного атласа; белая, как лунный свет, кофта обтянута широким узорчатым поясом, из-под воротника кофты выглядывает парчовый платок. Ее фамилия Ху, люди зовут ее матушка Ху, это самая опытная служанка в доме Чжаней. Стоя позади Фэйлайфэн, она раскладывает на чайном столике закуски – горки сладостей, как принято в доме чиновника Дина, орешки, как в доме Чжаня-Второго, фрукты в сахарной оболочке по рецепту семьи Чжао, паровые пампушки от семейства Ча и прочее. Здесь все лучшие закуски именитых домов, они прикрыты стеклянными крышками, защищающими их от пыли. Но Фэйлайфэн очень редко приподнимает эти крышки, чтобы чем-нибудь полакомиться, зато раз за разом приказывает матушке Ху подозвать деревенскую торговку, продающую на улице печенье, и кричит ей: «Беру весь кулек!» На самом деле она не ест эту простую уличную еду. Печенье она скупает, во-первых, потому, что куражится, а во-вторых, потому, что нарочно хочет спустить деньги почтенного Чжаня. Это бы еще ничего, но каждый раз, когда к помосту подходит новая труппа участников шествия, она просит старшего среди них нести полотнище с именем почтенного Чжаня. По обычаям праздника, самые уважаемые люди в городе могут попросить какую-нибудь труппу актеров нести в праздничной процессии полотнища с их именами, но менять полотнища, договариваться с актерами о представлении – значит задерживать шествие. Идущий во главе процессии машет флагом, бьет в гонг, и все останавливаются. Актеры исполняют свой номер, например пляску львов, барабанную дробь, танец с серебряным ларцом или еще какое-нибудь занятное представление. Потом их старший снова ударяет в гонг два раза, они идут дальше, а следом подходит другая труппа. А тот, кто заказал представление, должен заранее послать актерам конверт с деньгами в благодарность за их труды.
Фэйлайфэн еще до начала праздника послала деньги артели уборщиков, чтобы они дочиста выскребли улицу перед помостом. В эти дни она нанимала все труппы подряд. У почтенного Чжаня от денег сундуки ломятся, да и кто будет держаться за карман, когда предлагают выставить твое имя в праздничном шествии? К тому же она с шиком наблюдает за праздником, на помосте навалено несколько сот кульков с печеньем, есть и кули по десять цзиней[25]25
Цзинь – мера веса в Китае, 596,816 грамма.
[Закрыть] весом. Среди восьми богатейших семей Тяньцзиня никто еще не сорил деньгами с таким размахом. Вот так она смотрит на праздничное шествие, а люди смотрят на нее и дивятся: уж больно кобенится эта взбалмошная девица.
Хотя поговаривали люди, что она чересчур злая, но швырять деньги пригоршнями – это все-таки признак сильной воли. На сей раз труппа юных актеров, наряженных журавлями, показывала, как эти божественные птицы «летают», «курлычут», «спят» и «едят». Они легко кружились по земле, словно вот-вот взлетят, и пели ей песни на счастье. Матушка Ху шепнула ей на ухо:
– Вторая госпожа, поглядите, у этих мальчиков на шее серебряные обручи, их подарил сам император Цяньлун, когда смотрел этот танец. Я слыхала, Цяньлун наблюдал за представлением из лодки, и видно ему было не так хорошо, как вам, ха-ха!
Фэйлайфэн вдруг подумала: в прошлый год на этот праздник она еще была у своих старых хозяев. Вместе с Баоинь, Цзылайчоу, Юэчжунсянь и еще несколькими девушками сосала сладости и толкалась в толпе так, что даже вспотела. Кто знает, может, те девушки как раз сейчас стоят в толпе и во все глаза смотрят на нее? Только она об этом подумала, как танец журавлей кончился, она с облегчением вздохнула, подозвала старшего в труппе, велела ему взять с помоста печенье, дала по большому кулю и барабанщику, и флейтисту, и знаменосцу, и даже тем, что несли приветственную надпись; шести мальчикам, изображавшим журавлей, и старшему труппы дала два куля.
Актерам досталось обильное вознаграждение, и они, удовлетворенные, хотели было пойти дальше, как вдруг перед ними вырос человек со скамейкой, выкрашенной красным лаком. С размаху поставив скамейку на землю, он уселся на нее, широко расставил ноги и холодно сказал старшему труппы:
– А ну погодите. То, что вы тут показали, сыграйте-ка для третьего господина восемнадцать раз. Ну а печенье – у второй госпожи его навалом, она вас одарит за третьего господина.
Появление этого человека, словно ушат холодной воды, вылитой в бурлящий котел, в один миг успокоило тысячную толпу: воцарилась тишина. Взгляды всех устремились к тому, кто преградил дорогу праздничной процессии…
Шелковые штаны цвета старинной меди туго схвачены синим поясом, на ногах новые черные туфли, тонкий халат, какие носили местные парни, поверх халата надета куртка без рукавов и ворота, похожая на куртку для верховой езды, но все-таки не такая, а что-то вроде безрукавки для подвижных игр. Шею этого человека опоясывала цепочка, на груди висели семь или восемь очень необычных не то золотых, не то серебряных значков. Те, кому доводилось видеть заморские шкатулки, сразу сообразили, что это заморские вещицы. Но зачем он воткнул в шапку маленькую гребенку? Девушки из Гуандуна любят носить в волосах гребенку, время от времени они поправляют ею свою прическу, но где это видано, чтобы и мужчина украшал себя таким же способом? Вы не смотрите, что этот парень так чудно вырядился, тут непременно свой смысл имеется. Казалось, люди взглянут на его одежду и сразу поймут, что он за человек.
Некоторые из стоявших поблизости думали было урезонить его, но едва они посмотрели на его худое, темное лицо под шапкой, на пару узких глаз, и в особенности на залитый кровью левый зрачок, как приготовленные слова застряли у них в горле. Ведь это был известный всему городу хулиган по прозвищу Стеклянный Цветок.
На улице Гуицзе в этом городе уговаривать его бесполезно, да и посмеет ли кто-нибудь просто долго глядеть на него? Здесь даже матери, баюкая младенцев, напевали им: «Ты не плачь, а скорее засыпай, а не то придет Стеклянный Цветок!» Это, наверное, традиционный воспитательный прием: успокаивая кого-нибудь, вложить в свои слова важный общественный смысл.
Но что хочет натворить Стеклянный Цветок?
Даже у людей, которые целыми днями слоняются без дела, есть свои расчеты. Сегодня Стеклянный Цветок пришел не просто для того, чтобы пошуметь. О причине его появления мог бы рассказать залитый кровью глаз.
У каждого настоящего хулигана обязательно есть в жизни какая-нибудь жестокая, кровавая история.
Десять лет назад Стеклянный Цветок был еще никому не известным парнем, которого в детстве звали Третьей Колотушкой. Однажды он пришел в харчевню «Душистый персик» и стал кричать, что хочет «забрать медяк». Харчевня «Душистый персик» была домом певичек, и в округе ее прозвали «Большим местом». Там всегда толклось много народу. Хозяин подозвал семь или восемь человек с топорами и приказал им испытать юнца. В ту пору любили драться топорами, его отточенными углами запросто можно рассечь и кожу, и мясо. По правилам, принятым среди хулиганов, нужно лечь на землю, двумя руками обхватить голову, а ногами прикрыть живот и позволить сечь себя топорами, до смерти или нет – это уж как получится. Если парень выдержит такое смертельное испытание, хозяин приказывает втащить его в дом, лечит его раны, а когда тот поправится, дает ему один медяк. Это и называется «забрать медяк». В тот день Третья Колотушка вот так лежал на полу, защищая себя собственными руками и ногами, а его секли топорами почем зря. Он был молод, силен и не проронил ни единого звука. Один забравший медяк в том заведении хулиган, по прозвищу Смертник Цуй, ударил его топором по левому глазу, оттуда брызнула кровь – не иначе как быть Третьей Колотушке слепым. Но когда его подлечили, оказалось, что глаз уцелел, только в него натекла кровь и он стал какого-то непонятного цвета. А тот Смертник Цуй, который попортил ему глаз, в харчевне «Великое счастье», что в переулке Цзянча, поставил Третьей Колотушке выпивку, чтобы загладить свою вину. У этого Смертника Цуя было черное сердце и грязные руки, он всегда носил в сапоге нож, и, если бы кто-нибудь стал требовать у него возмещения за искалеченный глаз, он бы без разговоров пырнул того ножом. Третья Колотушка не только ничего не потребовал, но и выложил на выпивку собственные деньги, да еще сам благодарил Смертника Цуя. Это потому, что у хулигана непременно должно быть какое-нибудь увечье, и он даже старается его заиметь. Удивительное дело! Такое всюду можно встретить: есть люди, которые нетерпимы к злости других, и есть люди, которые гордятся собственной злостью; одни считают увечье позором, а другие носят шрамы на лице как знак славы.
С тех пор Третья Колотушка получил прозвище Стеклянный Цветок. Еще его называли «Ворота В Тяньцзинь». Все веселые дома в Хоуцзяхоу, и большие, и поменьше, получали доходы не без его помощи. Если где-нибудь клиент поднимал шум и причинял неприятности, тут же звали Стеклянного Цветка, и тот уж не давал спуску буяну. Девицы, не имевшие хозяина, так и дрались за него между собой, по-всякому его обхаживали: кому же такой не понравится? Фэйлайфэн в Хоуцзяхоу тоже была фигура, было бы даже странно, если б она не пригрелась у него на груди! Понятливые люди, размотав в уме эту ниточку, тут же смекнули, что сегодня Стеклянный Цветок решил добраться до высоко взлетевшей Фэйлайфэн. Тяньцзиньцы называют это «умыть рожу».