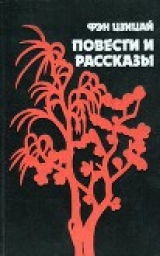
Текст книги "Повести и рассказы"
Автор книги: Фэн Цзицай
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 34 страниц)
Он побывал у врача, получил лекарства и неторопливо отправился в обратный путь. Стояла уже поздняя осень. Листья старых акаций свернулись, высушенные ветром, и один за другим неслышно падали с ветвей. Они уже устилали всю землю и шелестели при каждом шаге. По необыкновенно далекому небу цвета синей глазурованной черепицы проплывали белоснежные сверкающие облака, похожие на надутые ветром паруса. Сочетание желто-красных деревьев, синевы неба и белизны облаков создавало восхитительную палитру осени.
А как не похожа осень, когда природа зовет к отдохновению, покою и безмятежности, на лето с его нескончаемой суетой, когда жизнь бурлит и клокочет! И солнце не так назойливо жжет людей своими лучами, как в дни футяня[17]17
Футянь – самая жаркая часть лета, первая половина августа. – Прим. перев.
[Закрыть]; оно лениво поглаживает лицо, становится мягким и уютным. У Чжунъи впервые оказался на улице после шести месяцев заключения и по-особенному ощутил сладость жизни и цену свободы. Ему вдруг вспомнился его дом, где он так давно не был, – заваленная хламом, пропыленная комната. Так улетающая на юг ласточка вспоминает прежнее свое гнездо. Ему захотелось заглянуть домой, но он не посмел. Правда, он находился лишь в трех-четырех кварталах от дома, но для него расстояние это было так же непреодолимо, как бурный Тихий океан или уходящие в небо горы. Эх, подумалось ему, живи он в большом здании, этажей в пять, смог бы увидеть хотя бы крышу.
Чжунъи шагал задумавшись, но вдруг остановился, почувствовав, что на пути его стоит человек. Сначала он увидел пару ног – худых, в стареньких матерчатых туфлях, обтрепанных, с кожаными заплатками на носках. Тогда он поднял глаза, и взгляду его предстало высохшее, черно-желтое, изможденное лицо женщины.
– Невестка! – вздрогнув, закричал он.
Это была жена брата. Побелевшая от стирки ватная куртка, небрежно собранные на затылке волосы. И глаза – такие знакомые! Только не было в них той теплоты и сочувствия, к которым он привык. Широко раскрытые, они смотрели на него гневно, пугающе, и ему было понятно – почему.
– Ты что, приехала навестить родных? – спросил он в растерянности.
Невестка, ничего не ответив, продолжала неотрывно смотреть на него. Он видел, как дрожали ее плотно сжатые губы, худенькие плечи и все тело; видно было: она пытается перебороть охватившее ее волнение. Вдруг глаза ее вспыхнули ненавистью, она размахнулась и влепила У Чжунъи две звонкие пощечины по обеим щекам – бац, бац!
Щеки его запылали, в ушах зазвенело, потемнело в глазах. Какое-то время он стоял как оглушенный, а когда пришел в себя, невестки перед ним уже не было. Он повернулся и увидел, как она удаляется по спокойной, безлюдной, залитой солнцем улице.
А он все стоял на месте. Случайно его взгляд упал на что-то голубое, лежавшее на земле в нескольких шагах от него и, по-видимому, оброненное невесткой. Он подошел поближе и узнал ее платок. И вдруг сразу вспомнил, как десять лет назад невестка уезжала к мужу: тогда он с перрона увидел в ее руке над заплаканными, прильнувшими к вагонному окну личиками племянников этот самый платок. Тогда он был синий в белый горошек, сейчас полинял, стал бледно-голубым, истончился, в двух местах зияли порядочные дыры. Теребя платок, он припомнил всю трудную и горькую жизнь невестки, припомнил, с какой любовью и заботой она относилась к нему… Негодование, охватившее невестку при встрече с ним, подсказало Чжунъи, что его предательство вновь ввергло брата со всей семьей в пучину бедствий. А давно ли брат выкарабкался из такой же бездны с наполовину обожженным лицом, и вот теперь он, Чжунъи, опять погубил его…
Тут он заметил справа от себя узкий проход между кирпичными домами, совсем узкий – там едва мог пройти один человек. Это был «мертвый проход», он никуда не вел и весь порос травой, в которой валялся битый кирпич. Он бросился туда и принялся хлестать себя по обеим щекам. Он бил себя, плакал и бранился:
– Скотина! Скотина! И почему ты вовремя не сдох!
Проходившая мимо девчушка, заслышав какой-то шум, из любопытства заглянула в проход. Только тогда он остановился и понуро поплелся восвояси.
Всю ночь он никак не мог заснуть. Он лежал с заметно припухшими щеками и думал, как бы встретиться снова с невесткой, узнать у нее, что же все-таки случилось о братом, а главное – растолковать ей: нет, не надо во всем винить его одного – вся беда в потерянном письме. Ведь и он сам из-за этого письма лишился всего в жизни.
23
Цзя Дачжэнь снова стоял на трибуне. Но в этот день его тощее, длинное лицо, видневшееся из-под козырька армейской фуражки, выглядело необычно – каким-то раскованным, даже, пожалуй, добродушным. Да и атмосфера на собрании была иной – более мирной и спокойной, будто после суровой зимы пришла оттепель. У Чжунъи стоял перед трибуной, слегка склонив голову; ему не заломили руки за спину и не повесили на грудь никакого плаката.
Полгода гремел гром, сверкала молния, ревел ветер, бушевал ливень. Теперь погода изменилась – пришла пора «проводить в жизнь правильный курс».
К концу предыдущего месяца общее число «вытащенных» сотрудников института достигло тридцати семи. Это было заслугой остальных ста сотрудников, затративших на сей подвиг более двух тысяч часов рабочего времени, и еще более выдающейся заслугой Цзя Дачжэня и иже с ним.
Теперь времена изменились, и вместе с ними – лозунги. Теперь провозглашали: «Если можно казнить или не казнить – лучше не казнить; если можно арестовывать или не арестовывать – лучше не арестовывать; если можно брать или не брать под надзор – лучше не брать». Теперь предписывалось разобраться с пострадавшими и по возможности вернуть их на прежние места, и чем быстрее, чем великодушнее ты проведешь эту работу, тем очевиднее и ярче твои достижения. То, чему раньше Цзя не позволил бы даже просочиться между пальцами, он пропускал сейчас, широко раскинув руки. Таким, как он, поднаторевшим в злобных речах и ругани, пришлось, наверное, рыться в словарях, чтобы вспомнить более или менее человеческие слова.
В этот день освобождали У Чжунъи – он был выбран в качестве первого примера великодушного решения вопроса.
По заведенному ранее порядку сперва на трибуну поднялось двое или трое людей, еще раз покритиковавших Чжунъи. Затем вышел Цзя Дачжэнь, достал лист бумаги и прочел, не отрываясь от текста:
– «У Чжунъи, тридцати семи лет, мужского пола, вырос в бедной городской семье. С детства подвергаясь воздействию среды, испытал сильное влияние буржуазной идеологии. В период борьбы с правыми в 1957 году один раз участвовал в деятельности реакционной организации «Общество любителей книги», созданной его братом У Чжунжэнем и другими, выступал с типичными для правых высказываниями. Преступление его носило серьезный характер, но он ничего не сообщил о нем своей организации. Когда развернулась данная кампания, У Чжунъи вступил в тайные сношения с братом, пытаясь и дальше скрывать свою вину и противодействовать ходу кампании. Однако перед лицом мощи пролетарской диктатуры и под воздействием проводимой нами политики У Чжунъи добровольно покаялся и признал вину. Многократные проверки подтвердили, что его показания в основном соответствуют действительности. Кроме того, во время пребывания в группе надзора и трудового перевоспитания он проявил себя с положительной стороны. Руководствуясь стремлением строго и неукоснительно осуществлять политику партии, исходя из принципа «лечить болезнь, чтобы спасти больного», и учитывая поведение У Чжунъи, ревком принял, а высшее руководство рассмотрело и утвердило решение: считать, что У Чжунъи совершил серьезную ошибку, относящуюся к противоречиям внутри народа, и не подлежит уголовному преследованию. С сегодняшнего дня он восстанавливается на прежней работе с прежним окладом. Надеемся, что товарищ У Чжунъи, вернувшись на свой служебный пост, будет настойчиво овладевать марксизмом-ленинизмом и идеями Мао Цзэдуна, будет энергично трудиться, чтобы в практической деятельности перевоспитать себя и стать новым человеком».
Дослушав чтение, У Чжунъи оторопел; забывшись, он поднял голову и уставился на собравшихся. На многих лицах он увидел довольные улыбки – люди радовались за него. Он повернулся и посмотрел на Цзя Дачжэня. Да, такое увидишь небось еще реже, чем полное затмение луны, – улыбка на лице Цзя. Это окончательно уверило Чжунъи, что происходящее с ним не сон, а доподлинная правда. Жизнь разом возвращала ему все, что отняла! Тут к нему приблизился сам председатель институтского ревкома Хэ, вручил «Избранные произведения Мао Цзэдуна» и нацепил на грудь латунный значок с профилем автора. Он даже пожал ему руку! Какая-то горячая волна накатила на Чжунъи, он безотчетно поднял руки и закричал во весь голос: «Да здравствует великая пролетарская культурная революция!» При этом он весь устремился ввысь вслед за лозунгом – казалось, ноги вот-вот оторвутся от земли, – лицо увлажнили горячие слезы.
К нему обратился Цзя Дачжэнь:
– У, старина, ты еще не освободился от всех своих ошибок, не до конца осознал сущность этой кампании. Ты должен как следует усвоить урок! В свое время мы тебя разоблачили – и поступили правильно, сейчас освобождаем – и тоже действуем правильно. Будь благодарен организации, это она спасла тебя!
Плача, он, как заведенный, кивал головой и верил, верил каждому слову, произнесенному Цзя Дачжэнем.
Он сошел с трибуны, медленно переставляя ноги. Счастье обрушилось так внезапно, переполнявшая сердце радость была так велика! Все это время Чжао Чан стоял неподалеку от трибуны, чтобы от имени сектора новой истории вновь принять Чжунъи в его ряды. Улыбаясь во весь рот, он подскочил к У Чжунъи и обеими жирными, мягкими ладонями схватил его дрожащие руки.
Собрание закончилось. Он уходил вместе с Чжао Чаном, и все встречные обращали к нему доброжелательные улыбки – своего рода невысказанные поздравления. Подошел и начальник группы надзора и перевоспитатель Чэнь Ганцюань. Еще какой-нибудь час назад он собирался по окончании собрания суровыми окриками загнать Чжунъи обратно в помещение группы. Но сейчас весь расплылся в улыбке:
– Старина, ты не должен помнить зла! Мы ведь все это делали ради революции!
Чжунъи растерянно улыбнулся, кивнул головой. Ведь и раньше он ни на кого не сердился, хотел лишь, чтобы другие относились к нему терпимо.
В коридоре переднего корпуса он столкнулся с Цуй Цзинчунем. Высокий, худощавый заведующий сектором был по-прежнему строг, сдержан и невозмутим. У Чжунъи остановился. Ему вспомнилось, как до всего случившегося он беседовал на секторе с Цуй Цзинчунем и тот дал ему столько добрых, от сердца идущих наставлений, а он из-за всяческих опасений не открыл Цую своего прошлого, не посоветовался с ним. И потом, когда за Чжунъи взялись как следует, Цуй Цзинчунь ни разу не оскорбил его грубым словом, ни разу не «нажал» на него. Это даже стало поводом для начала борьбы «с правым уклоном» в институте. Теперь он чувствовал себя в чем-то виноватым перед Цуем, но не знал, как это выразить. Цуй Цзинчунь из-под своих очков в узкой черной оправе бросил взгляд на Чжао Чана, шедшего рядом с У Чжунъи, и произнес коротко, но со значением: «Так ты запомни этот урок!» С этими словами он быстро удалился.
Чжунъи так никогда и не узнал, какие жаркие споры с Цзя Дачжэнем пришлось вести Цуй Цзинчуню о нем, У, и о решении по его делу.
Чжао Чан привел У Чжунъи в кабинет сектора региональных проблем, они остановились перед прежним столом Чжунъи. Чжао Чан вдруг схватил его за руку и вложил в ладонь что-то холодное и твердое. Чжунъи не сразу понял, что этот блестящий предмет – ключ от его стола, который ему приказали сдать в тот самый день, когда его «вытаскивали». Расплывшись в теплой, как в былые дни, улыбке, Чжао Чан сказал ему:
– Я ни в чем не навредил тебе!
В памяти У Чжунъи возник тот разговор, который был у него с Чжао Чаном в помещении рабочей группы. Тогда Чжао говорил что-то похожее. И ведь вправду, думал он, Чжао помог ему в решающий момент – подсказал, что Цзя Дачжэнь располагает материалами против него, включая злополучное письмо. Поэтому он успел признаться во всем добровольно, не дожидаясь разоблачения. Значит, своим сегодняшним счастьем, оказанной ему милостью он обязан старому другу! На его покрасневших от рыданий глазах вновь выступили слезы, сердце переполнилось благодарностью, но выразить ее в словах он не смог.
24
Он пошел домой. Да, он свободен и может вернуться домой! Словно выпущенная из клетки птица, не знающая ни забот, ни тревог, он может лететь куда вздумается. Стоит воздеть руки – и полетишь в манящую высь…
По пути домой он истратил все немногие остававшиеся деньги – купил бутылку пива, закуску и немного сладостей, чтобы устроить пиршество по поводу своего возвращения. Еще не откупорив бутылку, он уже пошатывался, как опьяневший небожитель, то и дело теряя равновесие. Было самое холодное время года, именуемое в народе «три девятки», но он шел без шапки, с пылающим лицом.
Он вошел в дом, куда его нога не ступала полгода с лишним, и очутился в темной прихожей. Соседка, тетушка Ян, дробила на мелкие кусочки уголь. Ее внучонок орудовал маленькой лопатой, помогая и одновременно мешая ей. При виде Чжунъи она оторопела.
– Товарищ У, вы вернулись?
– Как видите! – ответил он, сияя от радости.
– Да как же, ведь вас… – Тут тетушка Ян поперхнулась. Было ясно: она знала об обрушившихся на У неприятностях, но, не имея свежей информации, сочла за благо помолчать. Она стояла с лопатой в руках, не зная, как быть.
Но и У Чжунъи не знал, что следует говорить в таких случаях.
Тетушка Ян как-то неестественно улыбнулась и сказала:
– Вы бы пошли растопили печку, погрелись бы! – и тут же поспешила убрать свое рыхлое, неуклюжее тело в собственную комнату, утащив за собой и внука. Казалось, она пряталась от больного, убежавшего из инфекционной больницы.
У Чжунъи не придал этому значения, решив попозже спуститься к ней и все объяснить.
Он открыл дверь и вошел в комнату. Спертый воздух отдавал сыростью. В комнате все было как прежде, но поначалу казалось каким-то незнакомым. Стол, кровать, стулья, чашки и прочая утварь, словно удивленные поначалу его вторжением, разобрав, что это вернулся хозяин, в волнении как бы бросились ему навстречу. Они были такие грязные, запыленные, что казались все одного цвета. Он повертелся по комнате, не зная, с чего начать уборку, немного успокоился и решил сперва растопить печку. Ему повезло в том смысле, что его арестовали весной, еще до того, как начали убирать железные печки, и он теперь мог приступить прямо к делу. Пройдет совсем немного времени, и в комнате станет тепло.
Но едва рука его коснулась оставшейся в топке золы, в душе у него словно что-то оборвалось. Ведь это были остатки сожженных им черновиков письма. Ему припомнились брат с невесткой, и на сердце стало еще тяжелее. Он решил сходить к ее родным и разузнать, что же произошло с ней и с братом. Но как он сможет объяснить им все случившееся? Во всяком случае, писем он больше писать не будет.
Он растопил печь, перепачкав при этом руки, а когда собрался их мыть, увидел, что вода в тазу для умывания замерзла. В дни после утери письма, когда Чжунъи жил как в тумане, он почти не умывался, самое большее – смачивал в тазу полотенце и обтирал лицо. А поскольку воду он не менял, лед в тазу был серым, непрозрачным.
Он взял в руки таз и перевернул его, думая подержать над печкой и поскорее растопить лед. Вдруг что-то привлекло его внимание – то было письмо, приклеившееся к донышку таза. Удивленный, он положил таз на стол и отодрал конверт. От изумления у него брови поползли на лоб, а глаза едва не выскочили из орбит. Так и есть – оно, потерянное письмо, едва не стоившее ему жизни! И марка на месте, и конверт заклеен как следует. Видно, в то утро он в спешке переложил клейстера, заклеивая письмо, и бросил его на стол. А умываясь, поставил на конверт мокрый снизу таз, и конверт сразу прилип к донышку. Кому же могло прийти в голову искать его именно здесь?
– А-а-а! – раздался его крик.
Он застыл, и вся фигура его напоминала восклицательный знак, стоящий за этим «а-а-а»… Прошло не менее получаса, прежде чем он понял все, что случилось.
25
И теперь опять вернулась весна.
Весна пришла! И не только в природе, но и в жизни людей! Посмотри, кругом тают снега и льды, пробуждается все живое. Весеннее многоцветье снова сверкает в глазах людей.
Когда ты вдыхаешь аромат только что распустившегося цветка или мнешь в руках блестящие, сочные, нежно-зеленые листья; когда, стоя в долине, окидываешь взором цепи гор и видишь, как по всем склонам сбегают ручейки из-под тающих ледников; когда ты прогуливаешься по улице и в свете весеннего солнца видишь ряды новых зданий, с которых еще не успели снять леса; когда ты вечером стоишь у окна и слышишь, как крики диких гусей в небесах сливаются в единой дивной гармонии с музыкой земли… Разве в эти минуты тебе захочется вспоминать о пронизывающем холоде суровой зимы? Разве захочется вновь увидеть зарубцевавшиеся раны?
Однако бедствие, причины которого не вскрыты, подобно западне, притаилось возле дороги: прошлое может вернуться опять. Чтобы путь вперед был прямым и ровным, чтобы снова не попасть в колею страданий, нужно многое делать и еще больше, еще серьезнее размышлять…
Тяньцзинь, 27 сентября 1979 г.
Перевод В. Сорокина.
СПАСИБО ЖИЗНИ
Поезд уже миновал три станции, а соседнее место в моем купе по-прежнему пустовало. Какое счастье, что мне предстоит путешествие в одиночестве! В дальнюю дорогу надо отправляться либо с другом, либо одному, без стесняющего присутствия чужого человека. Я особенно хорошо понял это теперь, когда в отношениях между людьми произошли страшные перемены, когда всюду таятся подводные рифы, малейшая оплошность – и ты на дне. Поэтому свое собственное общество я предпочитаю всякому другому, в уединении обретая покой. Неужели только вне общества можно быть свободным? Но в чем же тогда смысл жизни?
Давно стемнело. Внезапно мне в глаза ударила вспышка света за окном, и, прежде чем я понял, встречный ли это поезд или огни станции, заскрежетали тормоза, и наш состав резко остановился. Из стакана выплеснулась вода, в соседнем купе в испуге заплакал ребенок. Почему-то в те времена машинисты останавливали поезда так, словно хотели сорвать гнев на пассажирах. Я припал лбом к холодному стеклу и вгляделся в темноту: оказывается, мы прибыли на станцию Гоцзядянь, расположенную в долине реки Ляохэ. На перроне виднелись лишь бетонные столбы, сплошь исписанные лозунгами; вокруг – ни души, и только ветер, скатав в большой ком обрывки дацзыбао, лениво гнал их прочь. Вскоре раздался свисток паровоза, скрип закрывающихся дверей, скрежет колес… поезд тронулся. Решив, что мне предстоит ночевать в купе одному, я лег, погасил верхний свет, включил ночник у изголовья и в наступившей полутьме, расслабившись и дав волю воображению, предался было тихому и спокойному течению мыслей, усладе одиночества, но тут дверь купе с лязгом открылась. Проклятие, попутчик!
Я поспешно зажег свет, но поначалу никого не увидел, затем показался огромных размеров ящик из картона, а вслед за ним мужчина средних лет. Не удостоив меня взглядом, он, тяжело дыша, сбросил зимнее ватное пальто на полку, потом втащил в купе старую дорожную сумку с испорченной молнией, перевязанную грубой бечевкой, и замызганный зеленым купоросом грязный мольберт с висящими по бокам какими-то лохмотьями. Покончив с вещами, он с такой судорожной поспешностью бросился закрывать двери, что можно было подумать, будто он ехал зайцем. Так и не поприветствовав меня, мужчина запрокинул голову, ища, куда бы ему поместить ящик. «Холодновато на улице!» – заговорил я, когда он наконец присел. Мои слова остались без ответа, вошедший, еще раз оглядевшись, потащил ящик в пустое отделение над дверью. Повернувшись ко мне спиной, он с видимой натугой приподнял его, и не успел я сделать движение, чтобы ему помочь, как он громко пустил ветры. Тьфу ты! Сроду не встречал такого бесцеремонного человека! Он не извинился, только мельком взглянул на меня бесцветными, как у заснувшей рыбы, глазами и сощурился, будто припоминая что-то. Противный тип! Поездка не обещала ничего хорошего.
Повернувшись на бок, я притворился спящим. Между тем он ни минуты не мог усидеть на месте, без конца возился и шумел. Вот чиркнул спичкой и закурил, с шумом выпустил дым, потом невнятно забормотал: «Поезд еле-еле тащится», «согреем руки», «ночной мрак, мрак, мрак…» Он, верно, не в себе, пришло мне в голову. Вот он снова заворочался, вскочил и принялся с грохотом передвигать свой злополучный ящик. Сквозь полуопущенные ресницы я видел, как, приподнявшись на цыпочки, он прикрыл ящик своим пальто, оставив открытым угол, в котором, оказывается, было проделано отверстие. Любопытство мое было задето. Там в ящике нечто нуждалось в воздухе и тепле. Очевидно, живое существо? Может быть, подумал я, он тайком провозит кур, кошку или собаку, но тогда почему не слышно никаких звуков? Ведь даже немой кролик выдал бы чем-нибудь свое присутствие. Затем, еще больше возбудив мое любопытство, этот странный попутчик забрался наверх, приложил губы к отверстию в ящике и прошептал: «Не скучай! Потерпи, на рассвете мы приедем!»
Эге! Не торговец ли это живым товаром? В таком ящике взрослого человека, правда, не провезешь, но ребенка… А зачем ему тогда мольберт? Чтобы, прикинувшись художником, дурачить людей? Оставаясь в тени, я стал внимательно разглядывать его. Волосы на голове были всклокочены и торчали во все стороны, как солома; невыразительное лицо перепачкано грязью и пылью, словно он вылез из подземелья; шрам и рубцы покрывали руки, и, кто знает, не были ли это следы драк? Продолжая изучать незнакомца, я заметил, что ни на кителе, ни на сорочке с потертым воротничком не было пуговиц, а одна-единственная где-то на груди была застегнута не в ту петлю. Живой портрет бедолаги! Но когда мой взгляд еще раз задержался на этой фигуре, с ног до головы заляпанной свежими и высохшими пятнами краски, то какая-то отрешенность и своеобразное изящество почудились мне в ней. В его глазах с припухшими веками я прочел скорбь. Кто он, опустившийся бедный художник? Но разве был бы ему тогда по карману мягкий вагон? Нет ли тут связи с таинственным ящиком? Я терялся в догадках. Охваченный необъяснимой тревогой, я не выдержал и спросил:
– Что у вас в ящике?
Незнакомец испуганно вздрогнул.
– Ну и напугали же вы меня! Так вы не спите? – Он внимательно посмотрел на меня. – Вначале ответьте на мой вопрос. – И, не дав мне раскрыть рот, без обиняков спросил: – Вы ведь писатель, так? Я не ошибся?
– Я?.. Писал когда-то, – не сдержал я горькой усмешки, да и кто мог в те времена быть уверенным, почетно это или преступно быть писателем.
– Вот-вот, я сразу узнал вас, – облегченно вздохнул он. Морщины на его лице разгладились, и, откинувшись назад, он продолжал: – Вы, разумеется, не знаете меня, я ваш читатель. Видел в газетах ваши снимки, прочел ругательные статьи про вас, прочел, кипя от негодования…
Эти несколько слов сразу расположили меня к нему, и прежние подозрения уже казались необоснованными.
– Вы… – начал было я.
Он вытащил из кармана старый портсигар, вынул оттуда окурок, прикурил, несколько раз жадно затянулся и с силой выпустил дым.
– Я расскажу вам свою историю! – И, перехватив мой удивленный взгляд, добавил, указывая на ящик: – Вы ведь хотели узнать, что там, не так ли? Об этом и пойдет речь. Вы первый, кому мне хочется рассказать обо всем.
В его глазах светилось доверие. Вот в чем высшее счастье писателя. Если ты честно пишешь, то тебе жизнь подарит немало счастливых мгновений, когда незнакомый человек внезапно раскроет перед тобой долго молчавшее сердце, уверенный, что никто, кроме тебя, не захочет, да и не сможет, понять его до конца. И тогда наградой тебе послужит не только просто удовлетворенное любопытство…
Отвернувшись, он устремил взгляд светло-серых глаз в чернеющие за окном ледяные просторы, а когда снова повернулся ко мне, глаза его словно подменили: они ярко пылали, долго сдерживаемый внутренний огонь неудержимо рвался из них наружу. Он смял догорающий окурок.
– Так вот… – приступил он к рассказу.
Казалось, бедствия последних лет, перевернувшие все вверх дном, отучили нас удивляться даже самым невероятным вещам, но вот передо мной еще одна история жизни, от которой содрогнулось сердце и которую не в силах представить никакое писательское воображение…
Он разрешил мне описать ее. Все эти годы, боясь за него, я хранил наш разговор в памяти. И только сегодня имею возможность правдиво перенести его слова на бумагу.
1. Черт подери! Простите, эти слова невольно вылетают у меня всякий раз, как я задумываюсь о своем прошлом.
Было это в начале шестидесятых годов. Я заканчивал пекинское художественное училище, занимался живописью маслом и, не хвастая, скажу, что был одним из лучших студентов на курсе. Я уже видел себя на работе где-нибудь в музее изящных искусств, в издательстве «Искусство» или в научно-исследовательской мастерской. Пребывая в состоянии радостного возбуждения, я рвался поскорей вырваться на простор и сделать что-то для общества. «Моя кисть будет творить ради жизни, ради будущего!» – со счастливой улыбкой без конца повторял я, но когда получил на руки уведомление о распределении на работу, то прямо-таки остолбенел. В нем был указан адрес учреждения, куда мне следовало явиться: керамическая мастерская номер два в каком-то забытом богом уезде Цяньси. Я сперва подумал, что это относится не ко мне. Но в графе «Предъявителю» прочел свою фамилию и имя – Хуа Сяюй, и листок этот показался мне черным. Все, чем я жил, мои мечты, мое будущее, мои планы, даже та, которую я любил, – все перечеркнул этот черный листок. Как во сне, стоял я на пекинском вокзале в ожидании поезда, который повезет меня в Цяньси, и все еще не верил повороту в своей судьбе. За что? Как это могло случиться? Что произошло?
Тогда я подозревал, что это распределение, как говорилось в старину, «ни в грош не ставящее человеческую жизнь», – козни нашего декана. Надо сказать, мы с ним придерживались совершенно разных взглядов. Если в двух словах, то для него искусство было академической отраслью знаний, а для меня – живым существом. В наших с ним частых столкновениях большинство студентов, как назло, было на моей стороне. Это глубоко ранило его самолюбие… Увы, напрасно я обвинял его тогда! Он не имел никакого отношения к моим злоключениям. Черт подери, мог ли я тогда предположить… ну, да ладно, об этом я расскажу потам!
Рок преследовал меня, сослав в это глухое проклятое место, где на станции меня никто не встретил и мне пришлось с вещами самому добираться до места назначения. Шагая по дороге и все больше приходя в ярость, я не раз готов был плюнуть на все и повернуть назад.
Но когда я остановился у входа в керамическую мастерскую и заглянул внутрь, честное слово, все сразу преобразилось. Я даже вещи бросил на землю, восхищенный открывшейся передо мной картиной. Представьте себе просторное помещение с расставленной на полу сформованной и готовой к обжигу посудой – блюдами, горшками, вазами, кувшинами, флягами – первозданной красоты, плотной, грубо вылепленной, коричневых и белых тонов. Рабочие-гончары, занятые обжигом, – по пояс голые, крепко сложенные, с темными, блестящими от загара потными спинами. А за ними на заднем плане ровная кладка печи кирпично-красного и желтого цветов. Никогда прежде я не видел таких чистых и звонких, так смело и сильно положенных красок! Как полнокровны краски в палитре жизни! Как они свежи и необычны! Разом забыв обо всем, я влюбился в эти места и, радостный, пошел представляться начальству.
Секретарь парткома Ло Теню, похожий с виду на лавочника, низкорослый, кривобокий, словно помятая пустая коробка от обуви, принял меня вежливо и как-то натянуто. Он повел меня осмотреть печь, цеха. Рабочие, особенно те, что постарше, не обратили на меня никакого внимания, и только молодые парни украдкой с любопытством поглядывали на меня. Наверно, в здешних отдаленных местах всегда с опаской относятся к заезжим студентам, думал я, дружески и приветливо улыбаясь всем. Как же я ошибался! У них в голове были совсем другие мысли.
Если вы не имели дело с производством художественной керамики, вам просто не понять того колдовского мира, в который я попал! Обычная миска из грубой керамики, не говоря уж о вазах, кувшинах, должна пройти несколько десятков операций. Керамика таит в себе секреты, большие декоративные возможности и изнурительный труд. Девушка-формовщица каждый месяц деревянной бадьей заливает в формы шесть с половиной тонн густого фарфорового молока – шлипера. В цехах, где идет формовка и сушка заготовок, от земляных печей поднимается горячий пар, здесь жарко и душно, как в самый разгар лета, поэтому незамужние девушки-работницы, не обращая ни на кого внимания, работают полуобнаженными. Случается, спрашивают: «Разве нет другой, менее трудоемкой технологии?» Пустые вопросы! Нет в мире керамики, сделанной по-другому!
В цехе формования я залюбовался высоким крепким стариком, лепившим вазу. Он бросил на гончарный круг кусок мягкой глины и, вращая круг ногами, стал вытягивать глиняный жгут, его пальцы незаметно делали свое дело, и вдруг, как в сказке, появилась изящная старинной формы ваза. Здешняя керамика в отличие от цзиндэчжэневской не имеет тонкой орнаментации и декора, на вид она груба, примитивна, но в ней чувствуются сила и смелость. Мне очень понравились вазы этого старого мастера, они рождались, словно живые существа, казалось, прочерти им глаза, и они заговорят.
Покоренный его искусством, я, не выдержав, обратился к нему:
– Почтенный мастер, как вы это делаете?
Его не тронул мой восторг, криво усмехнувшись, он холодно бросил:
– Руками!
Словно ком грязи полетел мне в душу, я задохнулся от обиды и зарекся заговаривать со стариком, но, будучи по натуре человеком отходчивым, вскоре, конечно, забыл об этом.
Потом секретарь Ло познакомил меня с высоким, на вид образованным молодым человеком. Гладкая кожа на его лице лоснилась, при виде меня он расплылся в улыбке. Это был Ло Цзяцзюй, бригадир художников-декораторов, впоследствии оказавшийся моим непосредственным начальником. Он выхватил из моих рук поклажу и повел в общежитие, по дороге сообщив, что давно с нетерпением ждет меня и мечтает назвать своим учителем. Я принял его слова за чистую монету, зная, с каким интересом относятся к нам, студентам художественного училища, художники-любители. Позже я понял, что, как племянник секретаря Ло и самый образованный человек в округе, он играл в делах мастерской далеко не последнюю роль. Он был не глуп, лет с десяти работал в керамической мастерской и разбирался в керамических красках и поливах не хуже, чем опытная хозяйка – в приправах и специях. К тому же самоучкой он овладел рисунком тушью и акварелью, знал скоропись, мог сделать набросок для росписи; не удивительно, что здесь, в провинциальном городе, он считался восходящим светилом. На мой взгляд, правда, звезд он с неба не хватал и практической хватки в нем было больше, чем природной одаренности…




![Книга Чудесная кукла [Рассказы] автора Кудзаг Дзесов](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-chudesnaya-kukla-rasskazy-273931.jpg)


![Книга Донская повесть. Наташина жалость [Повести] автора Николай Сухов](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-donskaya-povest.-natashina-zhalost-povesti-168490.jpg)

