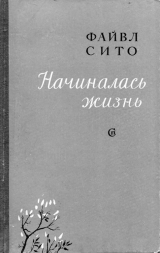
Текст книги "Начиналась жизнь"
Автор книги: Файвл Сито
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
Первыми переступили порог детского дома трое: Бэйлка, Гера, Бэрл.
Нищая была так настойчива, что учитель не мог от нее отбиться. По нескольку раз в день появлялась она в детдоме, не давая Шраге покоя. Учитель понимал, какая судьба ожидает темноволосую девочку, если не взять ее от матери. Не мог он также отказать и матери Геры. Женщина попросила зайти посмотреть, как она живет. Ей бы только спасти сына! Способный мальчик, из него может выйти толк.
Шраге пошел. Долго они кружили по кривым уличкам Холодной горы, пока не попали в узенький переулок из нескольких лачуг.
Мать Геры жила в кухне. Мебели не было никакой. Посреди комнаты стоял опрокинутый ящик, служивший, по-видимому, и столом, и стулом, и кроватью. В углу валялась куча тряпья.
– Садитесь, – засуетилась женщина. Она вытерла полой край ящика и указала на него учителю.
– Садитесь сюда. Что поделаешь… Бедность… Ну, теперь примете моего сына в приют?
Шраге утвердительно кивнул головой.
Прием в детский дом Бэйлки и Геры вызвал недовольство Левмана. У Шраге с инспектором произошла стычка. Инспектор вызвал к себе учителя и наговорил ему много неприятного. Черные брови инспектора сдвинулись и почти закрыли маленькие глаза.
– Товарищ Шраге, – говорил он, – в первые же дни работы вы допустили ошибку. Вас разжалобили материнские слезы. Этого не должно быть. Есть много детей, которые гибнут на улице, не имея родных. Их надо принимать прежде всего.
– Вы забываете, товарищ Левман, – сказал Шраге, – что Бэйлка и Гера стояли на краю пропасти. Нельзя было оставить их при матерях.
– Я знаю это, товарищ Шраге. Но пройдитесь к вокзалу, и вы увидите сотни детей, настоящих кандидатов на «дно». Их мы должны в первую очередь принять в детдом. Эти уже переступили край пропасти.
Шраге не ответил.
Дня через два Шраге начал обходить вокзалы. В городе их было несколько. Встретив оборванного ребенка, учитель останавливал его и спрашивал:
– Хочешь каждый день завтракать, обедать, ужинать?
– Да. Хочу.
– А спать каждый день в мягкой постели?
– Да.
– Ну, а в детский дом хочешь?
На этот вопрос обычно не отвечали. Но Шраге умел подойти к каждому:
– В детском доме будешь есть, сколько захочешь.
– В детском доме будешь хорошо одет.
– В детском доме…
Только с двумя мальчуганами ему пришлось нелегко. Они стояли, обнявшись, заложив ногу за ногу, и блестящими глазенками осматривали пассажиров, особенно их руки с вещами.
Шраге не спускал глаз со своей «дичи». Приблизившись к мальчикам, он спросил:
– Ребята, вы откуда?
– Посмотри-ка на него! – сказал один из мальчиков, кудрявый Йошка Кройн, прищурив правый глаз и толкнув товарища в бок. – Что этому чудаку нужно, не знаешь?
– А вам что за дело? – громко спросил у учителя второй мальчик. – Вам это зачем?
– Гм… меня просто интересует. Где-то я вас как будто видел…
– Что он там мелет? – перебил его Йошка, моргнув правым глазом в сторону Шраге. – Что он голову морочит?
Но Бэрл спокойно сказал, не спуская глаз с чемодана у перронной кассы:
– А я вас в первый раз вижу.
– Мне кажется, ты не здешний?
– Скажите, вы в самом деле такой или только дурака валяете? – снова перебил Йошка.
– Нет, вы ошиблись, я здешний, – с прежним хладнокровием ответил Бэрл.
– Очевидно, я действительно ошибся. Скажи, а что ты делаешь на вокзале?
Йошка Кройн плюнул сквозь зубы, и плевок пролетел почти у самого лица учителя. Бэрл перевел взгляд на Шраге, а Йошка бросился вслед за дамой в фетровой шляпе, которая несла в левой руке замшевый саквояж. Бэрл остался с учителем.
– Скажи, не лучше ли было бы тебе в детдоме?
– А чем мне здесь плохо?
– А чем тебе здесь хорошо?
Бэрл молчал.
Долго пришлось Шраге уговаривать Бэрла, наконец этот пронырливый тринадцатилетний подросток был побежден. Они отправились по Екатеринославской улице. Впереди шел Бэрл. Ветер распахнул полы его короткого пиджака, одетого наизнанку. Шраге шел позади и следил за тем, как бы мальчишка не дал стрекача.
Трамвай с шумом и звоном пролетел мимо. Сидевший на буфере Йошка Кройн, увидев Бэрла, завопил на всю улицу:
– Бэрл? Куда?
Бэрл рванулся было вперед, но, пробежав немного, замедлил шаг.
– Вот здесь ты будешь жить. – С этими словами Шраге открыл перед Бэрлом дверь детского дома. Паренек удивленно осматривал пустые комнаты, и в его косых глазах учитель прочел недоумение: это и есть те чудеса, что ему наобещали?!
Бэрл быстро освоился с тремя жильцами детского дома – учителем Шраге, Бэйлкой и Герой. Геру он на другой же день отдубасил. Бэйлку ни за что обругал. Учителя невзлюбил за мягкость характера.
Зима. Детский дом мерзнет. После долгой беготни по учреждениям Шраге удалось наконец достать воз дров. Ребята выскочили во двор. Одни пилили дрова, другие рубили, третьи подбадривали работавших криками: «Раз! Раз!» Когда пришла Бэрлу очередь пилить, он заупрямился: не хочу, и все!
Гера взбежал по ступенькам и закричал нараспев:
– Учитель Израиль! Бэрл не хочет пилить дрова!
Шраге вмиг очутился во дворе. Подойдя к детям, он постоял немного, закусив нижнюю губу. Потом мягко сказал:
– Дети…
Ребята загалдели. Гера возмущался поведением Бэрла. Если так, то и он не хочет работать. Шраге снова закусил губу, нахмурил брови и обратился к Бэрлу:
– Это не годится, братец. В коллективе все должны работать.
– Ну, что вы ко мне пристали? – сердито ответил Бэрл. – Не хочу пилить, и баста!
– Почему?
Ответа Шраге не получил.
…Зима сковала город. Метели гуляли по улицам. Ветер срывал вывески, забирался за воротники прохожим. Шраге был озабочен. В газетах он читал, что в Курске пришлось поставить пятьсот новых коек для тифозных больных. В Самарской губернии голодают села. Местная газета объявила, что на днях придется уменьшить на осьмушку хлебный паек.
Шраге прищурил глаза.
УЧИТЕЛЬНИЦА РОХЛУтром в переднюю детского дома вошла высокая черноволосая и черноглазая женщина. Трудно было определить, что скрывалось в ее глазах: то ли сон, то ли усталость. Она спросила Шраге. Бэрл, увидя незнакомку, сбежал по ступенькам и остановился перед ней, чтобы получше разглядеть. Судя по гримасе, которую он скорчил за ее спиной, гостья ему не понравилась.
Шраге в это время стоял в коридоре. По его полным губам скользила радостная улыбка.
– Рохл! – взволнованно вырвалось у него. – Когда ты приехала?
– Израиль!..
По коридорам неслась весть:
– К учителю приехала жена.
Учительница Рохл была добрая женщина. Ее сердечность, переходившая в настоящую материнскую нежность, вызвала ответную привязанность к ней и любовь детей. С первых же дней дети окрестили ее тетей Рохл. Она мыла их вшивые головы с такой самоотверженностью, как мыла бы их собственным детям. Когда заболевал ребенок, она часами просиживала у его кровати, перестилала ему постель, выносила ночную посуду.
Она баловала детей. Если дети хотели чего-нибудь добиться у учителя, они сперва обращались к тете Рохл, а уж она старалась замолвить за них словечко перед мужем.
На своей любви к детям она построила целую теорию. Каждый человек, говорила она, имеет свое призвание. Ее призвание – отдаться всецело воспитанию детей. Лучшей наградой для нее будет, если дети полюбят ее и почувствуют в ней мать. Многие педагоги считают, что учитель должен быть старшим товарищем детей. Учительница Рохл была иного мнения. Прежде всего надо быть им матерью: ведь это сироты, у них нет родных, нет никого, кроме учителей.
ЭТО ТЫ ВЗЯЛ?– Признайся Бэрл!
– Я не брал, товарищ Шраге.
Учитель нахмурил брови.
– Ты говоришь неправду.
– Ну, если так, я не хочу больше с вами разговаривать! – увернулся мальчик от пытливого, напряженного взгляда учителя, побежал в спальню и бросился на кровать.
Шраге остался в коридоре. Было тихо. Из зала еле доносился голос Рохл, прерываемый детским смехом. Слышно было, как в конце коридора трещали в печке дрова, пожираемые сердитым пламенем.
Шраге задумался. Какой подход нужен к такому подростку? Уж очень он упрям, не признает никакого авторитета. Он взломал шкаф и вытащил оттуда пять порций мяса. В спальне мальчиков не хватает простыни – это тоже дело его рук. Две ночи подряд он не спал в детдоме. Пора этому положить конец, иначе из мальчика вырастет преступник и виновен будет он, Шраге, никто другой. Надо сломить упорство Бэрла.
Шраге направился в спальню.
Бэрл лежал на постели, зарывшись головой в подушку.
Шраге подошел к мальчику, взял за руку и велел подняться с постели. Бэрл неохотно встал.
– Что ты только позволяешь себе? – сказал: Шраге.
Бэрл хотел ответить: «Не приставайте ко мне, оставьте меня в покое!» – но промолчал.
– Все ребята уверяют, что это ты взломал шкаф.
– А кто вам сказал, что я это отрицаю?
На лице учителя появился румянец. Шраге задвигал челюстями, будто что-то застряло у него в зубах. Его охватило отвращение к этому наглому мальчишке.
– По-твоему, достаточно того, что ты не отрицаешь?
Бэрл был бы счастлив, если бы в этот момент под ним провалился пол. Он не хотел слушать учителя. Тот вечно твердил ему про всех детей. Какое дело ему до всех? Они такие, а он совсем иной!
– Учитель Израиль, чего вы от меня хотите? – поднял он глаза на Шраге.
– Я хочу, чтобы ты был таким, как все дети.
Опять эти все! Наплевать ему на всех. Вот! Он вовсе не хочет подражать всем. И пусть Шраге лучше убирается отсюда.
– Ты должен мне обещать, что возьмешь себя в руки. Иначе будет плохо.
Бэрл иронически прищурил глаза.
– Да, да, – повторил сердито Шраге. – Тебе будет очень плохо.
В это время учитель увидел в окно постороннего человека, поднимавшегося по ступенькам с четырьмя детьми.
– Ну… – взял он Бэрла за локоть. – Надеюсь, нам больше об этом говорить не придется, – и пошел навстречу посетителю.
«Вот пристал! – глубоко вздохнул Бэрл. – Подумаешь, какую историю раздули из-за пяти кусков мяса. Да лучше бы они сгнили там, в шкафу, чем мне слушать эти разговорчики».
КОРМИЛЬЦЫ…На улице вьюга. Снегу по колено. Время от времени он вздымается вверх и вихрем несется вдоль улицы. Резкий ветер хлещет в глаза, обжигает лицо. Он рвет подушку, засунутую в раму вместо выбитого стекла, поминутно выталкивает ее, как пробку из бутылки, и хлопья снега летят в комнату. Ветер – задорный и навязчивый. Внезапно он срывает ставень и волочит его по длинной улице.
Сестра лежит в сыпном тифу. Укутавшись в одеяло, сидит в углу мать.
Вот у людей сыновья. Пойдет вытащит пару досок из забора – растопишь печь. А меня бог наградил таким лодырем.
Сын, двенадцатилетний «лодырь», сидит в другом углу и разглядывает свои босые ноги. Он смотрит на них и думает, во что бы обуться. Ветер бьет в окно в такт его мыслям. Ветер не успокаивается и снова выталкивает подушку из рамы. «Лодырь» заворачивает ноги в юбки матери, завязывает эти импровизированные ботинки шнурками от старого корсета, натягивает на себя материн потертый жакет, голову окутывает ее рваным платком и отправляется на «охоту».
Хозяйка двора, забору которого грозит нападение, глядит в окно. Она уже привыкла к этим набегам. Глаза ее смотрят пронизывающе, зло, они режут, как ветер. Но и мальчик привык. Он прокрадывается закоулками, чтобы обмануть ее… Хозяйка теряет его из виду.
«Лодырь» отдирает замерзшими пальцами доску от обледеневшего забора. Доска прибита гвоздями. Железо не хочет отпустить доску, но пальцы не могут расстаться с ней. Борьба длится несколько минут, и наконец побеждает мальчик. Вот уже он мчится обратно, таща доску. Ветер гонит его в спину и помогает бежать.
«Лодырь» влетает в комнату, с грохотом бросает доску на пол, чтобы услышала мать. Он, право же, заслужил имя кормильца.
Вот такими «лодырями»-кормильцами были четверо вновь прибывших в детдом.
Первым в глаза Шраге бросился низенький мальчик в женской кофте с большим вырезом, в длинных брюках «клеш», сшитых из старого тонкого одеяла. Голова у мальчика маленькая, как у двухлетнего ребенка. Лицо – асимметричное, с карими глазами и длинноватым, слегка искривленным влево носом.
…Осень. Несколько месяцев спустя после ухода деникинцев молоденькая девушка привезла из Курска этого худого упрямого мальчика. Девушка хотела поскорее избавиться от братишки. Ей сказали, что на Чеботарской есть изолятор; она привела брата туда, а сама черным ходом вышла на улицу и направилась к вокзалу. Мальчик с криком выбежал за ней, но сестры уже не было. Его силой увели обратно в изолятор. Он упирался, его тащили за руки по каменному полу, стерли ему колени. Молодые обитатели изолятора сразу же угостили его «темной». Делалось это просто. Накинули одеяло на голову и начали дубасить. Потом сняли одеяло и спросили, как зовут.
– Файвл Сито, – ответил худощавый мальчик. Имя было странное.
– Как бы тебя ни звали, черт тебя побери, – сказал один из обитателей изолятора, – но если ты еще раз поднимешь такой визг, то получишь новую порцию.
На следующий день Файвл исчез из изолятора. Он направился на вокзал и, не задумываясь, сел в первый попавшийся поезд. Ему было безразлично куда ехать – дома у него не было.
Отца он потерял, когда ему было шесть лет. Через два года потерял старшего брата. Была тогда ранняя осень. Тихий волынский вечер опустился на маленькие хатки пустого местечка.
Война… Солнце повисло в небе, как большой кровавый шар. Вечер был теплый, и на завалинках сидели женщины, ожидая вестей с фронта. Пустые подводы возвращались домой, поднимая по улице густую теплую пыль.
Маленькие дети ничего не хотели знать о войне. Они бегали следом за подводами и беззаботно купались в пыли.
Мать Файвла стояла во дворе и раздувала сапогом самовар. В это время пришел почтальон и принес ей пакет. Мать распечатала. Сапог выпал из ее рук и, падая, зацепил за кран. Мать застыла на минуту, как испуганный голубь. Вода быстро вытекала из открытого крана. Но вот мать истерически вскрикнула и побежала, опрокинув самовар. Она рвала на себе волосы, била себя кулаками в виски.
– Единственного моего кормильца убили!.. – Угрожающе подняла стиснутые кулаки и завопила: – Николка, Николка злодей! Отдай мне моего сына!..
…Фронт придвигался. Местечко наполнилось солдатами. Через некоторое время жители начали уходить. Семью Файвла эшелон оставил в Курске. Здесь она поселилась в Казацкой слободке. Файвлу пришлось переменить свое еврейское имя на Павел: никто из слободских детей не мог выговорить его трудное имя.
Дети переделали Павла на Пашку.
В слободке он научился метать камни в чужие окна, подбивать собакам ноги, пускать змея. От нечего делать шатался по базару, пробуя голубей у продавцов. Неловко брал он голубя в руки, всовывал птичий клювик себе в рот и, внезапно выпустив птицу, бросался наутек. Все эти «штуки» завоевали ему симпатии слободских парней, и когда весной на большой площади появилась карусель, ему разрешалось взбираться наверх и вертеть машину. Это был знак полного уважения к нему.
Матери захотелось, чтобы сын читал заупокойную молитву, «кадиш», по отцу. Она дала синагогальному служке две бутылки керосина и попросила научить ее сына этой молитве. Но как ни старался служка, дальше первой фразы Файвл не пошел.
– Тупая твоя голова… мешумед[7]7
Принявший христианскую веру.
[Закрыть] просто! – сердился служка. – Хася, вы должны приструнить вашего выродка!
Мать пробовала отдать сына в талмуд-тору[8]8
Еврейская школа для бедных детей.
[Закрыть]. Первое время он посещал школу аккуратно: там давали горячие завтраки. Но перестали давать завтраки, и Пашка больше на порог туда не появлялся.
Потом наступили тяжелые дни. Пашка стал кормильцем семьи. Торговал папиросами на базаре, он был так мало сведущ в коммерции, что его патрон, Аба Перельман, вынужден был вскоре отказать ему. Тогда Файвл взялся за мыло, но и здесь прогорел. «Лавочку» пришлось через несколько дней закрыть. Он открыл новую торговлю – семечками. Стоял целыми вечерами возле кинотеатров с лукошком жареных семечек, но больше поедал их сам, чем продавал.
Он еще нанимался к заготовщику обуви вставлять пистоны в ботинки, но и тут долго не удержался: хозяину невыгодно было из-за нескольких дюжин набитых пистонов иметь лишнего едока в семье.
Вскоре ветры принесли с собой снег и холод, а в доме не было ни щепки. Тогда Файвл принялся отдирать доски от заборов. Обе сестры одновременно заболели сыпным тифом. Кормилец, однако, не растерялся. Он поместил сестер в больницы в разных концах города: одну – у Московских ворот, другую – у Херсонских.
Спустя несколько дней мать тоже занемогла. В доме не было ни крошки. Кормилец мог помочь только одним – добывал доски и обогревал комнату.
Мать таяла. Она сделалась бледной и тонкой, как свеча, и стонала от голода. Протянув недолго, мать умерла.
В вечер ее смерти был сильный мороз. Это случилось в субботу, и синагогальный служка отказался хоронить ее до следующего дня. Труп пролежал в комнате около суток. Всю ночь сидел мальчик у постели матери. Она лежала с широко раскрытыми глазами и разинутым ртом – точно испугалась чего-то перед смертью. Длинные босые ноги выбили в минуту агонии тоненькую деревянную спинку кровати. Мальчик сидел у изголовья. За окном бушевал ветер. Где-то выли собаки. Ветер ежеминутно врывался сквозь щели и через разбитое окно в комнату, шевелил волосы на мертвой голове. Мальчик не плакал. Он не спускал глаз с мертвой, ему не верилось, что это его мать. Всю ночь просидел он молча, а утром, когда первые солнечные лучи упали на вытянутое тело матери, он вдруг взвизгнул и бросился к постели.
– Мама… – кричал мальчик, – мама, зачем ты умерла?!
Ветер врывался в разбитое окно.
Утром пришли старухи. Они положили мать на подводу, вместе с другими мертвецами, покрытыми рогожей. Мальчик сел рядом с возчиком и проводил мать на кладбище.
Старшая сестра, выйдя из больницы, отвезла брата в чужой город, сдала в изолятор и исчезла…
…Куда же ехать?
Долго мальчик не раздумывал, залез под скамейку и уснул. Он не помнит, сколько спал. Помнит только, что, когда кондуктор вытолкнул его из вагона, была темная ночь и лил сильный дождь.
Поезд ушел, а мальчик остался между рельсами один-одинешенек. Вначале дождь был ему даже приятен, так как немного освежил его.
Но дождь все лил. Далеко во тьме маячили фонари, разбросанные по тракту. Где-то вблизи ревели паровозы, выпуская густые клубы пара. Пашка стоял на линии и не знал, куда деваться. Он сильно промок. Его охватила дрожь.
Мальчик бросился бежать. Только теперь он почувствовал всю силу дождя, хлеставшего его крупными каплями по лицу. Он бежал навстречу дождю. Курьерский согнал его с пути. Мчавшийся поезд едва не убил мальчика. Паровоз свистнул над ним, и долго еще этот свист стоял в его ушах.
На станции, куда Пашка забежал согреться, какие-то женщины пытались приласкать его, но он ответил им бранью. Он не выносил жалости к себе. Он снял сорочку и выжал ее. То же сделал с брюками. Он чувствовал сильный голод. В желудке бурчало.
Где достать еды? Просить? Украсть? Просить – все спят. Украсть – ничего не было перед глазами. Пашка решил как-нибудь дотянуть ночь. На его счастье прибыл новый поезд. Направление поезда Пашку нисколько не интересовало. Мальчик пробрался в вагон, опять устроился под скамейкой. Когда на остановке его снова вытолкнули из вагона, оказалось, что он очутился в том самом городе, откуда недавно удрал. «Фу-ты ну-ты!», – усмехнулся Пашка и, не имея другого места, сам направился в тот же изолятор.
Ребята встретили его весьма радушно.
– Гость явился!
– Здрасьте!
Через несколько дней он снова ушел из изолятора, целый год шатался по базарам и вокзалам и, сделав небольшой «рейс» по стране, опять вернулся в прежний изолятор. Оттуда его и перевели в еврейский детский дом.
Паренек привлек внимание Шраге. Учитель подошел к нему с улыбкой, но Пашка на улыбку не ответил.
Второй «кормилец» отличался от остальных трех рахитичной головой и большими ушами. Он все время стоял молча, опустив голову. С трудом удалось Шраге добиться, чтобы тот назвал свое имя.
Звали его Ицик Соловей.
Ицик долго колебался, прежде чем решил оставить свой дом. Он знал хорошо, что больная мать не может простаивать ночи на морозе в очереди за хлебом. Так же хорошо он знал, что мать не сумеет, как он, таскать доски из соседних заборов, чтобы согреть пузатую румынку. Ицик тоже остался единственным кормильцем. Это ему придавало мужества. Он чувствовал себя главой семьи. Он мечтал пойти на фронт, как старший брат, но красноармейцы не взяли его с собой.
– Мал еще! От первого же выстрела брюки потеряешь!..
Он-то, положим, не растерялся бы! Вот недавно хозяйка натравила на него собаку, когда он отрывал доски. Пес вцепился в ногу, но Ицик не испугался, хватил собаку доской по голове, а сам, ковыляя, все же дотащил доску до дома.
Третьего звали Шлемка Косой. В город его привез красноармеец.
Отец Шлемки был портной, бедный портной. Во время гражданской войны в местечке, где они жили, часто сменялась власть.
Вошли красные. Командиру понадобились брюки, так как старые попросту вытерлись от постоянного сидения в седле. К кому же идти командиру? Конечно, к отцу Шлемки. Его звали Янкель-портной.
Янкель-портной был очень польщен тем, что сам командир пришел к нему. Это была для него большая честь. Он сшил командиру брюки и отказался от платы.
– Такой человек, – сказал он, – вполне заслуживает, чтобы ему сшили пару брюк бесплатно.
Командир усмехнулся и крепко пожал портному руку.
Вскоре красным пришлось отступить и временно отдать город белым. Кто-то донес, что Янкель-портной сшил большевику бесплатно брюки. К Янкелю пришел шкуровец и приказал сшить ему брюки из его, Янкеля, материала. Портной сказал, что у него нет материала.
– Как нет?! – разбушевался шкуровец. – Для большевика, значит, есть, а для меня нет! – Вынул револьвер и застрелил портного. Как сидел Янкель-портной за машиной, когда вошел шкуровец, так и остался сидеть мертвым. Только голову опустил.
Вот что помнил Шлемка. Был тогда большой голод. Соседи посоветовали ему отправиться в город, поискать себе пристанища и начать торговать солью. Они собрали между собой деньги и купили ему мешочек соли. Шлемка положил мешочек на плечи и отправился на вокзал.
Свирепствовал мороз. Ветер, словно бешеная собака, преследовал Шлемку и кусал за икры.
На ступеньках, на крышах, на тендерах, на буферах:
Люди.
Мешки.
Лохмотья.
Кто-то помог Шлемке влезть на крышу. Он был счастлив. Безгранично счастлив. Он обменяет мешочек соли на хлеб и повезет хлеб больной сестре.
Поезд тянулся медленно, как ленивый вол. Проплывали сельские хаты, белые поля и леса. Издали хаты были похожи на скирды гнилой соломы.
Ветер все сильнее донимал Шлемку, обжигал лицо.
Шлемка, зажмурив глаза, хотел вздремнуть, но поезд внезапно рванулся вперед, дернул вагоны и ускорил ход. Пассажиров на крыше сильно встряхнуло. Шлемка еле успел схватить свой мешочек с солью, вскрикнул «мама» и скатился с крыши.
Было уже темно.
Шлемка бросился бежать за поездом, но ежеминутно проваливался в глубокий снег, по самый живот. Тогда он сел на снег и закричал.
Ему захотелось есть. Он вытащил из мешочка кусочек соли, попробовал и выплюнул.
Внезапно ему вспомнилось: Зисл Левин припрятал много хлеба, Шлемка сам видел это. Как только доберется до города, то сразу же побежит в Чека и все расскажет. С ним отрядят двух чекистов, чтобы отобрать у Левина хлеб. Уж он покажет этому мерзкому спекулянту, с маленькими мышиными глазками и потными мягкими ручками!
– Зисл! Сию же минуту клади спрятанный хлеб на стол! – И сразу же по матери его, и еще, и еще раз. – Прятать хлеб, когда люди подыхают, не имея куска макухи!..
И Зисл Левин выкладывает на стол двадцать хлебов, свеженьких, пушистых, подрумяненных. А Шлемка тотчас же отдает приказ:
– Арестовать его, этого негодного спекулянта! Расстрелять его надо, как собаку!
Но кругом тишина. Никакого Левина нет.
…Красноармеец остановился около ребенка, его подбородок задрожал, он поднял мальчика и пустился догонять своих. Они утопали в глубоком снегу. Пуля задела левое плечо красноармейца. Рука задрожала, как от электрического тока, но мальчика он не выпустил.
С большим трудом удалось привести в чувство Шлемку. Красноармейцы окружили мальчика и начали расспрашивать, откуда он, но найденыш погрузился в тяжелое забытье и в бреду кричал:
– Арестуйте его, этого спекулянта!
Красноармеец доставил мальчика в городской госпиталь, назвавшись его родственником.
Последний из четырех новоприбывших был поэт. Правда, своим внешним видом он ничем поэта не напоминал. Вместо гордо откинутых назад локонов, его голова была покрыта стригущим лишаем. Глаза его тоже были мало поэтичны: маленькие, зеленые, как крыжовник. Нос был короток. Писал он просто, не мудрил. Звали его Пейсах Гутман.
В первой же стенной газете, которая была выпущена детским домом, он напечатал свою автобиографию в форме эпической поэмы:
Имел в глухом местечке
Лавчонку мой отец.
Мы жили очень бедно —
Плохой он был купец.
Подумал мой папаша:
«Чем так мне торговать,
Не кинуть ли лавчонку
И в город убежать?»
Дальше в стихах говорилось о том, как отец автора стал мешочником. Ездил на крышах поездов, его несколько раз ловили, потом он заболел и умер. Жить мальчику стало очень тяжело, и нужда выгнала его на улицу. Потом Пейсаха привели к учителю Шраге, и тот взял его в детдом. Он скоро свыкся с детдомом, полюбил учителя Израиля.
Заканчивалась эта поэтическая биография так:
«Да здравствует наша жизнь! Да здравствует Советская власть, потому что только она одна заботится о нас!»








