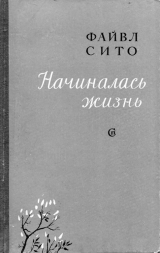
Текст книги "Начиналась жизнь"
Автор книги: Файвл Сито
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 17 страниц)
ВСТРЕЧИ
Рассказ
Уж если мы разговорились про встречи, расскажу и я вам о своей встрече с девушкой.
Было это в девятнадцатом. Лето. Посылают меня на подпольную работу в Харьков, в Харькове тогда были белые. Направили меня в распоряжение подпольного ревкома, но адреса его не дали. И понятно почему. Указали только две явки. И предупредили: если явки провалены, мне нужно поискать между двенадцатью и часом дня на Московской улице около грузинского буфета белокурую девушку с косами. В руках у нее будет газета «Южный край». Я должен подойти к ней и спросить: «Где здесь поселился дядя Яков?» Если она ответит: «Дядя Яков поселился очень далеко», то это – товарищ Нина, и она уже свяжет меня с ревкомом. «Словом, найдешь, – сказали мне, – когда есть голова на плечах, то находят выход». Я зашил в пиджак нужные документы – и в путь-дорогу.
В Харьков приехал я днем, часов в двенадцать, и сразу отправился на явку. Явка где-то на Холодной горе, на Григорьевском шоссе, у черта на куличках. Мне объяснили, что там, в подвале, должен жить портной. На улице даже есть вывеска. Нахожу дом – ни вывески, ни портного. Расспрашиваю соседей – говорят, что портной на днях выехал. Явка, значит, провалена. Отправляюсь искать вторую явку – на Николаевской улице. Там должна быть еврейская столовая. Прихожу: «Где столовая?» – «Какая столовая?» Нету. Была, да закрыли. Значит, вторая явка тоже провалена. Что теперь делать? Уже три часа, но я все-таки решаю поискать девушку с газетой. Все равно, другого выхода нет. Ага, вот действительно идет девушка с косами и держит газету «Южный край». Я подхожу к ней и спрашиваю: «Где здесь поселился дядя Яков?» Она как-то странно взглядывает на меня и говорит: «Молодой человек, вы в своем уме?..» И быстро удаляется… Смотрю на прохожих: как назло, теперь все проходят пожилые женщины. Стоп, вот опять идет молодая девушка с косами, в руках у нее газета. Испытываю еще раз свое счастье. Подхожу к ней и спрашиваю: «Где здесь поселился дядя Яков?» – «Отстаньте!» – бросает она и даже не останавливается.
На улице жарко, пыль невыносимая. Подхожу к ларьку с сельтерской и прошу стакан воды. Бросаю взгляд на продавца – ловкий парнишка с задранным носом. Прошу дать еще стакан, – дает. Подмигиваю ему, он отвечает тем же. Прошу третий стакан, пью понемногу и посматриваю на парнишку. Потом спрашиваю, так себе: «Жарко, а?» Он отвечает: «Да, жарко!» – «Ну, как торговля?» Он отвечает: «Очень хорошо!» Больше мне нечего у него спрашивать, и я отправляюсь дальше.
Харьков – город большой, а я здесь впервые. Никакого адреса у меня нет, никого я не знаю. Улицы – незнакомые, куда идти – мне безразлично. Вхожу в сквер, выбираю свободную скамью и сажусь отдохнуть. Сижу так с четверть часа, подходит парень в студенческой фуражке, в очках, и садится на другом конце скамьи. Сидим, оба молчим. Наконец я бросаю: «Жаркий день!» Он отвечает: «Да, жаркий день!» И мы опять молчим. О чем еще могу я его спросить? Я поднимаюсь и ухожу. Оглядываюсь, парень идет за мной. Что это значит?
Усталый, вхожу в другой сквер. Только я присел, пробегает белобрысый мальчишка, продавец газет, и во весь голос кричит не переводя дыхания: «Газета «Южный край»! Пойман большевистский комиссар! Газета «Южный край»!» Покупаю газету, мельком бросаю взгляд на продавца – замечательный мальчишка! «Продаешь газеты?» – спрашиваю его. «Продаю», – отвечает он. О чем еще спросить у него? «Весело в городе? А?» – «Еще как весело!» – отвечает он и убегает довольный, выкрикивая: «Газета «Южный край», пойман большевистский комиссар, газета «Южный край»!..»
Торопливо перелистываю газету, хочу прочесть о пойманном большевистском комиссаре, но – ничего похожего! Даже ни слова об этом. Но что делать? Куда деваться? Гляжу на прохожих – незнакомые лица. Перед глазами мелькают погоны, шпоры, лампасы, аксельбанты. Я и не заметил, как на мою скамью сел офицер. «Скучаешь?» – спрашивает он меня вдруг. – «Да, скучаю», – отвечаю ему. «По большевикам, наверное?» – говорит он, и я сразу краснею. Мурашки пробегают у меня по телу. Ну, теперь я пропал! Быстро поднимаюсь и ухожу. Оглядываюсь, не идет ли офицер за мной. Нет, – сидит. Еще удачно обошлось. Аллея длинная, сажусь на скамью в другом ее конце и опять оглядываюсь на офицера. Сидит, стервец, кажется, ждет кого-то. Да, я угадал. К нему подходит парень, здоровается, передает что-то и отходит. Жду: куда он повернет? Так и есть, парень приближается ко мне. Высокий, крепкий, скулы торчат; на нем шляпа, но она ему как-то не подходит. Он направляется к моей скамье и садится. «Знакомое лицо, – обращается он вдруг ко мне, – где я встречался с тобой?» – «Я вас не знаю, отстаньте», – отвечаю я. «Ты, братишка, – говорит он мне, – не ломай комедии. Скажи, ты – наш или нет? Что ты приезжий, я и сам вижу». Смотрю на него: шляпа ему в самом деле не подходит, но как я могу ответить на его вопрос? Может быть, «наш» означает у него, что я «ихний»? «Нет, думаю, если он якшается с белыми офицерами, он не может быть «наш». Парень видит, что я медлю с ответом, поднимается и говорит: «Адье, мон шер», снимает передо мной шляпу и, усмехаясь, уходит. Если так, нужно уносить ноги. Я ухожу оттуда.
Что же теперь делать? Солнце уже заходит, а мне некуда деваться. Улицы наполняются гуляющими, главным образом офицерами. Они расхаживают по городу как хозяева. Я вхожу в кафе, сажусь у отдельного столика, заказываю стакан чаю и принимаюсь за газету. И тотчас же напротив меня садится пожилой мужчина в новеньком костюме, с золотой цепочкой на жилете. Глазки у него маленькие, заплывшие – похоже, какой-то торговец. «Что хорошего пишут в газетах?» – ядовито спрашивает он. «Когда очень хотят знать, – отвечаю я, – то покупают себе газету». Я допиваю наскоро свой стакан чаю и выхожу из кафе.
На улице уже темно, и единственный выход у меня – отправиться ночевать на вокзал. Но если вдруг «облава», и у меня спросят, куда я еду, и потребуют билет? И мне приходит мысль – купить билет на такой поезд, который уходит в пять часов утра. Куда он отправляется, мне ведь все равно. Летом в пять утра уже совсем светло, и я опять пущусь по городу искать ревком, может быть завтра найду. Просматриваю расписание поездов: в пять утра отходит поезд в Ростов. Пусть будет Ростов. Покупаю билет, вхожу в буфет первого класса, заказываю четверть фунта колбасы, два стакана чаю и не спеша попиваю. Чего мне спешить? Мой поезд отходит ведь в пять часов… В полночь у меня начинают слипаться глаза, умираю – хочу спать. Но в первом классе спать не полагается. Вдруг входит в зал белокурая девушка с косами и садится как раз за мой столик. Ну, теперь мне уже не захочется спать! Она заказывает стакан чаю, закуривает папиросу. Я не люблю девушек, которые курят, но к ней это идет. Девушка с косами и – курит! Курение придает ей даже что-то мужское. Я пробую смотреть ей прямо в глаза, она отворачивает лицо. Она глядит на большие стенные часы, на буфет, на стены, только не на меня. Однако я набираюсь духу и спрашиваю ее, куда она едет. Она не отвечает. Я говорю тогда: «Почему бы красивой девушке и не поболтать за вокзальным столиком?» В ответ она улыбается. О, эта улыбка меня спасет! Но для того чтобы я не завел с ней беседы, девушка вынимает из ридикюля газету и разворачивает ее так, что заслоняет все лицо. Она делает вид, будто читает. Спать хочется – страх! Ну, нет, теперь совсем уж неприлично спать, когда напротив сидит девушка. Но я смертельно устал, склоняю голову на стол и все-таки начинаю дремать. Не знаю, сколько я спал. Разбудил меня сердитый голос человека с длинной бородой швейцара. «Куда едешь?» – «А что? – спохватываюсь я, испуганный. – Я еду в Ростов». – «В Ростов… – передразнивает он меня. – Через пять минут уходит поезд, живо!» Взглядываю на свою соседку, – она тоже дремлет. Бородатый будит и ее. Она сразу просыпается. «Куда едешь?» – спрашивает он тем же хозяйским тоном. Она зевает, показывает ему два ряда белых зубов. «В Ростов еду», – отвечает она. «Ростов, Ростов! – передразнивает он и ее. – Беги скорей, поезд уже отправляется». Она срывается со стула и быстро бежит из зала. Я иду за ней и вижу, что она направляется не на перрон, а в город. Вот тебе на! Значит, она – такой же пассажир, как и я! Не раздумывая, я пускаюсь вслед за ней. Походка у нее легкая, она не идет, а плывет. Я должен с ней познакомиться! Догоняю ее. Она оглядывает меня свысока, но я замечаю, что теплота, льющаяся из ее карих глаз, гораздо сильнее недовольства. «Что вы бежите за мной, как сумасшедший?» – говорит она и ускоряет шаг. Чудное дело, она бросила мне такие обидные слова, но без всякой злости. Теперь мы идем уже рядом. «Едем, значит, в Ростов?» – говорю я. – «Да, в Ростов», – отвечает она и улыбается. Я чувствую, что эта улыбка спасет меня. «Трудная работа нам теперь досталась, – говорю я, – трудная, но веселая!» Она быстро меряет меня глазами с головы до ног и тотчас же в упор спрашивает: «Кому это «нам»?» – «Кому? – говорю я. – Мне, вам… если не ошибаюсь, мы, кажется, выполняем с вами одну и ту же работу…» И я тотчас же раскаиваюсь, что сказал это. Она, правда, красивая девушка, но, как знать, кто она такая? Не знаю, что она в эту минуту подумала обо мне, возможно, она подумала то же, что я о ней, но мы замолчали.
Наступает утро. Появляются бородатые дворники с длинными метлами и начинают мести улицы. «Послушайте, молодой человек, – говорит она мне вдруг, – или перестаньте ходить за мной по пятам, или… возьмите меня под руку… ну, смелей. Если увидят, как вы ходите за мной следом, то могут обо мне подумать черт знает что… А во-вторых, кто вы… кого вы ищете?» Расскажи ей, что я ищу ревком! Я беру ее под руку. Она опять обращается ко мне: «Я ведь вас о чем-то спросила, почему вы не отвечаете?» Я молчу. «Ну?» – говорит она. «Что, ну?» – прикидываюсь я дурачком. «Молодой человек, бросьте ваши штучки. Или мы сейчас же расстанемся, или вы ответите на мой вопрос, кто вы?» – «Я – из того же теста, что и вы», – «Я не понимаю такого языка. Пароль?» – спрашивает она вдруг твердо, и это слово было для меня свежим ветерком, дождиком в знойный день, большой радостью. «Где здесь, – говорю я, – поселился дядя Яков?» – «Дядя Яков, – отвечает она, – поселился очень далеко». И она крепко пожимает мне руку… «Ну, теперь будем знакомы. Меня зовут Ниной… Вы давно нас ищете?..» Рассказываю. «Интересная встреча, – говорит она. – Ну, теперь слушайте меня внимательно. Запомните адрес. Вы постучите три раза. Пароль: «Здесь продают пианино?» Ответ: «Рояль фирмы Беккер». Там вы сможете отдохнуть несколько часов, помыться. А что касается ночлега, увидим вечером. Тут у нас провалились две явки, и мне приходится уже третью ночь дремать на вокзалах. Хорошо еще, что в городе их несколько… Ну, всего лучшего…».
Прихожу на явку, стучу три раза. Спрашивают из-за запертой двери: «Кто там?» Отвечаю: «Здесь продают пианино?» – «Рояль фирмы Беккер», – отвечают и сразу же открывают дверь. Смотрю, навстречу мне идет офицер, который вчера в сквере спрашивал меня, не скучаю ли я по большевикам. Он быстро подходит ко мне, крепко пожимает руку, как лучшему другу, которого он уже долгие, годы не видел. «Нам передали, – говорит он, – что сюда послали товарища… Но поди разыщи его!.. Эх, как мы нуждаемся в людях!.. Покажите-ка свои документы». Я показываю ему. «Сережа, поди-ка сюда!» – кричит офицер, и из другой комнаты выбегает вчерашний продавец газеты «Южный край» («Пойман большевистский комиссар!»), и он смеется, этот парень: он меня узнал. «Ну, вот что, – говорит мне «офицер», – вечером Сережа, наш курьер от революции, сведет тебя с Ниной, ты будешь работать с ней в типографии». – «С Ниной?» – говорю я. – «Да, с Ниной, – отвечает он. – А что, разве ты с ней знаком?» – «Да, – говорю я, – мы вчера случайно познакомились на вокзале… вместе ехали в Ростов… » Он усмехается и говорит: «Славная встреча, да… Ну, Сережа, иди, сведи его куда надо, и пусть он прежде всего выспится».
1938
Перевод С. Родова.
РАЗЛУКА
Рассказ
1
– Таня, знаешь? Я получил повестку из военкомата, меня призывают в армию.
Произнес это стройный русоволосый парень, токарь Харьковского тракторного завода. Трудно передать радость, с которой сказаны были эти слова. Однако совсем иначе прозвучали они для Тани. У молодой женщины при таком известии появилось желание разреветься навзрыд, чтобы плач ее слышен был за десять кварталов и на десятой улице. Но на самом деле заплакала она совсем тихонько. Скупые слезы, величиной с горошину, медленно катились по ее румяным щечкам.
– Что же будет со мной, Шлема? Сам подумай, что ты натворил: жениться за три месяца до того, как идти в армию!
Она говорила то громко, то тише, то взволнованно, то спокойнее, сплетя пальцы рук и забросив их за голову, сперва закрыв глаза, потом опять раскрыв их.
– Ну хорошо, поезжай, поезжай, Шлема! Я глупая девчонка, и потому плачу. Кто оплакивает своего мужа, уходящего в Красную Армию! Но разве тебе совсем не жалко расстаться со мной? Что ты молчишь, Шлема?
И неожиданно для нее самой на ее щеках опять появились две крупные слезы.
– Я знаю, я – глупая телка, и потому я плачу. А еще в комсомоле! Но, поверь мне, не потому я плачу, что ты идешь в Красную Армию, не потому плачу я, Шлема, не потому.
Она утерла слезы, прикрыла ладонью глаза и так стояла несколько минут, словно о чем-то задумалась, а потом опять заговорила возбужденно:
– Ребенок родится и даже не увидит отца. Ну, обернись ко мне. Я уже не плачу.
На этот раз ни единая слеза не катилась из ее глаз, но все лицо ее было мокро и красно.
2
На призывном пункте, ожидая своей очереди к врачам, Шлема упорно старался выжать из пианино одним пальцем мотив: «Нас побить, побить хотели». Однако ничего у него не получалось, и он сердился на пианино, как злятся иногда на тупого, упрямого человека. Шлема начал сильнее стучать пальцами по клавишам. Потом он попробовал также нажать на педали, сперва на одну, затем на другую, наконец, на обе сразу, но все это мало помогло.
Из разговора с Таней сейчас в голове у него вертелась лишь одна фраза: «Жениться за три месяца до того, как нужно идти в армию». Но неужели ему нельзя было? Зато когда он возвратится из армии, то уже застанет ребенка, русоволосого сынка. А может, нет? Но этой мысли он даже и допустить не хотел.
Он был необычно весел на пункте. Совершенно незнакомые друг другу люди жизнерадостно и плутовски перемигивались, словно давнишние приятели. Тут необычно быстро сближались и в течение нескольких минут становились такими друзьями, точно знали друг друга и росли вместе с самого детства. Что-то их всех объединяло здесь в один коллектив еще раньше, чем они становились красноармейцами, – вот этих простых украинских, еврейских, русских парней, вот этих крепких молодцов с десятков заводов, стерев различие наций и областей, – и образовывало одну крепкую семью, семью двадцатилетних, которые не дадут друг друга в обиду.
Собственно говоря, Шлема, признаться, чувствует себя немного виноватым перед Таней, но ошибку эту даже если бы он и хотел, то уже не мог исправить, потому что это зависит не только от него. Да если бы и зависело, то ее тихий, но истерический плач все равно не заставил бы его отказаться от почти мальчишеской мечты стать кавалеристом в Красной Армии… Скоро его позовут в кабинеты, где ему начнут выворачивать веки, залезать чем-то в уши, совать ему ложечку в рот и прикажут блеять, как козе: э-э-э… Затем в каком-то десятом по счету кабинете ему велят раздеться, взвесят, вымерят, будут щупать пульс, предложат дышать, не дышать, а затем скажут кратко, лаконично и точно:
– Годен!
…Таня работает, зарабатывает, она – комсомолка, ничего плохого не случится с ней за этот год!..
– Кац Соломон Давидович!
– Есть!
Странное чувство! Десять военных, рабочих, простых парней, таких же, как ты, сидят за столом, а ты должен стоять пред ними в чем тебя мать родила.
– Хорош! – улыбается командир, увидя словно из стали вылитые плечи Шлемы. – Ну, а в армию хочешь идти, товарищ Кац? Только правду скажи!
Лучше бы его оглушили по голове вязанкой дров! Он подошел вплотную к столу, глянул командиру прямо в глаза и так свободно, независимо, как разговаривают с близким другом, ответил:
– Ты издеваешься надо мной, товарищ командир!
– Ладно, ладно, одевайся.
Едва он вышел из кабинета, как заметил: Таня!
Как она попала сюда?
– Зачем ты пришла, Таня? – гневно спросил он, потому что она была единственной женщиной, которая сейчас находилась на пункте.
– Я, я… хотела бы, если это возможно, чтобы… чтобы оставили тебя служить у нас в городе…
Ее слова, как секущий град, упали на голову Шлемы.
3
Через пять минут отходит поезд. Ах, если бы эти пять минут длились хотя бы пять часов! Таня говорит и говорит… И не о том, чтобы он аккуратно писал ей, говорит она с ним не о том, что ребенок родится и даже не увидит своего отца, а все о своем поведении, больше всего о своем нелепом появлении на призывном пункте. Она никак не может припомнить, что ее толкнуло сделать такую глупость… Пусть Шлема простит ее. Она совсем не думала оскорбить его этим, нет, нет… Это только оттого, что она его очень любит… Лишь оттого…
Перроны были полны провожающими.
…Девочкой лет пяти Таня тоже однажды была на этом вокзале в тысяча девятьсот пятнадцатом году – единственное происшествие из ее детских лет, которое навеки запечатлелось в ее памяти.
Мать Тани, почти без чувств, стояла опершись о столб, ломала себе руки и рвала волосы на голове. Из набитых до отказа людьми теплушек несло густым запахом водки. Из узких окошечек, сменяясь, каждый раз выглядывает желтое как воск лицо, и лишь одно слово срывается с губ, слово, которое заменяет десятки тысяч слов:
– Мама…
– Брат…
И ветер относит обратно в теплушки:
– Дорогой!..
– Кормилец!..
Паровоз дал последний свисток и точно ножом прошелся по сотням сердец… Из узких теплушечных оконец в последний раз выглядывают молодые лица, обреченные на погибель… Паровоз тронулся с места, и по перрону пронеслось громкое рыдание, а из исчезавших с глаз теплушек доносились последние слова песни, которую уносил с собою поезд:
Еще заплачет дорогая,
С которой шел я под венец…
…Паровоз дал свисток, и Шлема вошел в вагон. Гармошка в последний раз со странными музыкальными выкрутасами отгремела русскую «Разлуку», и смех, бодрый, молодой, провожал поезд, а затем, когда крайний вагон уже скрылся из виду, вся платформа – стар и млад – как один человек затянула песню, комсомольскую, двадцатидвухлетнюю.
Таня тоже пела. Она пела полным голосом, высоко и звонко, как в большой праздник, гордо подняв голову к небу. Ею вдруг овладела гордость, та гордость, которой уже несколько лет живет ее муж, мечтая стать кавалеристом в Красной Армии… Ею овладела гордость быть женой бойца, охраняющего наши границы.
И она теперь еще крепче полюбила своего Шлему.
1933
Перевод С. Родова.
ТОВАРИЩИ
Рассказ
Случилось это ночью, осенней порой. Они втроем шли в разведку: Зяма Гиммельфарб, Ганеев – казах, главный бухгалтер из поселка под Чимкентом, и Ваня Кучер – белобрысый белорусский паренек из Речицы.
Не успели еще разведчики добраться до «Кубанской колонки», где они должны были узнать, каким образом и на каких дорогах закрепилась немецкая противотанковая дивизия, переброшенная сюда с Керченского полуострова, как наткнулись на немецкий патруль. Сколько немцев было в этом патруле, никто из них не знал. Завязался короткий, но жестокий бой. Когда перестрелка прекратилась, Ганеев лежал мертвый, лицом к земле, Зяма чувствовал сильную боль в боку, а Ваня – в щиколотке правой ноги. Утром они похоронили Ганеева неподалеку от места стычки, в увядшем камыше, молча глянули на хмурое небо и пустились в путь.
Поздно ночью они постучались в первую попавшуюся им избу. На стук вышел высокий человек с седой бородой, и в темноте блеснуло отточенное лезвие топора. Увидев двух красноармейцев, он виновато пробурчал под нос:
– Теперь иначе нельзя…
Кроме старика, в избе никого не было. При свете коптилки старик внимательно оглядел их с ног до головы и, заметив раны, очень осторожно, чтобы не обидеть их, спросил, как это вышло, что они бродят здесь, где вокруг полно фашистов. Когда парни рассказали ему все, что с ними произошло, старик сказал:
– В четырнадцатом я тоже колотил немцев, схватил такой сильный удар в ребро, что меня скрутило в баранку, но от своей роты не отстал. Что бы ни случилось, солдат должен быть со своей частью…
Слова прозвучали как упрек, но красноармейцам пришлось молча проглотить его – старик-то был прав.
– Ну, добре, – продолжал старик, – выгонять вас я не стану. Отдохните, переночуйте, но утром вам придется убраться отсюда, ничего хорошего не ожидает вас в нашем хуторе…
Утром оба красноармейца спустились с печи, где спали, поблагодарили старика за ночлег и отправились дальше в путь. Когда они были уже у низкого плетня, старик позвал их обратно, ввел в избу и запер дверь на крючок.
– Выберите себе на печи какое-нибудь барахло и переоденьтесь…
Они переоделись.
– Ну, хлопцы, – спросил он, – что же вы теперь думаете делать?
– Чтоб я так про лихо знал, – сказал Зяма скорей самому себе, чем старику.
– Так вот что, – отозвался старик, – мой совет вам – убраться отсюда как можно подальше. Знаете, куда бы я посоветовал путь держать? – Он с минуту помолчал. Из-под его густых бровей блеснула пара голубых глаз. – Я бы вам посоветовал пойти по дороге к станции Жуково, там не так опасно. К тому же там живет моя родственница, вдова Евдокия Семеновна Птуха. На нее можете положиться, как на меня.
Вдруг он опасливо глянул за Зяму, усердно почесал себе затылок, словно говоря: «А твои дела, братец, плохи». Зяма не сразу сообразил, в чем дело, но старик не дал ему долго раздумывать. Он его прямо спросил:
– Еврей?
Зяма утвердительно кивнул головой.
– Да, худо… Сам я к ним ничего не имею, честные люди… Но фашист, братец, немного испортил здесь воздух…
Ваня резко вскочил:
– Не беспокойся, дедушка, мы не дадим себя в обиду, не таковские мы.
Уже совсем рассвело. Старик, стоявший у окна, вдруг резко отшатнулся от него и поросшим волосами пальцем указал на улицу. Там появились зеленоватые шинели с черной свастикой на рукавах.
– Они уже шляются тут, эта коричневая саранча. Красноармейцы переждали некоторое время и задворками скрылись из хутора.
…Евдокия Птуха, колхозница, которой было далеко за пятьдесят, стояла у печи и большим ухватом в руках нацелилась было на огромный чугун. Услышав незнакомые шаги, она, не выпуская ухвата из рук, обернулась, и притом так быстро, как это проделывают при штыковом бое. Пришельцы поздоровались с ней и, не медля, передали ей привет от Сергеева. Вдова вынула из печи чугун с кукурузной кашей и пригласила их к столу.
Покончив с едой, Ваня заговорил:
– А теперь, Евдокия Семеновна, у нас к тебе сурьезное дело. Твой кум Сергеев сказал нам, Евдокия Семеновна, что с тобой мы можем говорить откровенно. Так вот. Мы оба – красноармейцы. Меня зовут Ваня Кучер, а его – Зяма Гиммельфарб. Вместе прошли мы огонь и воду. Испытали и стужу и зной. Даже пули не разлучили нас, а теперь, выходит, нам надо расстаться. Скрывать нас двоих будет тебе трудно, это мы понимаем. Кто из нас останется здесь, у тебя, мы сами решим. Ты только должна сказать, пожелаешь ли ты на некоторое время спрятать одного из нас. Как видишь, мы оба еле-еле держимся на ногах.
Евдокия Семеновна на минуту задумалась. Спрятать у себя красноармейца значило рисковать собственной жизнью.
– Это дело мы обмозгуем, – сказала она, – а пока – гайда на чердак.
В ту ночь ни Ваня, ни Зяма так и не заснули. В темноте они приглушенными голосами тихонько препирались: кому остаться здесь, а кому уйти, чтобы пробраться к партизанам.
– Ты остаешься тут, – твердо заявил Ваня после долгого спора.
– Мы оба одинаково ранены, – возражал Зяма.
– Вдвоем нам легче будет добраться до леса.
Ваня настаивал на своем.
Ночь минула, а к согласию они так и не пришли.
Было еще темно, когда они спустились с чердака. В хате на столе уже стоял самовар. Вдова молча налила им по стакану чаю и подала по краюхе хлеба.
– Ну, Евдокия Семеновна? – спросил Ваня, попивая чай.
– А вы между собой уже договорились?
– Мы будем бросать жребий, – ответил Зяма.
Это слово «жребий» было для Вани полной неожиданностью. Ему было совершенно ясно, что остаться здесь должен не он, а Зяма. Он встал и твердо заявил:
– Будьте здоровы, до скорого свидания… – и, вынув из-за пазухи смятую бумажку, протянул ее Зяме. – Спрячь. Мало ли что может случиться! Так знай, что зовут тебя Иван Кучер. – При этом он подмигнул вдове, как бы говоря: «Все в порядке», и ушел.
Зяма, растерянный, остался сидеть на скамье. Бинт на его ране начал сильно промокать, и он собрал все силы, чтоб не свалиться.
– Ну, Иван, – по-свойски вдова хлопнула Зяму по плечу, – полезай как-нибудь обратно на чердак. Еду я тебе буду приносить туда.
За те полтора месяца, что Зяма прожил на чердаке, у него выросла порядочная бородка. Увидев в зеркале русый пушок на своих щеках, Зяма вспомнил свое мальчишеское прозвище «рыжий кот» и усмехнулся.
Но вдову борода эта обрадовала.
– Такой ты мне больше нравишься. Такой ты вызовешь меньше подозрений…
В воскресенье, поздно вечером, когда Зяма сидел с вдовой за столом и пил чай из самовара, неожиданно, не постучавшись, вошел староста села.
Вдова налила старосте чаю, но он отодвинул от себя стакан и сердито пробурчал:
– Я уже закупленный! – и при этом крутнул концы своих длинных усов вверх. Жителям давно было известно, что достаточно взглянуть на усы старосты, чтобы узнать, в каком он настроении. В своей семье и в компании своих приятелей и знакомых он обычно крутил усы вниз. Но когда собирался показать свою власть, он подкручивал концы усов вверх, на немецкий манер.
– Твой жених? – с ехидцей спросил он, кивнув на Зяму.
– Мой муж.
– Кому ты зубы заговариваешь?
– Его не смей трогать! Слышишь?
Староста встал, надвинул фуражку на лоб и поспешно вышел.
– Да провались ты в преисподнюю! Не больно-то боюсь я тебя… – крикнула ему вслед вдова. – Попробуй только!.. – и заперла дверь на засов.
Она спокойно хлопотала у печи, но Зяма заметил, что руки у нее чуть-чуть дрожали.
– Придется нам, Евдокия Семеновна, разлучиться. Ничего не поделаешь.
– Кукиш ему, собаке, под нос! – ответила вдова, все еще хлопоча около печи. – Никуда ты не уйдешь… Разве, может быть… наняться тебе на мельницу, а, Ваня? Я сейчас же там договорюсь.
В ту ночь Зяма ночевал на мельнице.
Мельница находилась верстах в тридцати от станции, посреди поля. Кроме местных крестьян, работавших здесь, у мельницы постоянно вертелся немецкий часовой. Казалось, что здесь живут как на пустынном острове, но каждое утро кто-нибудь из крестьян являлся с новостью:
– Слыхали, наши освободили еще один город.
Откуда доходят эти вести, никто не спрашивал: понимали, что не с неба падают они сюда…
Частенько ночью ветер «заносил» сюда отрывок газеты, листовку, и никого это не удивляло.
Иногда Евдокия Птуха побродит вокруг мельницы и украдкой передаст Зяме хлебец. А затем из такого хлебца вдруг вырастет бумажный шарик и начнет ходить по рукам.
Однажды ночью Зяма, стоявший около мельницы, как раз недалеко от немецкого часового, услышал, что кто-то крадется сюда.
– Кто идет? – крикнул немец.
– Громче кричать ты не умеешь? – как из-под земли вырос пред ним старик Сергеев.
Старый казак всем телом навалился на немца и тяжелой гирей со всего размаха несколько раз ударил его по голове.
И тут Зяма увидел отряд вооруженных крестьян и крестьянок, а среди них Ваню Кучера, который кинулся к нему с распростертыми объятиями.
– Здоров, Ваня! – стукнул его в бок Ваня Кучер.
Зяма бросился к нему на шею.
Вдали разносился конский топот. Лай собак разбудил все село. Распахнулись ворота и двери изб, из них стали выглядывать заспанные крестьянки, дети и старики. Через село пронеслись конники казачьего корпуса Кириченко.
Утром, когда народ толпился у советских танков, Зяма, уже побритый и переодетый в красноармейскую форму, заметил среди других в толпе и вдову Евдокию Семеновну Птуху.
Увидев его, вдова заплакала.
– Что ты плачешь, матушка? – обнял ее Зяма.
– Кто плачет, дурачок? – гордо оттолкнула она его. – Материнское сердце радуется иногда сквозь слезы.
1943
Перевод С. Родова.











