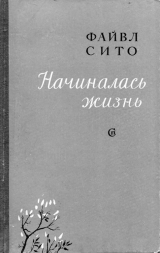
Текст книги "Начиналась жизнь"
Автор книги: Файвл Сито
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)
МОЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
Рассказ
О чем мечтает бедный тринадцатилетний мальчик?
Бедный тринадцатилетний мальчик мечтает, конечно, о ломте хлеба с селедкой, о хорошем пшенном супе на постном масле. Однако мама этого не дает – у нее ничего подобного нет.
– Ступай, ступай! – говорит она. – Тоже усвоил себе привычку – просить. Уходи ты, ради бога, с глаз моих…
И я ухожу.
Из всех сведений, почерпнутых мной в хедере, мне больше всего запомнилось, что господь бог некогда послал манну небесную. Не пошлет ли он мне и теперь с неба хлебца с селедочкой?
Не посылает.
В красивеньком двухэтажном доме на главной улице кто-то играет на пианино. Останавливаюсь и слушаю.
Но меня, очевидно, заметили из окна, и игра прекратилась. На балкон вышла молодая девушка с оголенными локтями и крикнула мне:
– Ты чего тут стал? Убирайся отсюда сию же минуту…
Сказав это, девушка исчезла, и из открытого окна снова послышалась музыка.
Интересно знать, чем я мешаю этой девушке?
Я продолжаю стоять с раскрытым ртом и, выпучив глаза, смотрю в открытое окно. Звуки, доносящиеся оттуда, меня странно волнуют: они – то тихие, ласкающие, как легкий ветерок в знойный день, то становятся бурными, сердитыми, как беснующаяся вьюга.
Мне хочется есть. Слушая музыку, я упорно продолжаю думать о селедке и вкусном пшенном супе на постном масле. Домой, знаю, мне незачем идти – мама все равно ничего не даст поесть. Буду хоть музыку слушать…
Но девушка снова перестала играть и вышла на балкон.
– Ты все еще стоишь? Ах, ты, наверное, милостыни хочешь?
Она вбегает в комнату, выносит оттуда большой ломоть белого хлеба и бросает его мне с балкона, как бросают собаке кость. Хлеб очень соблазняет меня, но-я не поднимаю его – не хочу подаяния.
– Ну, чего тебе еще надо? Уходи, мальчик, отсюда. Живо убирайся! – И она снова исчезает.
На дворе знойный июль. Вся улица утопает в зелени. Иду мимо больших густых садов, огороженных высокими заборами. Сочные яблоки и груши кивают мне из-за заборов, точно приглашают подойти ближе и сорвать их с надоевших веток. Против такого искушения трудно устоять. Взбираюсь на забор, срываю большое красное яблоко и с наслаждением впиваюсь в него зубами.
Какое замечательное яблоко! Но кто-то хватает меня за ногу, стаскивает с забора, прямо из зубов вырывает яблоко, швыряет меня на мостовую.
Чувствуя себя большим преступником, я не смею даже оглянуться на своего палача. Поднимаясь с земли, ощущаю какую-то странную теплоту на лице. Осторожно дотрагиваюсь до него рукавом рубашки – рукав становится красным, точно его в густую краску окунули. Кровь, видно, хлещет у меня из носа. Но я не смущаюсь. Эка невидаль – кровь из носа. Потечет, и перестанет. Мне не привыкать…
Домой прихожу поздно вечером. Мама сердито расстилает на холодном земляном полу (солнце с нами не в ладах) мое коротенькое зимнее пальто, кладет в изголовье свой большой теплый платок и тушит керосиновую лампочку.
Мне не очень удобно на этом жестком ложе, и я долго не могу заснуть. Короткая летняя ночь кажется мне бесконечной, а луна, заглядывающая в наше маленькое оконце, строит мне рожи и все смеется, смеется… Где-то далеко, на слободке, заливается гармонь и громко лают собаки.
…Меня все тянет к красивому дому с балконами, и я прихожу туда почти каждый день. Девушка, играющая на пианино, уже хорошо знает меня.
– А, снова пожаловал? Милости просим! – встречает она меня веселым грудным смехом, обнажая свои белые зубы. У нее удивительно красивые зубы, маленькие, ровненькие и беленькие, как снег. – Ну, что скажешь хорошего?
– Ничего.
Она расплетает свои черные густые косы, встряхивает головой, и длинные волосы рассыпаются у нее по плечам, по спине, по груди. Она вся точно окунается в свои волосы, которые отдают матовым шелковым блеском.
– За чем ты опять пришел, мальчик?
– Ни за чем.
Она снова смеется сочным грудным смехом и исчезает в комнате. Я несколько минут стою, не отрывая глаз от открытого окна. Но она больше не показывается и играть, очевидно, тоже не хочет.
Ухожу и начинаю без цели бродить по улицам. Вот какой-то прохожий бросил недокуренную папиросу. Чудак! В папиросе добрая половина осталась еще невыкуренной. Я, конечно, поднимаю папиросу. Люблю курить папиросы. Иногда, правда, так закашляешься, что слезы на глазах выступают, но все же как приятно чувствовать себя большим! Никто лучше меня не умеет пускать дым носом…
Мною, можно сказать, никто не интересуется, и я совершенно свободно расхаживаю по улицам. А улицу я люблю. Люблю рынок, кабачки. В общем, люблю все, за что порой можно получить затрещину от старших. Люблю пробраться в кино без билета, уцепиться за подножку конки и бесплатно прокатиться по городу, хоть ехать мне, собственно, некуда и незачем. Люблю подслушивать чужие секреты, заглянуть неожиданно в чужое окно, постучать в чужую дверь, нацепить прохожему тряпку на хлястик пальто.
У меня нет ни отца, ни брата, ни сестры. Есть только мама. А мама все свои невзгоды сваливает на меня. Холодно в квартире – виноват я. Белые пришли – тоже я виноват. Все я, как будто на мне весь мир держится.
У меня поэтому нет никакого желания сидеть дома, и я охотнее ухожу на улицу.
Знакомых квартир, куда можно было бы зайти выпить стакан кипятку, у меня нет (мы с мамой беженцы), и я направляюсь обычно к тому дому, где девушка играет на пианино. Я непременно должен довести ее, девчонку эту, до белого каления. Сегодня я обязательно сыграю с ней какую-нибудь штуку, такую, чтоб она лопнула с досады. Приблизившись к самому дому, я перехожу на противоположный тротуар и останавливаюсь как раз против ее дома – я хочу, чтоб она меня во чтобы то ни стало заметила.
Но девушка сегодня особенно долго играет. Что именно играет она, я понятия не имею, но мне сильно нравится ее игра. Я такой игры никогда не слыхал. Я забываю о своем намерении подстроить ей каверзу и стою неподвижно, заколдованный звуками пианино. Разбираюсь я в этой музыке не больше, чем свинья в апельсинах, но все же музыка становится мне страшно близкой, и вместе с ней кажется близкой и сама девушка.
Но вот она наконец заметила меня и сейчас же, по своему обыкновению, прекратила игру.
– Чего пристал ко мне этот беспризорный мальчик? – обращается она капризным тоном к кому-то, находящемуся в комнате.
Через несколько мгновений я узнаю, что этот кто-то тоже мальчик, почти мой ровесник, но толстый, упитанный, с лицом, круглым, как сдобная булочка, а одет он в новенький плюшевый костюмчик.
Мальчик выбегает прямо ко мне на тротуар и спрашивает, по какому праву я здесь стою?
– Хочу – и стою. Это не твое дело, а улица тоже не твоя.
Но он утверждает, что это именно его дело и что улица тоже его.
– Ишь, какой прыткий! – начинаю я сердиться. – У нас царя уже четыре года нет, и не может один человек быть хозяином целой улицы…
– А ты, босяк, все-таки убирайся, пока цел, – петушится толстый мальчишка. – А то я тебе такого хозяина покажу, что костей не соберешь.
Такой оборот дела начинает мне нравиться.
– Что же, посмотрим, кто первый уберется и кто костей не соберет.
И я становлюсь в оборонительную позу, готовый отразить нападение.
– Я тебе, толстопузый, покажу, какой я «босяк».
Но мальчик не нападает. Тогда я первый приближаюсь к нему, обхватываю его, и не проходит и минуты, как он уже лежит на земле, а я сижу на нем верхом. Из его рта вкусно отдает жареной уткой, а сидеть на его толстом животе, обтянутом мягкими плюшевыми штанишками, мне удобно и мягко…
– Ну, кто кого? – спрашиваю я его, чувствуя себя на нем как на перине. – Кто кого, толстопузый…
Увидев безнадежное положение своего брата, девушка выбежала на улицу.
– Хулиган! – раскричалась она. – Не смей больше показываться у нашего дома. Вон отсюда!
Я поднялся и, предоставив толстобрюхому отряхнуться от пыли, с усмешкой стал смотреть на его сестру. Щечки у нее пунцовые, как спелые яблочки, глаза темные, а брови черные как смоль.
Глаза эти смотрели на меня строго и повелительно, но это отнюдь не вызывало у меня смущения, и я продолжал глазеть на нее с веселой усмешкой. Вдруг и у нее на лице появилась улыбка, глаза ее весело заблестели, и она разразилась громким, раскатистым смехом.
Я опешил. Чего она смеется?
Оказывается, что вслед за нею, когда она бросилась спасать своего брата из рук хулигана, выбежала из дому беленькая собачка, которой я раньше не заметил. Если б я вовремя ее увидел, события сложились бы, конечно, совершенно иначе. Подкравшись ко мне самым предательским образом с тылу, собачка вцепилась зубами в мои ветхие брюки, и благодаря этой диверсии, у меня образовалась огромная прореха на самом неприличном месте. Мой позор был тем более велик, что под брюками у меня не было никакого другого одеяния.
Я начал постыдное отступление, стараясь обеими руками прикрыть зиявшую на брюках «калитку», но ладони мои оказались слишком малы. С поникшей головой покинул я поле сражения. Вдогонку мне несся чудесный грудной смех очаровательной девушки, которую я теперь ненавидел всей душой.
1932
Перевод Б. Маршака.
НАЧИНАЛАСЬ ЖИЗНЬ
Повесть
ЗВЕНО ПЕРВОЕ
ОСЕНЬРодина моя, Советская страна! Как прекрасны твои зимние вечера! Как величественны твои первые зимние ночи! Мороз и вьюга гуляют по твоим широким, вольным просторам, по густой непроходимой тайге, сковывают шумные воды твоих рек, на долгие месяцы расписывают окна морозными узорами.
Как хороши твои летние ночи, родина моя, Советская страна! Знойный июль играет в необъятных украинских степях, резвится в твоих жгучих азиатских песках, нежится в водах горного Терека и холодной Невы, а вечерами окутывает твои небеса прозрачной облачной голубой вуалью.
Но не летом и не зимой произошло то, о чем я хочу рассказать.
То было угрюмой, серой осенью.
По утрам над облинявшими улицами моросил скучный дождь и еще больше обесцвечивал хмурые дома. Днем мокрый, талый снег смешивался с грязью. Темные ночи блуждали в гуще седого тумана.
Побывали тут немцы, деникинцы, а теперь над зданием исполкома реет красное знамя, и уже никто никогда его оттуда не снимет.
В ту гнилую осень учитель Израиль Шраге получил из города, от губоно, телеграмму. Его приглашали на работу:
«Приезжайте. Организуем еврейский детдом. Левман».
Он решил ехать. Здесь, в местечке, ему тесно, как рыбе в стакане воды. Жена Рохл, учительница, дала ему в дорогу узелок с парой белья, томиком Песталоцци и дюжиной сухарей.
…Поезд, миновав несколько станций, остановился. Никто не знал, когда он двинется дальше.
Шраге целый вечер слонялся по залу маленькой незнакомой станции. Высоко поднимая ноги, осторожно переступал через людей, свернувшихся на холодном полу. Поздно ночью, утомленный блужданием, учитель прислонился к влажной стене и стоя задремал.
В воздухе висел тяжелый махорочный дым, зал был пропитан запахом портянок и детских пеленок.
Отдохнув с полчаса, Шраге вышел на перрон. У вокзала сиротливо качалось несколько яблонь. Дул мягкий влажный ветер. Шраге возвратился в зал и снова стоя задремал.
Из рук его на мокрый каменный пол выскользнул узелок с сухарями и идеями Песталоцци.
На другой день под вечер прибыл новый поезд. Люди облепили его как пчелы улей. Лезли всюду. На крыши, на буфера, на паровоз. Учитель даже не заметил, как его втиснули в теплушку. От Песталоцци остались одни обрывки, белыми хлопьями усеяв жидкую грязь перрона.
Город встретил Шраге заморозками. Круглый сквер вблизи Южного вокзала был похож на общипанную курицу. Ни травинки. В вагоне кто-то сказал Шраге, что губоно помещается в здании исполкома, против большого собора. Он отправился туда по длинной Екатеринославской улице. Колокольня собора высилась над городом и указывала учителю дорогу.
Шраге поднялся на Университетскую горку, повернул налево и вверху перед собой увидел золотой купол собора, а против него на крыше исполкома красное знамя.
Когда он вошел в указанную комнату, инспектор Левман говорил по телефону. Не успел тот положить трубку, как к столу подошла женщина.
– Скажите, товарищ инспектор, как мне определить моего ребенка в приют? – Женщина указала на мальчика, молча стоявшего у дверей.
– Пока, гражданка, тяжеловато, – ласково ответил инспектор, стряхивая указательным пальцем пепел с папиросы, – есть дети, которые валяются просто на улице. Сперва мы должны позаботиться о них, а уж потом…
– Но что же мне делать с моим ребенком?
Женщина кивком головы подозвала мальчика. Продолговатое лицо ее с глубоко ввалившимися мутными глазами выражало боль и горечь.
– Гера, – толкнула она сына к инспектору, – проси дядю, не отходи, пока он не запишет тебя в приют.
– Гражданка, – поднялся с места Левман, – прошу вас…
Она не дала ему договорить, схватила за полу пальто и крикнула, отчеканивая каждое слово:
– Я не выпущу вас до тех пор, пока вы не определите моего сына в детдом.
Зеленоватые глаза Левмана быстро забегали. Он вырвал полу из рук женщины и раздраженно сказал:
– Эти разговоры ни к чему. Я не могу.
И направился к двери, но вдруг вспомнил об ожидавшем его посетителе.
– Что вам угодно?
– Моя фамилия Шраге, – протянул ему руку учитель.
– Ага, очень рад!.. – ответил Левман. – Только я должен вам сказать…
Он не окончил фразы: в комнату вскочила новая просительница, держа за руку темноволосую девочку. На женщине было надето с полдюжины разноцветных юбок, одна короче другой. Голову повязывал желтый дырявый платок. Ноги были замотаны в рваные тряпки, перевязанные веревками. Она была коренастая полная, с пухлыми щеками и слегка перекошенным ртом.
– Ой, господин инспектор, дай вам бог здоровья, – пропела она передохнув, – если бы вы устроили моего ребенка в приют!
Инспектор оторопел.
– К сожалению, я сейчас не могу принять вашей дочери. Сначала надо позаботиться о детях, которые валяются на улице, а потом…
Слова звучали, как хорошо заученная математическая формула. Сколько раз ему приходилось их повторять!
Женщина, однако, не дала ему закончить эту формулу. Всплеснув руками, она воскликнула:
– Ой, горе мне!.. Выходит, мой ребенок живет в роскоши, так что ли?.. Бэйлка, ты слышишь? – бросила она дочери.
– Разве я говорю, что вашему ребенку хорошо живется?
Женщина сразу перешла на «ты».
– Недоставало, чтобы ты это сказал…
Она сорвала с головы дырявый платок и стала тут же бесцеремонно вытряхивать его. Длинные с проседью волосы были всклокочены, шея покрыта слоем грязи и перхоти.
Темноволосая девочка, сконфузившись, дернула мать за платье.
– Мама, что ты делаешь?
Левман вскипел, но, пересилив себя, повернулся спиной к женщине и сказал учителю:
– Пойдемте, товарищ Шраге, дорогой поговорим. Я спешу на заседание. Товарищ Шраге, – виновато сказал Левман учителю, – только вчера я получил из Мариуполя телеграмму о том, что там нужен еврейский учитель в детдом. Вам придется поехать туда. Зайдите завтра, я выдам вам деньги на дорогу.
До Мариуполя учитель не доехал. Поезд остановился в дороге. Дальше он не поедет – нет угля.
Снова пришлось валяться на вокзале. Вместе с учителем поезда ожидало много терпеливых людей. Ждали дни, неделю. Жались по углам, сидели на своих узлах.
Уже четвертый день нет поезда. Серые глаза Шраге болят от усталости. Морщины прорезали высокий лоб. Вокруг стоит шум, беспрестанно мелькают перед глазами бесчисленные узлы, серые шинели, изорванные бурки, потертые кожанки… Сотни шинелей, сотни потертых кожанок… В этой суете трудно разглядеть человека даже рядом.
На пятый день Шраге одолела малярия. Он кутался в свое демисезонное пальто, но это мало помогало. Вечером, обессилев, растянулся на каменном полу.
Ночью потел… Разметал полы пальто. Пот катился градом. Утром его снова знобило. Круглое побледневшее лицо приняло восковой оттенок. Маленькие серые глаза смотрели удивленно на влажные стены вокзала. Шраге пробовал различить в общем шуме хотя бы слово, но это было невозможно. Протянув руку, он пытался что-то сказать, хотя знал, что никто его не услышит.
– Гражданка, зачем вы снова явились? Я сколько раз вам говорил, что не могу устроить вашей дочери.
– Ты можешь, но не хочешь! – перебила его женщина.
– Не мешайте мне работать, – раздраженно закричал Левман, – здесь вам не Благбаз!..
Вошедший курьер подал инспектору телеграмму.
Читая ее, Левман сделал такую гримасу, будто попробовал кислое яблоко. Он почесал затылок. Телеграмма была из Мариуполя. Ему сообщали, что средств для организации еврейского детдома нет, и поэтому учитель уже не нужен. Левман вспомнил, что десять дней назад он послал туда Шраге, ему стало неловко. Он чувствовал себя виноватым в том, что напрасно услал человека, которого мог использовать здесь, в городе.
…Учителю повезло. Его усадили в проходящий санитарный поезд, и теперь он был уверен, что до Мариуполя доедет, без препятствий.
Но приехал он назад, в большой город. На этот раз все здесь показалось ему настолько знакомым, точно он прожил в городе много лет. Снова перед ним была длинная Екатеринославская и золотой купол собора. Снова он остановился на мосту и смотрел на узкую, теперь замерзшую, речонку. Тонкий слой льда покрывал ее точно чешуя, и речонка выглядела несколько наряднее.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В губоно он Левмана не застал. Комната была полна людей, ожидающих инспектора. Среди посетителей учитель узнал женщину с сыном, которую здесь видел раньше. Шраге сел и только сейчас почувствовал бесконечную усталость. Ломило ноги, кололо в боку, сильно болела голова. В ушах все еще слышался неугомонный вокзальный шум, томительно-протяжные гудки паровоза и ленивый, несмолкающий стук колес.
Женщина инстинктивно почувствовала, что вошедший имеет какое-то отношение к инспектору. Она обратилась к Шраге:
– Дорогой товарищ, прошу вас, не можете ли вы мне помочь? У меня ребенок погибает!
Шраге прищуренными глазами посмотрел на измученную женщину и дружелюбно взял за руку ее сына.
– Сколько тебе лет, мальчик?
– Двенадцать, – ответил ребенок, опустив глаза.
– Скоро бармицве[6]6
День совершеннолетия по еврейскому религиозному закону.
[Закрыть], – вмешалась мать.
– А как тебя зовут?
– Гера, – смущенно сказал мальчик.
– Гершн, – поправила мать, – в честь покойного деда, мир праху его.
– Читать, писать умеешь?
– Немного.
– Ничего, дайте ему только книгу в руки, уж он с ней справится! – снова вмешалась в разговор мать.
Женщина почувствовала в этом постороннем человеке с теплыми серыми глазами нежность к детям. Она сквозила в каждом его вопросе, обращенном к ребенку.
Шраге усадил Геру рядом с собой, уступив ему часть стула.
– Ну, а шалун ты большой?
Мальчик молчал.
– Ах, и не спрашивайте, дорогой! – ответила вместо сына мать.
Шраге пристально посмотрел в глубокие темные глаза мальчика и ласково потрепал его по плечу:
– Ничего, дружок, все будет хорошо!
Как только Левман открыл дверь, ожидавшие толпой бросились к его столу. Опередив всех, женщина преградила ему путь.
– Товарищ инспектор, как же будет с моим ребенком?
– Так же, как и с другими детьми, – на ходу ответил инспектор.
Заметив Шраге, он направился к нему и протянул руку.
– Ну, и путешествие выпало вам! – смущенно улыбнулся он. – Поверьте, я в этом не виноват.
– Я вас не обвиняю, – сказал учитель, – всяко бывает.
– Зато я вам подыскал помещение для детского дома, – как бы оправдываясь, говорил инспектор. – Рыбная, тридцать четыре. Вот ключ. Осмотрите.
Шраге отправился посмотреть помещение будущего детдома. Здание пустовало. Трудно было, глядя на кучу сора, определить, кто жил здесь раньше. В одной из просторных комнат, на стене, Шраге с удивлением заметил портрет Герцеля и не мог понять, как попало сюда это изображение сионистского «вождя» с четырехугольной бородой. Кто его тут оставил? Он задумался, остановившись среди комнаты. «Скоро здесь забегают десятки сирот, скоро зазвенят их детские голоса…» На мгновение эта мысль прогнала усталость… Но лишь на мгновение. Шраге вытер платком слезящийся правый глаз, а затем лоб. Теперь он с особенной силой ощутил усталость и голод. «Ну и путешествие!» – повторил он фразу Левмана и вспомнил о перенесенной в дороге болезни. Если бы не подобрали его на вокзале, плохо бы ему пришлось.
Неожиданно мелькнула мысль, что с тех пор, как расстался с женой, он ни разу не написал ей. Хотел сейчас же сесть за письмо, но вместо того прислонился к подоконнику и задремал. В забытьи казалось, что он все еще в вагоне. Ежеминутно просыпался и удивленно смотрел в окно. И все видел неподвижно стоявший за окном высокий каштан. Так Шраге и заснул, опершись о подоконник.










