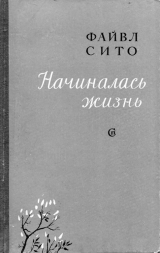
Текст книги "Начиналась жизнь"
Автор книги: Файвл Сито
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц)
10. ВЕЛИТ ТЕБЕ КОЛЛЕКТИВ!
Ну, и натерпелись мы тут! Что бы ты ни сделал – все не так! На все проси разрешения. И у кого? У своих же ребят – вот что самое обидное! Полагалось бы распоряжаться одному заведующему, а тут командует каждый, каждый сует свой нос:
– Этого у нас нельзя, братишка!
Однажды Сеньке захотелось яблок. Он подходит к дереву, срывает яблоко и хочет сунуть его в рот. Но не тут-то было! Подбегает к нему паренек:
– Положь!
– Отцепись лучше по-хорошему, – отвечает Сенька.
– Я командир сада, и ты должен мне подчиниться. Понял?
– Посмотри, Лямза, на этого командира…
И Сенька, не долго думая, ударил командира в зубы.
С Сенькой не стали церемониться, посадили его в карцер. Сенька скрежетал зубами, колотил в двери, но все только смеялись над ним.
– Ничего, Горобец, хоть бейся головою о стенку, ничто тебе не поможет!
Они смеялись, так как знали, что здесь их власть. Здесь хозяин – коллектив, и его приказ надо выполнять.
Прикажет тебе коллектив вычистить мусорную яму – чистишь.
Прикажет в город съездить за дровами – едешь.
Прикажет мыть полы в спальне – моешь.
Прикажет чинить стулья в столовой – чинишь.
Прикажет: садись и учись арифметике – садишься и учишься.
Тут надо делать то, что хотят все ребята. И это не плохо. Так мне кажется. Да!
* * *
Когда Сеньку выпустили из кутузки, он хорошенько избил командира сада и сбежал из колонии. Правду говоря, он и меня пытался потащить с собой, но я не хочу быть больше беспризорным, потому что я нашел свой дом.
Я пробовал уговорить его:
– Оставайся здесь. Послушайся меня.
– Лямза, ты никчемный парень. Дали бы тебе пожрать, и ты готов остаться даже в приюте.
– Нет, Сенька, я остаюсь здесь не только ради жратвы. Я останусь тут навсегда. Нравится мне тут, и баста!..
Так скучно мне здесь без Сеньки, что хоть на стену лезь. В сумерки я часто сижу во дворе и любуюсь закатом солнца. Я никогда раньше не замечал, как это красиво. Красное солнце, похожее на спелый разрезанный арбуз, медленно спускается по небу…
Я сегодня впервые пригляделся и к звездам, они мне тоже очень понравились. Ой, сколько их на небе! И все они смотрят на меня!
Когда со мной нет Сеньки, мне кажется, что у меня не хватает правой руки. А не пойти ли его поискать? Он сказал, что будет у ближайшего железнодорожного поста. Если я передумаю, то могу там его найти. Я выхожу со двора и иду все дальше и дальше. Я должен разыскать Сеньку и привести его назад в колонию.
Уже стемнело, луна следует за мной… Шаг за шагом… Я никогда не знал за луной такой привычки: шпионить за людьми. Быть может, она когда-нибудь еще и выдаст тебя? А ты и не догадаешься, кто тебя предал.
Я иду… Издали мне подмигивает огонек. Он зовет меня. Я подхожу к посту. Сенька лежит в траве и храпит. Я не хочу его будить. Он не должен знать, что я его ищу. Я ложусь на траву, неподалеку от Сеньки, и начинаю дремать. Внезапно я вижу над собой нашего зава. Он стоит рядом со мной и говорит:
– Ничего, Лямза, поживешь немного с нами – пошлем тебя на завод. Хочешь работать на заводе?
– Еще бы!
– Пошлем тебя! И Сеньку пошлем, когда он перестанет дурака валять.
– Он не валяет дурака. Он не из таких. Просто командир придирается к нему, а он парень вспыльчивый… Я ведь его хорошо знаю. Да.
– А я его знаю еще лучше. Ты думаешь, я не присматриваюсь к вам? Я все вижу. Я видел, как ты вечером ушел из колонии без разрешения. Куда ты ходил? А?
Что-о? Откуда же он об этом узнал?
– Я просто прогуливался возле колонии, – сказал я заву.
Я просыпаюсь. Зава нет. Вместо него надо мной стоит Сенька Горобец.
– Долгонос, откуда ты взялся здесь? И что ты мелешь обо мне?
Что ему ответить? Оказывается, это был сон.
– Куда ты собираешься, Горобец?
– Тебя послали за мной, что ли?
– Никто за тобой не посылал и не пошлет. В колонии ли ты, сбежал ли ты, – до этого никому дела нет.
Мой ответ, видимо, озадачил Сеньку. Он посмотрел так, будто хотел сказать: видно, это какой-то особенный приют.
– Горобец, ты ошибся. Ты думал, что это приют, а это совсем другое…
– Я есть хочу, Лямза! – внезапно произнес Сенька. – Аж живот подвело. Разживись-ка.
Где же мне тут разжиться? Пост очень мал, и людей не заметно.
– Горобец, я видел однажды в кино, как один голодный поджаривал свои ботинки и жевал.
– Во-первых, я босой, – отвечает Горобец. – А во-вторых, это бывает только в кино. Там один прыгнул с летящего аэроплана и пошел себе, точно соскочил со ступеньки, а не с высоты ста этажей.
– Как же это могло быть?
– Лямза, – говорит Сенька, – я умираю с голоду, язык едва ворочается во рту. Давай пойдем пешком в город, а оттуда куда-нибудь поедем.
– Нет, Горобец! Никуда я не пойду и никуда не поеду. Я возвращаюсь назад в колонию и хочу, чтобы ты вернулся со мной. Мы должны бросить воровскую жизнь.
– В колонию, – говорит он, – я не вернусь… А уж если вернусь, то вышибу командиру сада все зубы.
– Ладно, вышибешь ему все зубы. Это твое дело.
Мы идем. На этот раз Сенька меня послушался. Мы шагаем обратно в колонию.
Еще очень рано. Мы шагаем по мокрой траве, и холодная роса щекочет наши босые ноги. Колония находится в бывшем монастыре. Высокая колокольня, с красным знаменем на верхушке, полощет в пруду свою тень.
11. КОМАНДИРЫ
Недавно между нашим завом и Сенькой произошла такая беседа:
– Сенька, скажи правду, не хочется тебе больше на вокзал?
– А если хочется?
– Иди.
– А если я не хочу?
– Тогда будь таким, как все ребята.
– А если я не хочу быть таким, как все ребята?
– Ну, брось свои штуки.
– А если я не хочу бросить?
– Тогда мы заговорим с тобой иначе.
– Ну, а если ты заговоришь иначе, что тогда? (Мы все с завом на ты. Он сам хочет, чтобы мы себя чувствовали с ним как равные.)
– Я вовсе с тобой перестану говорить.
– А тогда что?
– Увидишь!
– А что я увижу?
Сенька расставил ноги и ехидно улыбнулся.
– Мы тебе такое покажем, что тебе вряд ли понравится.
– Например?
– Стоит ли с тобой говорить, если ты не хочешь расстаться со своими уркаганскими привычками.
Сенька не выдержал:
– Если так, то наплевать мне на тебя с высокой колокольни.
– Грубиян! С кем ты разговариваешь?
– С тобой.
Тут уже зав вспылил и сказал:
– Завтра мы обсудим твое поведение на совете командиров.
– Подумаешь, как испугал, аж в жар бросило!
– Погоди, станет еще жарко! Будет тебе баня!
Сенька стоит и смотрит на небо. И что он смотрит туда, какое небу дело до него? У неба свои заботы. Небо смотрит так, будто говорит: моя хата с краю, ничего не знаю. Назвался груздем, полезай в кузов!
Но Сенька все же упорно смотрит вверх.
Наш зав очень спокойный человек. Такая у него натура. Однако Сенькино поведение даже и его вывело из себя. Он повернулся к Сеньке спиной и ушел. Тогда Сенька бросился за ним:
– Если ты только скажешь про меня командирам, то…
Сенька не так боится зава, как командиров. Боится! Он им всем может кровь из носа пустить, но ему, Сеньке Горобцу, стыдно оправдываться перед своими же ребятами. Ему гораздо легче было бы подчиниться милиционерам, чем командирам. В совете десять командиров: пять мальчиков и пять девочек. И ты, Горобец, рассказывай им с самого начала, как ты в первый раз подошел к этой девочке, что ты ей сказал, что она тебе ответила, почему ты вдруг схватил ее за плечи, за что она тебе плюнула в лицо, за что ты ее выругал… И почему она пожаловалась заву…
А они сидят себе – эти командиры – допрашивают тебя, впиваются в тебя глазами; потом делают «выводы» и угрожают, что выбросят тебя из колонии…
Зав вскипел, на его лбу вздулись жилы. Он схватил Сеньку за локоть.
– Ты с кем так разговариваешь?
У зава было такое лицо, что Сенька покраснел как кумач, потом побледнел и сразу изменил тон:
– Я прошу тебя, товарищ зав, пусть это будет между нами. Никогда я больше так не сделаю.
Зав действительно ничего не рассказал командирам. Иного я от него и не ждал. Да. Однако этим дело не кончилось. Сенька к лучшему не изменился.
Неподалеку от нашего монастыря есть большое болото. Все должны переходить через него, другого пути тут нет. Крестьяне говорят, что оно стоит давным-давно, еще со времен Николая. Они считают его божьим наказанием. Попросили они зава прислать ребят очистить болото. Зав согласился и предложил однажды командирам:
– Давайте, ребята, очистим болото и устроим пруд для купанья.
Слово «купанье» привело нас в восторг.
Ни в одном из ближайших сел не было даже маленького прудика, если не считать узенькой сажалки, которую пара лошадей могла бы выпить в один прием.
Командиры ответили:
– Это нам раз плюнуть! Мы все возьмемся за работу, и от болота не останется и следа.
Мигом собрали лопаты и тачки у крестьян и двинулись к болоту.
Перед уходом зав сказал нам, что мы идем на фронт, потому что болото – наш враг. И мы должны его взять приступом, как вражескую крепость.
Тут Сенька снова выкинул штуку.
– Все что угодно, только не это, – заявил он.
На каждую работу у нас выделяется командир, даже я был уже командиром, когда мы чистили крестьянские клуни. Все это выдумки зава, он всегда повторяет, что наша колония – фронт. А на фронте должны быть командиры.
Командир по очистке болота говорит:
– Горобец, бери тачку, твой черед.
– Слушаюсь, только уж грязь пускай другие тащат.
Командир молчит. Так у нас водится, что в таких случаях командир должен молчать. Он вынимает карандаш и записывает у себя:
«Горобец отказался работать. Командир такой-то».
Молчание командира взбесило Сеньку.
– Эй ты, полковник болотный! Не хочешь ли со мной сразиться?
– Почему и нет!
– Слабо́, братишка!
Сенька по своему обычаю расставляет ноги, закладывает руки в карманы и готов броситься на противника…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Прошло уже три месяца, а Сенька все еще продолжает свои фокусы. Горобец забыл, что тут не Клочковская, два.
– Лямза, – сказал он однажды, – я скоро сбегу из-за этих командиров. Понимаешь, не могу вынести, когда свои ребята толкуют мне о дисциплине. Мне было бы в двадцать раз легче, если бы это говорил зав. Везде заведено, что заву нужно подчиняться. А на остальных можно плевать. А тут все наоборот: зав отдал всю власть командирам, а они помыкают нами как хотят.
– Сенька, – говорю я, – ты мой лучший друг, правда? Но ты слишком горяч. Так нельзя.
– Долгонос! И ты уже заговорил по-ихнему?
– Ну, а если и по-ихнему?
– Честь имею доложить, – Сенька насмешливо вытянулся передо мной в струнку, – товарищ навозный командир (он так дразнит меня с тех пор, как я был командиром по очистке крестьянских клунь), что я на вас…
И толкнул меня так, что я полетел. Тут же сам меня поднял и говорит:
– Долгонос! Нюня! Береги нос, иначе плохо будет!
– Ну-ну, ты потише!
– Чего потише? – И он хочет снова меня толкнуть.
– Горобец, – спокойно говорю я, – ведь я тебя хорошо знаю, смотри, плохо кончишь! Слишком ты горяч, Горобец!
12. А ЛУНА СМЕЕТСЯ!
– Горобец, что тебе тут сидеть? Пойдем со мной на пастбище, – зову я.
Он отвечает:
– Лямза, лучше убирайся вон, пока я из тебя блин не сделал.
Я пытаюсь снова:
– Я знаю, что ты можешь из меня блин сделать, но лучше пойдем погуляем.
Он молчит. Молчит и смотрит в землю. Что ему там надо? Кого он там ищет? Мать? Отца? Брата? Или же слушает, как дышит земля? Молчу и я. Молчу и гляжу в небо. Я вижу в небе много интересного. Солнце заходит; стая облаков плывет по небу, точно корабли по морю. А луна стоит прямо над моей головой и смеется. Что же ты смеешься? Всегда, когда мне грустно, она смеется. Чем ты так довольна?
Стемнело. Сенька все еще смотрит в землю, а я – в небо.
– Горобец, – коснулся я его плеча. – Скажи, о чем ты думаешь? Почему ты мне не отвечаешь?
Но он все молчит. С тех пор, как я знаю Сеньку, я никогда еще не видел его таким молчаливым. Может быть, он задумался о чем-нибудь, чего я не знаю. Разве это возможно! Я знаю о Сеньке все. Знаю, что он из Курска. Знаю, что он жил в Казацкой слободке, высадил там не одно окно: у него была рогатка, и он хорошо целился. Знаю, что у Сеньки был брат, Сенька не раз мне рассказывал о нем. Звали его Матвей, он был молотобоец, здоровый лохматый парень. «Парень-гвоздь». И благодаря Матвею все в слободке уважали Сеньку.
Город заняли белые. Устроили облаву и пришли к ним в избу. Хотели увести Матвея драться с красными. Матвей не соглашался. Тогда офицер поднес к самому его носу наган. Матвей не выдержал и дал ему пощечину. В избе поднялась суматоха. Матвей бросился на офицера и стал его избивать. Но кто-то из белогвардейцев, что пришли с офицером, выстрелил Матвею прямо в рот.
Все это мне известно. Сенька не раз рассказывал мне об этом. Он мне рассказывал также, почему ушел из дому. Нечего было есть. Просто и ясно. Когда нечего есть, уходи из дому и никому не мозоль глаза. Оставь лучше последний кусок матери… Так я думаю. Да.
Когда убили брата, единственного кормильца семьи, Сенька подошел к матери (отец умер раньше, не помню, отчего, кажется, от пьянства):
– Мама, я ухожу из дому и больше не вернусь.
– По мне, хоть и не приходи. Что с тебя за польза, ты только и знаешь, что стекла бить у соседей.
Он ушел. И правда, чем сидеть без дела дома, уж лучше поездить по свету.
Вначале он ездил, как и все пассажиры, в вагоне: спокойно спал под скамьей, пока не выгонял кондуктор. Потом научился ездить на буферах, в ящиках под вагонами, на паровозе, да мало еще где…
Сенька ничего от меня не скрыл, точно так же, как и я от него. Я ему рассказал свою историю в первый же день, когда мы сидели в районе. Я рассказал, что родом я из Волынской губернии, что зовут меня Мойшка, рассказал, что мою мать звали Двося. («Двоська?», – переспросил Сенька.) Я ему рассказал, что отца звали Ицек. (Сенька: «Ицка?» Я: «Нет, не Ицка, а реб Ицек».) Я ему еще рассказал, кто из моей родни жив, кто умер. Потом я рассказал ему, что отец ежедневно ходил в синагогу к минхе и майрев. Сенька даже не понял, что это значит. Я ему объяснил:
– Ну, молиться, значит, часто ходил.
Тогда он понял, но ему было неясно, почему надо два раза в день молиться. Его отец ни разу в году в церковь не заглядывал. Я снова разъяснил ему:
– Это обычай такой у евреев.
Он засмеялся.
Ну, и пусть смеется.
Потом я ему рассказал, что у моей мамы был ревматизм. Она, бывало, всегда стонет:
– Ой, Мойшка, как ноги ломит…
Была у нее еще одна странная болезнь – камни в печени. Доктор прописал ей лекарство – побольше чаю. Ежедневно утром и вечером она ставила для себя самовар и сама его выпивала. Там было верных семнадцать стаканов. Сенька никак не мог понять, что это за болезнь. Я ему пробовал объяснить.
– Ну, камни, знаешь, камни.
– Какие? – переспросил он. – Просто камни? Хи-хи!
– Чему же ты смеешься?
– Чудеса, ей-богу! Правда, чудеса!
Я все ему рассказал. Когда моя мать заболела брюшным тифом, я начал продавать для Перельмана папиросы. И тут подошел ко мне Сенька, опрокинул мой лоток и выбросил папиросы в грязь.
О чем же думает теперь Сенька, почему не говорит мне ничего?
Приятно смотреть ночью на небо.
Вот если бы я мог верхом на звезде прокатиться в облаках! Там, должно быть, очень светло. Так я думаю. Да.
– Горобец, – тронул я его снова за плечо. – О чем ты сейчас думаешь? Я тоже хочу знать.
– Тебе не надо этого знать, – поднял голову Сенька. – Тебе не надо этого знать, Лямза.
Вот тебе и на! Хорошенькое дело! У него завелись уже от меня секреты!
– Горобец! – отрезал я. – Если ты мне не скажешь сейчас, о чем ты думаешь, я на тебя очень рассержусь.
– Рассердится, подумаешь!
Что же все-таки с ним случилось? Почему он такой задумчивый? С завом у него в последнее время стычек не было. Наоборот, зав мне недавно сказал: «Липкин (зав меня всегда называет по фамилии, Сеньку тоже), а ведь Сенька становится неплохим парнем. Что ты на это скажешь?» Что же мне сказать? Девочка, обиженная когда-то Сенькой, тоже больше на него не жаловалась. Мне даже известно, что она завела с Сенькой «шуры-муры» (правда, он скрывает это от меня).
И с командирами он живет мирно. Они находят, что Сенька стал тише воды, ниже травы. Его даже прочат в начальство. Командиром хотят сделать.
Что же его тревожит?
Я внимательно оглядываю Сеньку и замечаю торчащее из его кармана письмо. Я тихонько вытаскиваю его, но Сенька кричит:
– Положь назад!
– На, на, подавись!
Я побежал к заву и спросил:
– Товарищ зав, не знаешь, почему Сенька такой задумчивый?
– Эге, – сказал он и дружески надвинул мне шапку на глаза. – Ты его правая рука, а не знаешь, что он получил письмо от матери. Она едва нашла его. Зовет домой. Он спросил меня, как быть, а я ему ответил: делай как знаешь. Вот он и размышляет, говорит, что ему не хочется расставаться с колонией. Понятно?
Подумайте! Шесть лет не видались, и вдруг ни с того ни с сего – письмо!
Иду снова к Сеньке. Иду не спеша. Звезды глядят на меня со всех сторон. Что им надо? Впервые мы видимся, что ли? Кажется, достаточно друг другу надоели. И луна тоже смотрит. Смотрит и смеется. И смехом своим как будто говорит мне:
– Шляпа! Почему тебя так волнует, что Сенька сидит задумчивый?
Поди-ка, объясни ей, что Сенька Горобец – мой лучший друг!
Подхожу к Сеньке и начинаю его укорять:
– Ай, ай, Сенька, а еще друг называется! Заву сказал, а мне нет.
– Лямза, – сорвался он с места, – Лямза, кричи ура!
– Что такое?
– Я не еду. Остаюсь здесь, стоит ли уезжать, коли нас на завод посылают?
Хочу закричать ура, но от радости язык не поворачивается.
– Как же ты, Горобец, не сказал мне раньше о письме?
Он обнял меня за плечи.
– Видишь ли, Лямза, это письмо так меня за сердце зацепило, что слова вымолвить не хотелось…
– Смотри-ка, – толкнул я Сеньку, – как луна следит за нами.
– Пусть следит, – сказал Сенька, – такая уж у нее сызмалу привычка.
Сенька показал мне письмо матери.
Тоже письмо! Несколько строк. Стоило такую бузу из-за него заводить. Вот оно:
«Здравствуй сын мой Семен Васильев пишут тебе твоя матушка Настасья Филиповна которую верно помнишь ох Семен я то клопотала по всем городам клопотала покудова мне сказали что ты тута приезжай беспременно домой довольно шлятся. Или признаваться не хочеш, ответь приедешь аль нет».
Он сел писать ей ответ. Когда Сенька пишет, он всегда высовывает кончик языка, точно это ему помогает. Сенька нацарапал несколько закорючек и бросил писать. В другой раз ответит. Да и что писать-то? Целую канитель надо разводить, а уже поздно. Спать пора. Скоро и свет погасят.
13. ЛЯМЗА, ВЕРЬ ЕЙ!
У нас гость. Мурдик. Тот самый Мурдик, что сидел с нами в тюрьме. Он в странной шапке, похожей на гоменташ[4]4
Еврейский треугольный праздничный калач.
[Закрыть], и в потрескавшихся ботинках, а в штанах – две большие дырки, как два глаза. Он долго бродил по колонии, внимательно осматривал наш двор, с жадностью глядел на отяжелевшие яблони, на голубятню, на монастырь с красным флагом, на пруд, который мы сделали из болота, на наших двух откормленных жеребцов. Потом пошел к заведующему.
– Здравствуйте, вот и я!
– Вот и он! Подумаешь, какая цаца к нам прибыла!
Зав долго с нами говорил про Мурдика, сказал, что мы оба должны быть его воспитателями.
На другой день Мурдику выдали пару штанов, ботинки и шапку. Теперь можно было разглядеть его. Узенькая головка с карими глазами. Сам курносый, с маленькими, точно зашнурованными, губами, неразговорчивый.
Я сказал:
– Мурдик, то, что было раньше, забудь. Тут все иначе.
Сенька меня поддержал:
– Да-да, Мурдик, ты слушай, что Лямза тебе говорит.
Но Мурдик первое время мало с нами считался. Все же он был тихий парень. Бывало, слова лишнего не вымолвит. Забьется в уголок и поет какую-то странную песенку. И не разберешь, грустная она или веселая.
Вскоре я с Мурдиком сдружился. Не знаю почему, его молчаливый характер был мне по душе. Он мне рассказал, что никогда не надеялся попасть в большой город, но тетка привезла его в Харьков, оставила в изоляторе на Александровской улице, а сама исчезла.
Когда Мурдик рассказывал мне о своих похождениях, я всегда вспоминал Клочковскую, два. Этот «дом лишайников» так врезался в мою память, что я не забуду его всю жизнь. Как проходили наши вечера?
У воспитателей:
– «Ландыш. Не теперь, позже».
– «Резеда. Спасибо за комплимент».
– «Подснежник. Вы переходите все границы…»
У нас:
– Давай карту!
– На.
– Еще одну!
– На.
– Фуц!
– Подожди, дай еще одну, черт с ним!
– На, а если проиграешь?
– Отдаю простыню.
– На.
– Двадцать одно!
– А ну-ка, покажи!
– Гляди: король, туз, шестерка.
– Ребята, шестая. Нилка идет!
Легкие шаги по коридору. Остановилась, потом рванула дверь…
– А, снова картежная игра!
– Пошла, Нилка, пошла флиртовать!
– Это что за тон? (Топнула.) Что за разговоры? (Дважды топнула.) Борис Борисович, угомоните их!
Тяжелый топот сапог. В комнату входит надзиратель.
– Спать, – грозит он волосатым кулаком. – Спать!
А через полчаса снова то же.
У нас в спальне:
– Ну, пошли дальше!
– Даешь!
– Сколько в банке?
– Десять завтраков.
– На все.
– На.
– Фуц!
У педагогов:
– «Акация. Я этого не люблю».
– «Резеда. Ваши брови! О-о, ваши брови!»
* * *
Похолодало. Наша колония начинает кутаться: заклеивать двери, замазывать окна. Сад понемногу сбрасывает с себя листья и обнажает ветви.
Просыпаешься утром и видишь: на крышах лежит иней, точно белая тонкая шаль. Становится немного грустно, но нам некогда грустить, потому что мы заняты целый день либо учебой, либо работой.
С тех пор как я стал учиться, я чувствую, что во мне с каждым днем что-то меняется. Что именно, сам не разберу. Учительница рассказывает, что земля непрерывно вертится вокруг солнца. Что-то мне не верится: если бы земля вертелась, то и я вертелся бы вместе с ней. А я стою на одном месте. Не так ли?
Горобец говорит:
– Лямза, верь ей! Ведь она знает лучше тебя, иначе она не была б педагогихой.
Самая трудная штука – это арифметика.
Вот, например, учительница дает задачу:
«Рабочий получает 43 рубля в неделю, сколько он заработает в семь недель?» Ну, откуда же мне знать? Пророк я, что ли?
Или вот.
Заведующий нам рассказывал о Стеньке Разине; по его словам, Стенька был герой. А я знаю о Стеньке вот что. Катался он как-то с персидской красавицей по реке Волге. Вдруг ни с того ни с сего рассердился, схватил ее за талию и швырнул в воду. Я даже знаю песенку про это.
Зав говорит, что песня песней, а на самом деле Стенька боролся за свободу крестьян и был великий бунтарь (так он и сказал: бунтарь!). За это его и казнили.
Горобец говорит:
– Лямза, верь ему! Песня – это кабак. Если зав говорит, то он знает, иначе он не был бы завом.








