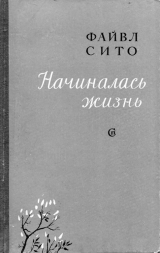
Текст книги "Начиналась жизнь"
Автор книги: Файвл Сито
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц)
14. ЗАВ УСМЕХАЕТСЯ
Вчера утром выпал первый снег. Я выбежал во двор и начал ловить падающие снежинки. В этот же день к Горобцу постучался шестнадцатый год.
Вместе с первым снегом он вбежал в спальню и бросился прямо к кровати Горобца.
– Сенька, я тут!
На рассвете Сенька о чем-то говорил сам с собой, может быть, он чувствовал, что стучится к нему шестнадцатый год. Мне тоже вчера минуло пятнадцать лет. Откуда я это знаю? Помню, мать рассказывала, что на другой день после моего рождения выпал первый снег. Отсюда я и веду счет моим годам.
Осенью мы возили в соседнее село бревна для строящейся там школы. Постройку приостановили до весны, и теперь мы учимся вместе с крестьянскими мальчишками и катаемся с гор на собственных штанах.
Последнее время наш зав как-то странно ведет себя. При встрече со мной он ни слова не говоря весело усмехается. Чему бы? Не нарадуется на нас, что ли? Но я, кажется догадался, в чем дело. Учителя неспроста учили нас арифметике и рассказывали нам про землю: они готовили нас в фабзавуч. А на днях нас, кажется, повезут в город.
Вчера учитель разбудил нас (меня, Горобца, Мурдика и еще нескольких ребят) очень рано.
– Ребята, довольно дрыхнуть! Едем на станцию.
Мы мигом оделись и отправились на станцию.
Сидя в вагоне, я все время смотрел в окно. Навстречу нам неслись покрытые снегом горы, дома, трава завивалась, точно локоны девушки. Учительницы нашей колонии советовали присматриваться к природе, в ней много красоты, говорили они. Я сижу в вагоне и смотрю в окно на маленькие домики и горы, которые кланяются мне.
Я очень доволен, но чем – не знаю сам. Такую радость можно передать не словами, а как-то иначе… Так я думаю. Да.
Зав смотрит на нас и смеется.
– Ребята! Вот мы и в городе.
Мы все выходим из вагона и направляемся по городу к металлозаводу. Город снова соблазняет меня разными чудесами, выставленными в витринах. Но теперь они меня не волнуют. Несколько лет назад я бы не вытерпел, чтобы чего-нибудь не стянуть, но теперь мне это неинтересно. Я сыт, у меня есть дом, меня обучают ремеслу, чего же мне еще? Уже не впервые я вижу город, но никогда он мне так не нравился, как сегодня.
Сколько новых домов в городе! Мы заходим в заводскую контору. И зав говорит с радостной улыбкой:
– Вот они, мои пятеро сыновей, о которых я с вами говорил.
Их заведующий (не знаю, может быть, он тут иначе называется) отводит в сторону нашего и о чем-то шушукается с ним. До меня доносятся слова нашего зава:
– Да что вы? Можете вполне на них положиться.
Это, очевидно, имеют в виду нас. Был бы я на месте зава, я бы плюнул ему в физиономию за такие вопросы. Тот, как видно, думает, что мы и тут собираемся лямзить.
А Сеньки вдруг не стало. Он уже во дворе. Держит в руках кусок проволоки, осматривая по-хозяйски завод.
Я тоже выбежал.
– Горобец, – говорю я. – Как тебе нравится?
– Ты видишь этот подъемный кран?
– Ну, и что же?
– Я бы не отказался прокатиться немного с машинистом туда и обратно.
Когда мы возвращались в колонию, у Сеньки вырвалось:
– Товарищ зав, мы будем работать на шармака или за деньги?
– Ясное дело, за деньги, – ответил зав.
Завтра утром мы уже приступаем к работе. С завтрашнего дня мы должны стать совсем, совсем иными людьми.
Так я думаю. Да!
15. ФЗШ
Поймал! Наконец-то я поймал «смекалку». Мастер говорит, что как только поймаешь смекалку, все становится ясным, всплывает, как масло на воде. Мастер говорит, что если ты пилишь плитку, то должен выбросить всякие глупости из головы и думать только об этом. На все свое время.
Обработка плитки напильником была первой нашей работой.
Как только мы вошли в токарный цех, мастер дал нам по куску ржавого железа, наметил на нем мелом квадратики, вставил в тиски и сказал:
– Пили!
– Железо должно стать четырехугольным и приобрести блеск, – так говорит мастер. – Оно должно так блестеть, чтобы в него можно было смотреться, как в зеркало. Иначе, – говорит он, – ты такой слесарь, как я акушерка. Понятно?
Горобец вначале выходил из себя. Из-за плиток он даже собирался бросить работу. Не хочет он пилить, да и только. Лучше бы, говорил он, заставили его камни таскать. Невмоготу ему на одном месте стоять. Этот ржавый кусок железа подчиняет себе, а Сенька не хочет подчиняться. Однако мастер обрезал Сеньку так, что у того в глазах потемнело. Если он не хочет учиться работать, то пусть идет помощником к гицелю[5]5
Собаколов.
[Закрыть], а на заводе он должен стать слесарем.
Когда я в первый раз попал в цех, меня охватил страх: шкивы, точно змеи, ползли вдоль потолка, гул трансмиссий ошеломил меня. Можно оглохнуть от этого шума! Белые тонкие стружки летят от токарных станков, и эти горячие стружки со странным жужжаньем носятся вокруг тебя.
Стою рядом с Сенькой подле тисков и пилю.
– Горобец! – кричу я. – Эв-ва!
Но Сенька не слышит, он занят. По-видимому, мой восторг его нимало не трогает.
Мастер, очевидно, нами недоволен. Он говорит:
– Тут не должно быть ни Горобца, ни Долгоноса. Как это понять?
Он говорит, что нас обоих надо взять в тиски, как берут кусок железа, и раскалить на горне. Потом надо этот кусок железа (то есть меня и Сеньку) бросить в мартен, чтобы превратить в сталь. А если этот кусок железа (то есть меня и Сеньку) нельзя превратить в сталь, то надо его кинуть в мусорный ящик. Сенька говорит, чтобы мастер не морочил ему голову своими баснями, он все равно его слушаться не хочет.
Горобец говорит:
– Насильно только медведя научишь танцевать, да и то не всегда: если медведь не дурак, то танцевать не станет. Поди-ка назови его прогульщиком.
Не знаю почему, но мне мастер нравится. Правда, он частенько не прочь прикрикнуть на нас, но все же человек не плохой. В его маленьких глазках есть что-то привлекательное. Он низкорослый, с брюшком, смахивающим на футбольный мяч, и с маленькими усиками. Он любит часто поглаживать их, забывая о том, что руки его всегда в машинном масле. В хорошем настроении он не говорит с тобой, а только подмигивает. И ты должен его понимать.
А когда он сердится, начинает так бушевать, что хоть уши затыкай.
– А меня? – орет он. – Меня как учили? Бывало, прикажет мастер что-нибудь подать, а ты замешкаешься ненароком, так он тебе так заедет, что покойного прадеда увидишь. Иди-ка тогда, жалуйся губернатору!.. А вас вот учат читать, писать, да еще и деньги вам платят. Тумаки мне в ваши годы давали, а не деньги!
Но как только мастер заканчивает свою речь, он сразу становится мягким, как оконная замазка. Такой уж он чудак, наш мастер. Лучше не раздражать его.
Теперь я все смекнул. Мастер говорит, что если у человека не работает смекалка, то он ломаного гроша не стоит. На работе нельзя быть растяпой. Если стоишь у сверла или у механической пилы, которая визжит, как поросенок, и думаешь не о работе, а о черненькой подавальщице из столовой, тебе может так отхватить пальцы, что только держись.
Теперь у нас работа пошла легче. Мы делаем молотки. В первый раз, когда мастер принес мне кусок железа и велел сделать молоток, я решил, что он спятил: «Сделай молоток»! Как же мне обломок ржавого железа превратить в молоток? Он объяснил, что до намеченной точки нужно отпилить, а там, где мелом означен кружок, надо просверлить. Как только он отошел, Сенька высчитал, что на отпиливание уйдет целая неделя. Проще сделать это при помощи наждачного камня. Мы так и сделали, но наждачным камнем захватили на несколько миллиметров больше, чем полагалось, и сделали вид, что не заметили этого.
Подходит мастер и видит, что мы слишком быстро справились с заданием. Он берет наши будущие молотки и швыряет на пол.
– Это что за безобразие! Сию же секунду выбросьте это железо в помойную яму.
Ничего не поделаешь… Пришлось взять другое железо и сделать так, как он велел. Когда молотки были готовы, он только моргнул своими глазками. Это означало, что наша работа сделана неплохо.
* * *
Ф-фу… как я устал! И с чего бы это? Ведь я работаю всего четыре часа, а четыре часа учусь.
Что осталось у меня в голове от сегодняшних уроков? Чувствую, что она переполнена. Если бы ее хорошенько встряхнуть, из нее посыпалась бы таблица умножения, которую я с таким трудом вызубрил. Плохо еще укладывается в моем мозгу то, чему меня учат. Странное дело! Кусок железа не может удержаться на воде. А целый пароход держится. Как же это понять?
Учитель говорит, что этот закон открыл грек Архимед. Вот чудак!
Никакой охоты нет зубрить. Пусть греки этим занимаются. Все равно им делать нечего. Вот они сидят и бренчат на лире. Законы выдумывают. Сенька вообще сомневается в существовании греков. В этих уроках, вероятно, немало «липы», говорит он. Вот, к примеру, учитель физики сегодня нагрел над огнем стеклянную трубку и с увлечением согнул ее. Что ж тут за фокус! Если железо гнется, так почему же не гнуться стеклу? Одно мне понравилось на сегодняшнем уроке: если положить бумажку на стакан, наполненный водой, и опрокинуть его, то вода не выливается…
Сенька уже спит.
Мне тоже хочется спать. Как только закрою глаза, сразу вижу перед собой нашего заведующего ФЗШ, Юрия Степановича. Всегда он твердит одно: без греческого закона нельзя и шагу ступить у машины. У машины, говорит он, тоже есть душа. Да еще капризная. Кто имеет дело, с машиной, должен знать ее душу. Кто не хочет понять нутра машины, тот просто неуч и способен только печи топить, а не работать с машиной. Если в машине что-нибудь испортится, то такой неуч так же в этом разберется, как гицель в хлопке. Вот для чего нужна фезеша. А тот, кто станет в фезеша выкидывать фортели, того надо взять за шиворот и спустить со всех ступенек. А на его место надо посадить такого, кто хочет знать греческие законы. Вот так он начнет и начнет, не вырвешься…
Учительница русского языка спрашивает меня, знаю ли я, кто был граф Толстой! Вот еще вопрос! Раз он был граф, то я и знать его не хочу. Большевики давно уже дали графам по шапке. Однако учительница говорит, что граф Толстой был известный писатель. Подумаешь, какое диво! Сенька говорит, что у них в волости тоже был известный писатель, по имени Кирилла-писарь. Почему же его не изучают в классах?
Учительница пожаловалась на нас Юрию Степановичу за то, что мы смеемся над Толстым, и за то, что пускаем на ее уроках бумажных голубей, причем один из них попал ей даже на пробор.
– За голубей, – говорит Юрий Степанович, – вас по головке не погладят. За голубей вы получите строгий выговор. Что же касается Толстого, то только круглый невежда может не знать, кто был этот великий человек. А граф Лев Николаевич Толстой (так он и назвал его полным именем) писал книги о графах и дворянах. А графы и дворяне были до Октябрьской революции главными заправилами, они сдирали семь шкур с крестьян, они их покупали и продавали, как скот. Трудом крестьян они наживали поместья и богатства. Все это описал Толстой, мы должны его знать.
Вот тебе и на. «В огороде бузина, а в Киеве дядька». Какое отношение имеют большевики к графам?
– А-а-а… Хватит уже зевать, надо погасить свет.
Ой, какая ясная звездная ночь!
– Горобец! Ну-ка, будь молодцом, покажи Большую Медведицу!
– Долгонос, замрешь ты наконец? – бормочет сонный Сенька. – Плевать мне на Большую Медведицу, пусть греки этим занимаются.
* * *
Как только раздается первый пронзительный гудок, на пол летит чье-нибудь одеяло – либо мое, либо Сенькино. Так мы будим друг друга. Если же это не помогает, то есть еще одно средство, которое изобрел Сенька: обливать водой. Норма обливания – не меньше чайника, таково условие.
– Бежим! – командует Сенька, как только мы очутились за калиткой.
– Бежим! – подхватываю я.
Мы мчимся к трамвайной остановке, как пара испуганных лошадей.
– Стоп!
Люди лавиной ринулись из трамвая.
Рядами идут через проходную и на ходу вешают номерки. Вот прозвучал звонок, и мы уже за партами.
Четыре часа подряд слушать архимедовы законы!!
Физика, впрочем, куда ни шло! Учитель показывает фокусы: берет стеклянную трубку, затыкает с обеих сторон пробками, нажимает нижнюю пробку – вылетает верхняя, да еще с выстрелом!
Но вот математика – просто беда! Несчастье! Хорошо еще, что существует звонок. Когда он прозвонит четвертый раз – значит, шабаш. Кончились уроки.
Мы летим в столовую. Сенька ищет стол, который обслуживает черноволосая подавальщица…
День для нас начинается только в цехе. Вначале я не мог привыкнуть к шуму. Теперь уже не замечаю, как гудят рядом фрезера. Цилиндры с пением проделывают свои быстрые обороты. С равномерным шумом ползут вдоль потолка трансмиссии. Дж-ж-ж!..
Все здесь измерено, рассчитано каждое движение. Шум захватывает тебя так, что забываешь обо всем на свете. Знаешь только, что должен сделать кронциркуль, от этого зависит новый разряд.
Но вот ты закончил. Тут подходит мастер, пронизывает тебя насквозь своим взглядом.
– А это что? – проводит он своим треугольником по циркулю. – Ведь циркуль-то у тебя горбатый!
Где он видит горб?
– Эх, – морщится он, – меня иначе учили!
* * *
Сегодня день отдыха.
Сирена утром не будит нас. На заводе в работе не замечаешь, как летит день, а сегодня каждый час тянется, тянется…
Вчера мы получили заработную плату. Семнадцать рублей, как одну копейку, отсчитал каждому кассир и даже слова не сказал.
Куда бы пойти?
Вчера после работы мастер пригласил нас к себе. На обед. Он нас любит и хочет представить нас жене. На стене у нас висят два циркуля, они блестят, как никелированные. Хоть смотрись в них! Мы их выпросили у мастера – пусть все видят нашу первую работу.
Мы умываемся, причесываемся, смазываем для блеска волосы репейным маслом и шагаем к мастеру: выпить пару пива и закусить.
Мы идем. Солнце стоит как раз посреди неба. В зените, так, кажется, говорится на книжном языке.
– Груша! Они идут! – кричит мастер, увидев нас в окно. – Идут мои мальчишки…
– Здрасте!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
…Наутро в цехе мастер нас будто не узнает. Он по-прежнему ничего не хочет знать. Дали тебе работу, выполняй. После работы, говорит он, можно даже вместе поухаживать за той черноволосой из столовой.
Но на работе – я тебе задам!..
И он грозится пальцем, а глаза его глядят совсем не по-вчерашнему. Глаза его требуют от нас работы. И мы работаем.
* * *
Как-то к нам подходит секретарь комсомольской ячейки и спрашивает нас, о чем мы думаем.
– Как о чем? – говорит Сенька. – Мы думаем о том, чтобы стать хорошими рабочими и навсегда забыть, кем мы были.
– Нет, что вы думаете о вступлении в комсомол?
– Об этом мы еще, правду говоря, не думали… Но подумаем, – ответил я.
– Так вот, подумайте, – сказал секретарь.
– Хорошо, – сказал Сенька. – Подумаем.
– Только вы долго не раздумывайте и подавайте заявления.
– Хорошо, – сказал Сенька.
1929
Перевод П. Копелевой и Р. Маркович.
В ПОДВАЛЕ
Рассказ
1
Мы живем теперь в Слободке.
Хозяйка наша, Мария Федоровна Сердиченко, семипудовая бабища с двойным жирным подбородком, торгует горячими пирожками на рынке (там она и печет их), а ее муж Евстигней Дмитрич гонит самогон дома.
Ее старшую дочь Марусю, уже немного засидевшуюся деву, капризную, несколько опухшую, с толстыми, короткими ногами, которые легко могли бы поддерживать большой дубовый стол, как раз сейчас сватают за известного «соловья» в Слободке – вора Михаила Твердозуба.
У Марии Федоровны есть еще шестнадцатилетний сынок, который славится тем, что замечательно работает «ножичком». Зовут его Николаем, и когда он ходит по Слободке, то горделиво плюет в обе стороны; плевок направо и плевок налево, короче говоря – на весь мир… Воришка этот глядит на всех с величайшим презрением и имеет большую свиту мальчуганов помоложе, которые, стоит ему приказать, любого человека смешают с грязью.
И, наконец, самая младшая в семье – Шурка, курносая девчонка моих лет, но величайший мастер сквернословить и уж одним этим занимающая в Слободке гораздо более высокое положение, чем я.
Вот вкратце и все о семье Сердиченко. Я только забыл добавить, что у Евстигнея Дмитрича лоб густо осыпан веснушками и что он калека на одну ногу. История с этой ногой, между прочим, очень интересна. Вам не мешает послушать ее. Много лет тому назад Евстигней Дмитрич служил в царской охранке ищейкой. Так, слыхал я, говорили в народе. Доносы – вот в чем состояла его работа. Он был запанибрата со всеми городовыми и даже с главным приставом, но никто об этом не знал. Однажды он усиленно выслеживал какую-то белокурую девушку из «неблагонадежных», а она уже знала, какой это негодяй. Она заманила его в темный переулок и дважды подряд выстрелила в него. Метила в веснушчатый лоб, но рука у нее дрогнула, и она оба раза угодила шпику в ногу. Короткое время спустя ее поймали и повесили, но у Евстигнея Дмитрича отрезали ногу и вместо нее приладили деревяшку, и он навеки остался калекой. Чтобы не бросаться больше в глаза жителям города, перебрался на Слободку, в подвал, и занялся выгонкой самогона.
Дома, в разговорах с соседями, он утверждает, что ногу потерял во время войны с японцами, но правда уже начинает всплывать на поверхность, как масло на воде, шила в мешке не утаишь – так, слыхал я, поговаривают в народе.
Вот это – почти все.
Жить в подвале, где гонят самогон, нужно уметь, а мы живем. От едкого, горького запаха еще не очищенного спирта голова так угорает, что можно тут же умереть, но мы не умираем. Синяя дымка вонючего самогона плывет по низкому сырому подвалу с грязными оконными стеклами, как густое облако, так что даже слезятся глаза. А когда Евстигней Дмитрич «просит» еще раз, чтобы я помог ему разлить по бутылкам спирт, то нельзя быть свиньей.
Евстигней Дмитрич, надо сказать, большой пьяница. При этом иногда бывает то, что, нализавшись, он становится таким мягким, хоть прикладывай его к болячке. Он начинает толковать с моей матерью по поводу того, что евреи, бедняжки, постоянно живут на чужбине, а он, как честный русский человек, все свои годы мучится над вопросом, почему они должны так страдать, эти евреи. Он достает несколько гривенников и дает мне, чтобы я пошел с их Шуркой в кино. На каждом шагу он начинает каяться, плачет, валится на колени перед женой, перед старшей дочерью, целуется с сыном, простаивает на коленях перед иконой четверть часа, истово крестится и, как дитя, рыдает перед чадящей лампадкой.
И наоборот, иногда, напившись, он начинает так бушевать, хоть из дому беги. Что значит – бушевать! Вот, например, сижу я и гляжу в окно, а он подходит ко мне и швыряет тарелку на пол. Что ни попадет ему под руку: тарелка ли, лампа, ведро, тотчас будет разбито. Он хватает табурет и запускает его в оконное стекло. Стекло дребезжит и крошится на мелкие осколки. Это особенно приятно Евстигнею Дмитричу. Звук разбитого стекла подбадривает его. Ему нравится такая музыка. Затем он подбегает к нашей кровати, где я сплю с матерью, сбрасывает на пол и топчет подушки, начинает плясать на своей деревяшке по комнате и рассеивает перья по полу, ругается так, что даже стены краснеют. В буйстве своем он не знает удержу, ищет, что бы еще можно было уничтожить, и когда из вещей ничего больше не попадается ему под руку, то принимается за людей. Он подходит, ковыляя, к своей собственной жене и говорит ей такие слова, что я от стыда отворачиваю лицо. Затем он ковыляет к дочери, к Марусе, и начинает дразнить ее: «Девка, туша тухлая! Гляди, засидишься так до седых волос! А ведь хочется парня, а? Ай, как тебе хочется парня…» – Он кидается к ней, начинает целовать ее и обнимать, но она отбрасывает его от себя, и он со своей деревянной ногой летит вверх тормашками на каменный пол.
– Убью! – бушует он, лежа на полу. – Всех вас зарежу, всех прикончу!
Бывает, однако, что в это время Колька дома, тогда он спасает все. Сын как зверь бросается на отца и начинает лупить его кулаком по подбородку. Колька избивает его до тех пор, пока с отцом не приключается падучая, тогда он оставляет его. Отец начинает вместе с деревяшкой кататься на полу, как лошадь, разрывает на себе рубаху, густая пена струей бьет у него изо рта. Сын снова подходит к нему, привязывает ему руки к ногам; а когда отец немного уже успокоится, вся семья втаскивает его на кровать, и – конец, он засыпает. На следующий день самогонщик даже не помнит, что с ним вчера было; у него, видимо, короткая память. Вот что это за человечек!
В честь Марусиной свадьбы закололи борова. Николай вытащил из стойла свинью за розовые уши и помаленьку дружески пинал ее в живот. Затем Евстигней Дмитрич сам забросил петлю свинье на ее жирный зад, так что петля поддела ее за задние ноги. Свинья как будто почувствовала недоброе и ужасающе завизжала. Смерть, однако, последовала незамедлительно. Николай всем корпусом навалился на свинью, а Евстигней Дмитрич крепко зажал ей руками морду, чтобы она не так сильно визжала. Животное попробовало пустить в ход ноги, стало бросаться во все стороны, но победителем все же вышел Николай. С завидной сноровкой он весьма точно всадил в мягкое сердце свиньи большой блестящий нож, и долго клинок купался в ее горячей крови, пока черенок ножа не застыл над сердцем свиньи. Затем развели большой костер из соломы и опалили твердую щетину вместе с блохами. Несколько позже во двор вышла сама Мария Федоровна. Горделиво засучив рукава, она толстыми руками влезла в распоротый живот свиньи и извлекла оттуда клубок вонючих кишок. Когда свинья была уже хорошо осмолена, Колька маленьким ножиком отрезал ее хвост и с большим удовольствием съел. Озолотите меня, чтобы я так поступил – фи!
На следующий день должна была состояться свадьба. Чтобы больше понравиться своему будущему тестю, вор Михаил Твердозуб в ночь перед свадьбой сильно напился и вызвал на борьбу всех парней Слободки, включая сюда и сынка Марии Федоровны – Николая. Кольку, завтрашнего шурина Твердозуба, кровно обидела такая спесь, и он в разгаре жаркой драки вышиб кастетом у вора правый глаз, и на другой день ни о какой свадьбе не было и речи.









