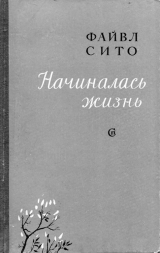
Текст книги "Начиналась жизнь"
Автор книги: Файвл Сито
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 17 страниц)
СВЕКРОВЬ
Рассказ
– Человек, знаете, слабее мухи и крепче железа, – так начала свой рассказ Хава Белоцерковская.
Хава стара и седа как лунь. Между ее черными выцветшими глазами и миром уже висит туман. Она худа и мала. И все же в этой бледной седой женщине чувствуется какая-то сила. Бомбы ее не свалили, стужа и вьюги ее не одолели…
Муж ее умер перед самой войной, на Украине. Сын ее – один бог на небе знает, где он. А самое ее со снохой Малкой и двумя внуками занесло вон куда – в Башкирию.
– Это, знаете, еще не такая беда, – замечает Хава. – При советской власти, где бы вы ни жили, все равно как у себя дома. Хуже, знаете, что силы иссякают… так… сами по себе. Не подумайте, сохрани бог, что от тяжелого труда. Я не рублю на старости лес и не таскаю бревна. А просто – несчастье… трудно перенести. Я, однако, иначе не могла и не должна была поступить. Из жалости к моей снохе и к двум птенчикам, бедняжкам, я сама надела себе камень на шею…
Каждый вечер, когда дети засыпают, сноха садится у окна, молчит. Вдруг вздыхает: «Шлема!..» У старухи обрывается сердце. Шлема ведь ее плоть и кровь…
Не раз старуха пробовала подбодрить сноху, облегчить ей сердце. Но хуже всего было то, что сноха как будто со всем соглашалась:
– Да, свекровь дорогая! Он действительно ваш сын, ваша плоть и кровь, но он ведь все-таки мой муж и их отец!
При этом она указывала рукой на спящих птенчиков, и старуха теряла дар речи.
Три месяца прошло, пока от Шлемы пришла первая открытка. Четыре строчки:
«Я здоров, я на фронте – все в порядке. Береги детей и передай привет маме. Шлема».
В тот вечер Малка не подпускала старуху к детям. Сама вымыла им головки, нарядила в лучшие праздничные костюмчики, которые так любил Шлема. Весь вечер она носила их на руках, целовала и обнимала, пела им песенки, танцевала с ними и снова целовала, затем, когда дети уснули, она засела писать мужу письмо. Писала она ему до поздней ночи, нежно упрекала в чем-то. Старуха прослезилась в своем углу, она все не могла забыть слов снохи: «Он действительно ваш сын, ваша плоть и кровь, но он ведь все-таки мой муж и их отец!»
На письмо Малки ответа не получили. Прошел месяц, и два, и три – Малка обивала пороги военкомата, посылала письма Шлеме, измучилась – на себя похожа не стала и, наконец, потеряла всякую надежду.
И вдруг произошло чудо. С фронта приехал на несколько дней Закир – молодой парень из башкирской семьи, проживавшей тут по соседству.
Он не переставая рассказывал о своих товарищах по полку и даже писал им письма. И вот Малка на одном из конвертов заметила номер той самой полевой почты, по которому она обычно посылала письма Шлеме. Она пристала к Закиру с расспросами: где находится эта полевая почта, не встречал ли он там случайно ее Шлему Белоцерковского. Она подробно обрисовала солдату, как выглядит ее муж, и сообщила даже важную примету: Шлема сильно щурит глаза. Но парень на все вопросы Малки отвечал: «Йок» – на башкирском языке это значит «нет».
Все же Малка не отступилась. Когда Закир уезжал на фронт, она проводила его на вокзал и там еще раз и еще раз просила попытаться узнать что-нибудь о Шлеме – в своей ли части или в другом полку.
После этого началась беспрерывная беготня в дом Закира, расспросы, не прибыло ли от него письмо, и если получено, то о чем оно. И должно же было так случиться, чтобы у Закира оказался бабай, по-башкирски значит «дед». Бабай заподозрил, что постоянное приставание Малки к Закиру, когда он приезжал сюда на побывку, проводы его на вокзал и частые расспросы про его письма, могут кончиться женитьбой, женитьбой на беженке. А ему, старому бабаю, казалось, что Закир нравится многим башкирским девушкам, которые сами умеют выкатать пару валенок, сложить печь, постричь стадо овец, вылечить корову, если она захворает… На все вопросы Малки он постоянно сердито отвечал «йок». И сердитый тон этот означал: «Отстань!»
Оказалось, однако, что Закир – человек с крепкой памятью. Однажды вечером, когда Малка с заплаканным лицом молча сидела у окна, открылась дверь и почтальон подал телеграмму. Телеграмма была от Закира и состояла из двух слов: «Белоцерковский жив». Несколько дней спустя от Закира пришло письмо. Он узнал, что в одном из соседних полков служит некто С. Белоцерковский; откуда родом этот Белоцерковский, он не знает. Лично он Белоцерковского еще не видел, но, судя по тому, как его обрисовали, это муж Малки. И он советует ей, чтобы она немедленно написала ему.
Письмо, отправленное Малкой Шлеме, было не письмо, – река слез. Не прошло и двух недель, как был получен ответ.
Когда принесли это письмо, Малки не было дома. Старуха набросила на голову платок и побежала к Зипе, сестре Закира, чтобы она прочитала письмо. В письме этом было написано:
«Моя фамилия действительно Белоцерковский, но имя мое не Соломон, а Семен. Семен Белоцерковский. И все же я чувствую себя одним из членов вашей семьи. Побереги детей, за их счастье сражаемся мы теперь с проклятыми фашистами не на жизнь, а на смерть».
Старуха попросила Зипу еще раз прочесть письмо. С каждой строчкой – все меньше надежды. Старуха больше не могла выдержать. Она разорвала письмо. Разорвала и сожгла. Пусть сноха даже не знает про это письмо. Ладно, она, Хава, уж достаточно наказана – потеряла единственного сына, зеницу своего ока, но сноха… пусть Малка не так скоро узнает, что она – вдова, а птенчики ее – сироты…
И Хава стала просить сестру Закира, чтобы она тут же написала своему брату от ее, Хавы, имени, и чтобы в письме было написано:
«Я, мать Шлемы Белоцерковского, очень и очень прошу вас, чтобы вы немедленно написали моей снохе, что после того как вы послали телеграмму и письмо, вы отправились туда, где служит мой сын, лично видели его, разговаривали с ним и передали привет от каждой из нас в отдельности. И что Шлема получил приказ вместе с группой других полететь на самолете к партизанам, а потому от него, от Шлемы, значит, не следует ждать так скоро писем».
И еще старуха просила в своем письме, чтобы Закир оказал ей милость и каждые две-три недели посылал ее снохе открытку, в которой сообщал бы, что он, Закир, по словам одного возвратившегося от партизан, знает, что Шлема жив-здоров.
* * *
Война забросила в Башкирию еврейскую семью Белоцерковских – старую женщину, ее сноху и двух детей.
Приблизительно каждые две или три недели к ним приходила открытка с фронта. Сноха читала открытку вслух, а дети в это время кричали: «Папа, папа!..» – и плясали от радости, но она, старая Хава Белоцерковская, забиралась тогда куда-нибудь в угол, чтобы скрыть свои слезы…
1943
Перевод С. Родова.
ВЬЮГА
Рассказ
Наша рота получила приказ занять село Г. До села нужно было пройти пешком восемнадцать километров.
Над полями бесновалась вьюга. Черный туман простерся пред нами огромной темной завесой, точно хотел закрыть нам дорогу. Разбушевавшийся северный ветер вздымал с земли целые пласты снега, кружил в воздухе и швырял в лицо. Шли мы на лыжах – без лыж всем нам угрожало завязнуть в глубоком снегу, который доходил до пояса.
На третьем километре меня нагнал начальник нашей санчасти, военный врач третьего ранга Михель Беккер, винницкий еврей, русоволосый подвижной человек в очках и с веснушками на маленьком носу. Лишь несколько недель тому назад он прибыл к нам с фронта, где был тяжело контужен.
– Ну, писатель, живы еще? – весело спросил доктор, поравнявшись со мной.
– Вашими молитвами, и впредь не хуже бы, – ответил я ему.
– То-то же! – крикнул он, чтобы перекрыть вой ветра. – Были бы вы со мной в Тихвине, тогда бы вы знали, почем фунт лиха. А сегодня у нас всего лишь репетиция, и притом даже не генеральная!
Доктор был прав. Это были лишь тактические учения отряда, к тому же в глубоком тылу. И хотя мы теперь, в жестокую вьюгу, шагали с той же выкладкой, как шагают на фронте: с винтовкой на плече, с ранцем, с противогазом и лопатой, да и сопровождало нас положенное количество пушек, полевая кухня и санчасть, все же вражеские самолеты не летали над нами. Однако для того, чтобы остановиться посреди марша, под вой пурги, буквально валившей с ног, выслушивать фронтовые воспоминания доктора, нужно было быть особым охотником. Долго разговаривать в пути нельзя, но чтобы как-нибудь побороть метель, во всяком случае – забыть о ней, или, на худой конец, внушить себе, что ты ее не чувствуешь, необходимо перекинуться изредка словом.
Ясно, что никакого законченного рассказа у доктора не получилось. Некоторые фразы относило ветром, другие утонули в глубоком снегу, и лишь отдельные слова доносились ко мне на ветру:
– Тихвин…
– В Тихвине…
– Под Тихвином…
Когда мы вошли в село, было уже темно. Меня устроили на ночлег вместе с доктором у белорусской крестьянки, которая эвакуировалась сюда из-под Орши. Четыре белокурые головки удивленно глядели на нас с печи.
– Добрый вечер вам, тетушка, – снял доктор шапку и стал сдирать с бровей налипшие льдинки. – Можно у вас переночевать?
– Что спрашивать, с великим удовольствием! – хозяйка, невысокая, изможденная крестьянка, принялась вытирать фартуком скамьи.
– Ну и прекрасно! – ответил Беккер и, тут же положив на стол свой ранец с медикаментами, начал вынимать оттуда и расставлять на столе пузырьки с микстурами, порошки, бинты, вату, и в крестьянской избе разнесся запах аптеки.
Хозяйка зажгла огарок, который, подмигивая нам капризным огоньком, как бы говорил: «А я все равно буду светить…» Затопила печурку, стоявшую посреди избы, и пламя из открытой дверцы гораздо ярче освещало комнату, чем огарок.
Поев на солдатский манер из котелка, который принес нам санинструктор, я расстелил на полу свою шинель неподалеку от печурки.
– Спать? Так рано? – заметил Беккер. – А ну, идите-ка сюда, молодой человек! Вы как будто писатель, как же вы можете спать в такую метель… Такая замечательная метель бывает раз в десять лет…
Я понял, чем это пахнет. Он собирался теперь «отомстить» мне и поделиться со мной своими фронтовыми воспоминаниями. Набравшись терпения, я уселся на скамью у окна.
– Ну, доктор, а теперь расскажите мне что-нибудь из своей фронтовой жизни, – сам предложил я, – я готов слушать вас хоть ночь напролет.
Беккер подсел ко мне и подмигнул своими маленькими глазками, в которых сверкал голубой огонек.
– Долго, собственно, я не стану вам рассказывать, – сказал он, – я передам вам лишь один эпизод из моего пребывания в Тихвине. Вспомнил я о нем потому, что в тот день была такая же вьюга, завывало и крутило точно так, как сегодня.
Вдруг кто-то постучал в окно. Разглядеть, кто стучит, было невозможно – стекла сильно запорошило снегом. Возможно, что это были проказы ветра. Но несколько секунд спустя послышался стук в дверь.
– Кто там? – крикнули мы в один голос.
– Простите, тут остановился доктор из Н-ской части? – раздался голос.
– Тут, тут, входите! – крикнул Беккер.
В избу, прихрамывая на правую ногу, вошел высокий человек, снял с головы заснеженную шапку и в нерешительности остановился на пороге, раздумывая, кто из нас двоих врач.
Беккер проворно вскочил и подошел к гостю.
– Я – врач, – сказал он.
– Простите, что я пришел так поздно, вы, верно, уже спали? – гость старался оправдаться. – Но наш госпиталь находится в восьми километрах отсюда, а рана у меня так разболелась, что просто нет терпения…
– Снимите валенок! – сказал Беккер тоном приказа.
Гость повиновался.
Беккер подправил огарок, что все еще продолжал играть с нами в дразнилки, вытер руки спиртом и, по обыкновению своему, хладнокровно обследовал рану.
– Н-да!.. – неопределенно проговорил он, осторожно смазывая рану йодом.
Желая скрыть, насколько сильно мучит его боль, гость отвернул от нас лицо; к тому же огарок продолжал меркнуть, так что мы вообще не успели как следует рассмотреть пациента. Теперь он уже все время сидел к нам спиной.
– Вы – местный? – завел с ним беседу доктор, чтобы заставить его хоть немного забыть про боль.
– Эвакуированный, – ответил гость, – из-под Жлобина я, из Белоруссии.
– А как звать вас, товарищ?
– Глебко, Василь Глебко.
– А где же вас так тяжело ранило, товарищ Глебко?
– У деревни Киричи, за Тихвином.
– За Тихвином? – переспросил Беккер и вдруг заволновался. Маленькие глазки под очками забегали, точно чего-то искали. Слово «Тихвин» вызвало у Беккера воспоминания об еще не умолкшей артиллерийской канонаде. – Тихвин, говорите? – еще раз переспросил он. – Ну, ну! Что же дальше?
Гость все еще сидел, отвернув от нас лицо.
– Когда меня, раненого, принесли в санчасть полка…
– Какого полка, не помните? – нетерпеливо перебил его Беккер.
– Почему не помню? – стал Глебко несколько разговорчивее. – Конечно, помню. Я служил в саперной роте. Мы шли минировать подступы к передовой, и пуля угодила мне в правую ногу. Я потерял сознание. Открыв глаза, увидел, что лежу на столе в крестьянской хате, а около меня стоит русоволосый доктор в очках. Помню даже, как он сказал мне: «Можете считать, товарищ, что вы нашли свою правую ногу». – «Что значит, нашел? – спросил я его. – Разве я ее потерял?..» После этого меня положили в машину, и так как в то время была сильная вьюга и ветер выл, точно как сегодня, а шинель моя была вся в крови и разодрана, доктор снял с себя собственный тулуп и укутал меня, как ребенка. И еще помню, что он вынул из своего ранца краюху белого хлеба и дал мне…
Беккер все еще возился с ногой Глебко, но я заметил, что руки у него начали дрожать. Я сразу все понял. Тут произошла встреча двух однополчан. Я не сдержался и вмешался в их беседу.
– Товарищ, – обратился я к Глебко, – вы бы теперь узнали этого врача?
– Конечно, узнал бы, – ответил он, все еще не поворачивая головы.
– Гляньте-ка, это ведь товарищ Беккер, – взял я на себя смелость сказать ему.
Глебко быстро поднялся, глянул на врача и воскликнул:
– Военный врач третьего ранга Беккер?
– Да, это я, – спокойно ответил доктор.
– Какая встреча! – взволнованно воскликнул Глебко. – Какая встреча! Доктор, вы должны сейчас пойти ко мне домой. Я хочу показать вас своей жене, да и мой сынок Гришка…
– Хорошо, хорошо, – ответил врач, – непременно. Завтра утром я загляну к вам.
– Нет, сейчас! Сейчас, доктор, пойдемте со мной, – и, не долго думая, Глебко подошел к вешалке, снял шинель Беккера и подал ему. – И ваш товарищ пусть тоже пойдет с нами, – указал он на меня.
Доктор взглядом спросил меня: «Ну, что вы скажете на это?» – и, уловив в моем взгляде готовность пойти, быстро натянул на себя тулуп и вышел наружу. Мы двинулись за ним.
Глебко вошел к себе возбужденный.
– Настя, вставай! Встань, Настя!
Настя протирала заспанные глаза.
– Вставай и готовь к столу! – весело крикнул Глебко. – Видишь этого человека, это он спас меня!
Он подбежал к печке.
– Гришка! – тормошил он там кого-то. – Слезай, Гришка, и посмотри, кто у нас!
Проворный мальчик спустил ноги с печи и, блуждая черными глазенками, глядел на нас так, будто мы ему приснились.
– Вот этот человек, – подвел Глебко Беккера сперва к жене, а потом к ребенку, – помните, я рассказывал вам, – вот это – он. Это он спас меня от смерти. Настя, покажи-ка тулуп!
Не дожидаясь, он сам подбежал к сундуку и вытащил оттуда овчинный тулуп с двумя пулевыми пробоинами в полах.
– Помните его, товарищ доктор? Это ведь ваш тулуп?
* * *
На заре мы возвратились с доктором в свою часть. Беккер был пьян – не столько от водки, которой угостила его Настя, сколько от воспоминаний. Тихвинский фронт стоял пред его глазами.
Днем мы снова шагали с нашей частью по глубокому снегу, сквозь вьюгу. Рядом со мной шел военный врач третьего ранга Михель Беккер и, не умолкая, рассказывал мне. Некоторые фразы относило ветром. Лишь отдельные слова, разрозненные, но близкие моему сердцу и чистые, как чувства Беккера, носились в воздухе, разрозненные слова, за которыми скрыты были дела, жертвы, беззаветная преданность советских людей:
– Тихвин…
– В Тихвине…
– Под Тихвином…
1943
Перевод С. Родова.










