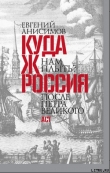Текст книги "Гром победы"
Автор книги: Фаина Гримберг
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц)
И, открыв для себя это чувство, она сначала попыталась искренне внушить это чувство и сестре Анне. Анна не вняла. Не спорила, но не вняла. Вот тогда и сделалось отдаление. Сёстры почувствовали разность своих судеб...
Анна размышляла, мысли уносились далеко. Всё приходил на ум, всё на мысли приходил тот неведомый юноша, тот, что наименовал себя Дмитрием, сыном царя Иоанна, якобы чудесно спасшимся... Или и был спасён чудесно?.. В польских, гишпанских и французских книгах писалось о нём едва ли не с восторгом... Кажется... он в чём-то походил на государя Петра!.. На её отца!.. И закрадывалась новая невольная мысль: ах, если бы её худенький, сероглазый, ах, если бы он хотя бы немного был таковым!.. Но эту мысль она гнала. Нет, нет, ничего не надо! Он ей мил и хорош таким, каков он есть. Вот таким, честным и прямым, и никакой такой широты, никаких замахов не надобно!..
А надобно помыслить о другом...
Последнее время женская фигура этой давней уже русской смуты не то чтобы привлекала Анну, но заставляла думать напряжённо... Мария Мнишек[12]12
Мария Мнишек! – Эту известную личность обычно называют Мариной, хотя во всех официальных документах она именуется Марной. Марина, Мариша – славянские производные от имени Мария, ничего общего е латинским Марина («морская») не имеют.
[Закрыть]! «Воровка Маринка» – как звалась в иных русских книгах... «Воровка»? Разве? Теперь-то Анна понимала. Мария Мнишек была венчанною супругой царя, венчанного торжественно на царство. И более того! Она сама была миропомазана, коронована. Она получила тем самым право на русский престол. Вот разгадка её упорной борьбы! Восемь дней пробыла царицей... Но ведь миропомазание, венчание на царство, ведь этого никто не может отменить! Вот почему... Боролась за то, что ей принадлежало по праву... Вот оно!.. Торжественно, по всем правилам и обычаям возложенный венец-? этого уже не отменишь!..
Мысли цесаревны летели вихрем... Она уже отчётливо сознавала, что иные, даже многие из её мыслей дурны в чём-то, кощунственны даже в отношении её отца и матери. Но теперь было ей не до стыдливости, не до угрызений совести...
Мать, её мать будет коронована... Как некогда Мария Мнишек!.. Будет помазана миром, получит права на престол российский, на императорский престол... Но отец, отец ведь оставил за собой право избрать наследника самому... Господи! Что может означать эта коронация? Для кого она? Для чего?..
Смутны слухи, будто государь желает таким образом как бы подчеркнуть законность своих дочерей, их права… потому и коронует их мать... Нет, Анна в этом не видит склада! Коронация делает мать, именно мать, преемницей супруга!.. Что же это? Что же это?..
Она знала, какая должна быть следующая её мысль. Мысль ворочалась где-то в глуби сознания, почти тупо. Но она знала: одно усилие, и не такое уж тяжкое усилие, и эта мысль выбьется на волю, прояснится. Она знала, почему подавляет эту мысль, не даёт этой мысли окончательно ожить...
Потому что это мысль о смерти отца!..
Но теперь она будет откровенна... ведь её собеседница – она сама!..
Если отец умрёт... и перед смертью назначит её, Анну, своей преемницей... Да, все присягали на том, что государев выбор оспорен не будет... Но прежде, ещё совсем недавно, ещё при Алексее Михайловиче, при деде, государь ещё при жизни своей означал будущего наследника... И ныне.., ежели... вот... отца нет, Анна – его преемница, и рядом, здесь же – императрица, коронованная, миропомазанная... Анна сжимала виски, резко проводила ладонью, пальцами по волосам неубранным...
Что же она? Подозревает родную мать? Но в чём, в чём? Мать не исполнит волю отца, не допустит её к престолу?..
Господи!..
Но что же это, что же?! Что она, Анна, делает с собою? Кто ей сказал, что отец означит наследницей именно её? И разве отец принял решение сделать её супругой герцога Голштинского? Разве отец принял хоть какое-то решение?..
А если отец и сам – в болезни, в смятении... и сам не знает... А мать? Мать, обещавшая помощь... Уютная, домашняя, с отцовым чулком на коленях... А сплетни о матери... Монс... любовник... Меншиков... И, быть может, эта домашность уютная – всего лишь мнимость? Но нет, нет, мать не опасна... Опасны те, что стоят за нею хищно!.. А коронация?..
И вдруг – озарением: всё сказать отцу! Она решится и скажет!..
* * *
Но как было исполнить своё решение?
Ведь она, возможная наследница престола, – на деле несвободное и зависимое лицо. Куда она может поехать, выехать из дворца? Одна?.. И ещё... Нет, ей не чудится. Ещё совсем недавно была она девочкой маленькой, ребёнком. В сущности, она мало кого интересовала, никого не занимали её поступки. Да и кого мог занимать какой-нибудь её детский пробег через материны покои? И теснившиеся в приёмной комнате сановники, едва поклонившись девочке-цесаревне, тотчас о ней забывали... Но теперь... Нет, ей не чудится. За ней следят, за её поступками, поездками, словами... Словами? За её словами?.. Тот уютный домашний разговор с матерью... Неужели мать проговорилась? Кому? Кому из них? Из тех, что окружают отца... Кому?.. Кто?.. Снова перетасовалась колода... Кто? Меншиков? Монс?..
Андрей Иванович Остерман – за неё. Но уверенности в нём у неё всё же нет. Это герцог верит ему... Поймала себя на том, что назвала худенького, сероглазого «герцогом», как прежде (а кажется, уже давно), когда он приехал в Россию, появился... Неужели она теперь меньше думает о нём? Разве она хочет, чтобы он был иным, не таким, каков он есть, а лучше? Разве она хочет? Нет, она любит его таким, каков он есть, он, её худенький, сероглазый... Разве престол ей дороже?.. Но нет, нет, нет!.. Она не желает себе власти ради власти. Она только... Она, кажется... Ей кажется, чудится, будто она поняла отца, Она хочет помочь отцу! Ведь есть нечто более важное, значимое, нежели она, её любовь, престол, власть... Это нечто – Российское государство, благо многих, неведомых ей людей!..
Но за ней следят. Мать проговорилась. Почему? Кому? Что она, мать, любит этого «кого-то», влюблена? Мать, столь отцом возлюбленная... Или тут другое? Что? О! Страх. Страх – вот оно! Мать боится. Её запугивают. И Анна знает, понимает, кто запугивает её мать. Монс! И ещё (а может быть, эта фигура поважнее) – Меншиков! Он знал мать совсем юной, он знает о ней, он способен запугать её. Но Анна будет действовать. Более не останется девочкой, терпеливо ожидающей чужих воздействий на свою судьбу. Нет! Не будет. Покончено с этим!
* * *
Присев на плотный ковёр-половик, изящная, беззаботная, в лёгком платьице холстинковом, голландского покроя, Анна завела назад обе тонкие руки, оперлась о пол и весело, тонко-звонко смеялась...
Маленькая сестрица Натальюшка удерживала слабыми ручками большую куклу, пёструю и растрёпанную, и, тоже смеясь, неловко бодала кукольной головой старшую сестру. Притворные попытки Анны уклониться ещё более смешили маленькую девочку. Неловко покачнувшись, Натальюшка с размаху уселась на ковёр. Громко пискнула. Две няньки бросились из соседнего покоя. Не ушиблась ли меньшая цесаревна? Протянули руки, хотели подхватить. Но девочка поднялась сама. Большой куклой отталкивала докучные руки... Анна склонилась вперёд, пальцы на колене, чуть приподнятом, сцепила...
Маленькая болезненная Наталья. А ведь тоже... возможная наследница подрастает...
– Играть! Играть! – Вырвавшись от нянек, Натальюшка ковыляла с куклой...
А ножки-то кривенькие, гусем, – бедняжка... Анна взяла из слабых ручек большую куклу, легко поднялась с ковра, распрямилась. Куклу подняла над головой.
– Высоко! Высоко! – вскрикивала маленькая...
В соседнем покое – голоса. Анна давно прислушивается. Нет, это меж собой толкуют Натальюшкины няньки. Анна продолжает свою игру с ребёнком и ждёт.
Внезапно приходит на мысль: а насколько искусно она скрывает своё напряжённое ожидание? Обо всём уговорено. И она ведь нарочно пришла сюда, в комнаты маленькой сестры. Здесь некому следить, наблюдать... Кому есть дело до её игры с маленькой? Вот если бы она прошла в покои государыни...
Но скоро ли? Неужели и сегодня не удастся?..
В комнатах самой младшей цесаревны – под стеклянным колпаком голландские часы – на корпусе деревянном сложил крылья медный петух. Стрелка точёная близится к римской цифири «XII». Вот сейчас обе стрелки, большая и малая, соединятся, сольются в одну... Соединились! Петух пробудился, к удовольствию ребёнка захлопал крыльями... Так... Значит, и сегодня не удалось.
Но в дверях появляется мадам д’Онуа, приседает...
– Конец игре покамест! – Аннушка кладёт куклу на ковёр. Девочка понимает, что её старшая сестрица намеревается уйти. Личико морщится... – Нет, нет. – Анна ласково унимает. – Ежели станешь кукситься сейчас, не приду более к тебе, навещать не стану, вместе играть не будем. Тебе за кушанье пора, а мне – за урок...
Анна скользнула к дверям. Няньки унимают ребёнка. В дверях Анна успевает обменяться несколькими французскими словами с мадам...
Итак, сегодня!..
Охваченная невольной приподнятостью, Анна спешит. Надо унять себя, надобно унять. Ведь она ещё не знает, чем завершится её затея. Разве она когда-нибудь говорила с ним вот так, серьёзно, с глазу на глаз? О, кажется, нет!..
Дворец невелик, но и в этой малости сыщутся, когда занадобится, потайные дверцы. Принцесса и её старая учительница скользят в одну из них. Глухая улочка. За угол... Карета ждёт...
И в то же самое время принцесс Анну и Лизету все, кому захочется, могут приметить в другой карете, в окрестностях Летнего сада, «царского огорода». Одетые в приметные по выходам прежним нарядные платья, прогуливаются принцессы в карете щегольской...
Невзрачный экипаж катит в сторону Петергофа...
Ах, быть может, и не следовало уговариваться с Маврушкой Шепелевой и Лизетой, быть может, оно лишнее, уговор такой, ребячество, озорство... чтобы Маврушка нарочно рядилась в её парадное платье... Может, совсем пустая мера... Кому нужно, тот всегда уследит. А, впрочем, нет, пусть, делу не во вред. И приятно думать, что и она, Анна, умеет думать и рассчитывать, как взрослые, опытные...
Первые зелёные деревья. Так хотелось высунуться из окошка, и чтобы лицо обвеял весенний ветерок, вдохнуть это ароматное, сладкое дыхание первых клейких листочков... Парк... холмистая земля... Дворец не охраняется. И она знает, что сейчас государь не в кабинете с красивыми резными панелями и с окном красивым, выходящим на свинцово-голубоватые волны. Нет, сейчас отец в мастерской, токарит со своим Андреем Нартовым подсвечники и шкатулки...
Анна, склонив головку, поднимается по ступенькам вслед за мадам д’Онуа. Всё же немного страшно. Грубоватые мужские голоса пугают её. А если ничего не получится? Если мадам д’Онуа чего-то не предусмотрела, не рассчитала?..
Анна вспомнила, как пришло понимание: надобно открыться. И как скоро она поняла, что всё открывать нельзя. Но что-то пришлось говорить Лизете, что-то – Маврушке. И вскоре сложилось так, что самым близким человеком, именно тем самым лицом, коему ведомо и открыто почти всё, сделалась для цесаревны её учительница и воспитательница мадам д’Онуа. Это мадам д’Онуа пообещала Анне уладить, устроить встречу с государем, с отцом. Надо было незаметно уйти из дворца, и чтобы имелась карета и отвезла бы в Петергоф, и, наконец, уже в Петергофе – самое важное – чтобы отец был один, и чтобы удалось говорить с ним...
Разговор с мадам д’Онуа был не один. Анна говорила с ней не раз, чего-то недоговаривая, сама не зная, что же возможно открыть и чего открывать не следует – покамест не следует или и вовсе никогда не следует... Вдруг накатывала такая потребность отчаянная на девочку, чтобы непременно иметь покровительницу, старшую, которая любила бы, понимала, помогала бы во всём и сама бы – опытным умом – придумывала, что предпринять и как поступить.. И мадам д’Онуа и сделалась таковой... почти... наподобие... Но Анна вовсе не намеревалась освободить себя от этих трудов обмысливания и действия, ей лишь надобно было дружеское плечо – опора... И когда во время беседы уже совсем серьёзной, советной, Анна сказала, что вмешивать в свои замыслы герцога она не хочет и тайных свиданий с ним не хочет... И глаза мадам д’Онуа выразили почтение. Так посмотрела на Анну, будто ценила и хвалила...
Герцог уже снова был в Петербурге. Анна видела его на приёмах дворцовых. Теперь, когда у неё явились свои замыслы, она ловила себя на том, что волнуется о герцоге, о своём худеньком, сероглазом, куда менее, нежели прежде. Уже казалось, что отношения с ним – это что-то решённое и даже и простое...
О свидании с отцом мадам д’Онуа сказала, что возможно устроить. Анна посмотрела на неё с любопытством, почувствовав её внезапную робость, напряжённость... будто мадам д’Онуа тоже хотела нечто доверить своей воспитаннице и несколько колебалась... И в то же время... да, хотела и потому ждала поощрения... Анна поощрила её, спросив:
– Каким же образом?.. – Вопрос вроде и ни о чём, предоставляющий возможность говорить о многом...
– Через одного моего друга, ваше высочество...
Конечно, мадам д’Онуа нарочно не стала договаривать. Предлагала Анне своим молчанием этим возможность задать ещё вопросы поощрительные...
Но молчание продлилось чуть дольше, нежели полагала старая дама. Само это слово «друг» («ami») и эта – чуть – скованность, с которой слово было произнесено, всё это тотчас сбило, смешало стройность Анниных мыслей... Она поняла, что такое «друг», и резким усилием воли сдержала это девчоночье изумление наивное, уже готовое выплеснуться в виде коротких возгласов-вопросов изумления: «Как? Вы?», и – самое глупое: «О, вам же столько лет!» Анна сдержалась. Не поднялись изумлённо бровки, не всплеснулись девически звонко вопросы. Но помыслилось больно о матери, об этой домашности, уютности, о матери, уютно-толстой, с отцовым чулком на коленях... А быть может, и нет предела женскому естеству и чувствам женским. И это одна лишь видимость – уютная толстая мать; старая, с набрякшими жилками на потемнелых тыльных сторонах ладоней мадам д’Онуа. Это они видятся такими. А на самом деле они вовсе и не слабые, не домашние, не строгие. Они... – как вакханки – -жрицы древнего бога вина Бахуса, на картинах в той французской книге о гобеленах... Они целуют и обнимают страстно своих амантов – любовников, и любовь для них важнее всего, важнее детей, важнее строгости и нравственности... Но так не должно быть! Вот госпожа Ламбер пишет... Анна верит писаниям госпожи Ламбер. Нет, нет, нет, на свете многое важнее плоти и чувств... Дела правления, верность, нравственность... Да, следует иметь твёрдые убеждения нравственности...
Анна заметила, что мадам д’Онуа уже начинает, должно быть, толковать по-своему её молчание.
А ей ведь нужна мадам д’Онуа, нужна как помощница, сочувственница, понимающая, почти любящая... Нельзя, чтобы мадам д’Онуа сомневалась, усомнилась в Анне... И далее уже и не было времени думать...
– Кто этот человек? – спросила Анна. – Вы полностью доверяетесь ему? В полной мере?
– Да, ваше высочество. – Мадам д’Онуа сделалась собранной, сдержанной. Речь не о её любовных делах шла, о деле государственном...
– Что ж, я доверяюсь вам. Начинайте действовать...
Анна отвернулась. Мадам д’Онуа помедлила. Ожидала повторения вопроса «кто он?». Определяла, рассказывать ли о нём... Но поняла, что принцесса даже и не ждёт сейчас никаких слов об этом человеке. И уже в своей комнате старая женщина подумала, почему девочка словно бы и не хотела ответа на свой же вопрос? Разве ей не было просто любопытно? И что же? Захотела показать своё безразличие ко всему, что не идёт непосредственно к делу? Или и вправду оно уже существует, её такое безразличие?..
Анна взошла по ступенькам. Мадам д’Онуа шла впереди. Дверь уже была отворена. Анне, когда вступила, почудилось было, что в передней много солдат в мундирах и шляпах, и все говорят грубыми голосами. Страх мятежа, передавшийся, должно быть, от отца, от его детского страха стрельцов, охватил на миг словно бы всё её существо. Но так же мгновенно справилась с собою, опомнилась... Их было всего лишь трое – отцовы дежурные денщики. И четвёртый – парик пудреный, буклями – уже кланялся низко, придворным поклоном. Почудилось Анне, будто она прежде видала его. Но она видала столь многих отцовых, государевых приближённых...
И уже шла следом за мадам д’Онуа. А мадам д’Онуа уверенно и даже и быстро поспешала за этим человеком. Анна так и не успела разглядеть его...
Анна бывала в Монплезире и сейчас поняла, что направляются они всё же в отцов кабинет. И вот она уже одна – спутники-провожатые отстали, их нет, будто растворились, растаяли в глуби смутной коридора...
Анна растворила дверь и тотчас подумала, что открывает дверь слишком широко и уверенно. А ведь она – незваная... Но было уже поздно.
* * *
Отец сидел за столом, и это было непривычно. Прежде она видывала его сидящим у голландской печи, или на лавке, на стуле, боком у стола. Но сейчас он сидел за столом, был в тёмном халате. Лицо виделось Анне большим, почти одутловатым, болезненным. Этот болезненный вид отца испугал её. Быть может, и не надобно говорить с ним. Разве его здравие не дороже ей всего на свете! Разве для государства не важнее всего это его здравие?..
И сделалось странно. Ведь столько дел, весь ход, весь лад большого государства, всё зависело от этого, большого и сильного, но уже такого измученного, болезненного человека, от одного человека!..
На широкой столешнице раскинуты были бумаги и стоял писчий прибор. Государь работал.
И едва слышный, но непредусмотренный скрип растворяемой двери заставил его вскинуть голову. Круглые тёмные глаза выразили почти неприязнь... Соотнеслись в сознании Анны с этими его встрёпанными – пряди вьющиеся – торчком, густо-седыми власами... Оробела на миг. Он сердитует. Она помешала ему...
Но ежели она сейчас испугается и уйдёт, тогда... тогда уже никогда!..
И она заставила себя. Сжала в кулачок волю...
– Я прошу прощения у государя за столь внезапное и необъявленное появление своё. Осмелилась лишь по неотложности и важности дела моего. Желала бы иметь с вами беседу...
Теперь она лишь чуть опускала глаза, чтобы не встречаться прямо с его взглядом, но видеть, видеть... Ощутила эту пронзительность его глаз... Он испытующе смотрел. Он понимал!
– Войди. Сядь, – рубил коротко.
Она вошла – скромность и достоинство. Села на обитый бархатом бордовым стул с высокой спинкой. Сидела перед государем.
– В чём твоё дело? – Покамест был краток и отчуждён.
– Желала бы говорить с вами о коронации государыни...
– Что тебе в этом?..
Перебил? Или она сама сделала неладную паузу и потому перебил?..
– Дозвольте мне говорить прямо...
– Дозволяю! Далее – что?..
Делался нетерпелив. Надо было говорить прямо, искренне, совсем прямо и совсем искренне...
– Государь! – И вдруг поднялась, чуть отодвинулась и стояла прямо, одною рукой опиралась о спинку стула – прямо. В простом платьице, чёрные волосы убраны просто. Но стояла горделиво и решительно... – Государь! Я молода. Я не радею о престоле и власти для себя, для удовлетворения собственных страстей и желаний, важных и значимых лишь для меня. Сейчас я мыслю о благе государства, на устроение коего тратили вы силы без счёту. Что будет с трудами вашими, когда не будет более – Вас?! Я не боюсь спрашивать, говорить, ибо радею не о себе. Выслушайте меня, молю вас1 Дело устроения государства, державы не может быть осилено, поднято одним человеком, даже если этот человек – вы! Вы, столь много сделавший, сотворите и самое важное сейчас – сделайте, создайте нечто такое, чтобы независимо от того, кто придёт к власти, государство оставалось бы в покое, возрастании и процветании... Я не знаю, что это должно быть, но по моему разумению – нечто вроде парламента, и при этом деление членов, составляющих его, на некоторые группы, противоборствующие друг с другом. И это мирное – будто на качелях – вперед-назад – противоборство – должно – я это чувствую! – дать государству устойчивость... Мой разум ещё молод, государь! Помогите мне, прошу вас!..
Прервалось дыхание. Замолкла.
– Такова... – глухо произнёс государь. – Такова...
Он будто не то чтобы не верил, но как бы опасался своего впечатления теперешнего, внезапного, о ней. Она молчала. Он заговорил снова:
– Думалось мне прежде, ты в тишайшую сестрицу мою удалась, в скромницу Федосью Алексеевну, а ты, выходит, в Софью пошла... – Взгляд его смягчился. Она успокаивалась. Но он спросил сухо и будто недоверчиво: – До коронации материной – что тебе?
– Государь! Полагаю себя вашей преемницею и помощницей. И ежели вы объявите об этом гласно... И, стало быть, может возникнуть прельщение и смута, ежели при объявленной наследнице явится и миропомазанная, коронованная императрица...
Он молчал тяжело. Пальцы обеих рук, тёмные, жёсткие, большие, легли на столешницу широкую, на бумаги деловые раскинутые...
– А ежели тебя, объявленную наследницу, помянут люди «выблядком», не в законе рождённою девкою, этого не опасаешься? Дочь – императрицы – не помянут попоено. Или боишься, мать предаст?!
Бешенство, злобная ирония задрожали в силе его голоса. Она ведь знала, как любит он мать. Нет, о матери – нельзя...
– Не боюсь, – выговорила.
– Так-то! Всё ли мне сказала?
– Нет, не всё. О герцоге Голштинском...
– Влюблена?
– Речь не о моих чувствах, но о благе Российского государства. Супруг мой не должен иметь права на российский трон. Но я должна иметь супруга и законных наследников...
– А не боишься? – Отец сделался лукав и силён. Болезненность ушла, отошла, исчезла. – Не боишься? Нудеть ведь станет, Шлезвиг просить... Ведаешь небось?
– Полагаю, удовлетворится сиею должностию супруга законной наследницы престола всероссийского, – отвечала сдержанно и с достоинством. – О Шлезвиге помыслим позднее. Всё в зависимости от сложения русских земель на Севере, Ваше величество.
– Книги читаешь? – вдруг спросил.
– Ныне читаю Боссюэ[13]13
Боссюэ Жан (1627 – 1707) – французский литератор и церковный деятель, автор книги «Рассуждения о всемирной истории», в которой проводит идею божественного происхождения абсолютной власти монарха.
[Закрыть], Ваше величество. «Всемирную историю» – «Histoire universelle».
– Андрею Иванычу накажу – будет учить тебя, что есть дипломатия и дела правления...
Наклонила голову...
Государь самолично проводил её до галереи. Там оказались мадам д’Онуа и неизвестный Айне. Поклонились. Государь воротился к себе. Неизвестный проводил цесаревну и её воспитательницу до кареты...
* * *
Возможно, что и трудно поверить, но сама идея системы, гарантирующей государственную стабильность, – живой парламент, двухпартийные качели Гладстона и Биконсфилда[14]14
...двухпартийные качели Гладстона а Биконсфилда... – Уильям Эварт Гладстон (1809 – 1898), лидер партии либералов, и Бенджамин Биконсфилд (1804 – 1881), лидер партии консерваторов, – выдающиеся английские политические деятели. Двухпартийный «баланс» – регулируемое законодательно соперничество двух партий – стабилизировал внутриполитическое положение в Англии.
[Закрыть] – всё то, что обрело настоящую жизнь лишь в Англии второй половины XIX века, сама идея зародилась в России Петра...
* * *
Вечером, отпустив горничных девушек, Анна велела позвать мадам.
Ночное платье, неяркий свет двух свечей – это настраивало на доверительную беседу.
– Тот, который проводил нас, ваш друг... Я не помню, где мне доводилось видать его... Кто он?
Мадам поняла, что на этот раз её воспитанница действительно желает знать, «кто он».
– Граф Саитий, Ваше высочество, Франц Матвеевич, обер-церемонийместер Его величества. Человек надёжный и верный...
– Приведите его, представьте мне...
* * *
...Граф при ближайшем рассмотрении оказался умеренно плотного сложения мужчиной лет сорока. Выражение лида его было мягкое и немного рассеянное. Лицо не было смуглым, но даже и не виделись, а скорее ощущались в этих чертах намёки на уроженца юга – легчайшая косинка глаз, губы, выпуклые чуть более обычного...
– Вы не француз... – произнесла девушка.
– Я родом из Пьемонта, Ваше высочество, Франческо Санти...
– Италия...
– Да, Ваше высочество...
– Я многое слыхала и читала о красоте итальянских городов... Хотелось бы мне увидеть... – Она замолчала, вспомнила неожиданно отчётливо, что не одною лишь красотой известны итальянские города, там, в Неаполе, в Венеции, скрывался брат Алексей... чего искал? на что надеялся? кто, в сущности, он был, её старший брат?..
– Великий государь Пётр Алексеевич пригласил меня от графа Гессен-Гомбургского в Россию, имея в виду цель составления гербов городов российских...
Анна сделала два мелких кивка черноволосой, гладко причёсанной головкой...
– Каких событий следует ожидать в ближайшем будущем? – спросила и чуть сощурилась.
– Коронации Её величества...
– Монс и князь Меншиков – неприятели мне? – проронила, будто с безразличием.
Он молча поклонился.
– Вы, Андрей Иванович Остерман и Бассевиц, посол Голштинского герцога... я верно называю?
– Да, Ваше высочество...
– Смогут ли воспрепятствовать?..
– Надобно пытаться... Будет зависеть от того, насколько ладят меж собою неприятели ваши...
– Я полагаюсь на вас...
Его поклон...
* * *
...Она сердилась на себя. Чутьё пробудившееся подсказывало: справиться с интригой Меншикова и Монса на самом-то деле не так трудно. Да, это было что-то очень простое, совсем простое. И сами они были грубы и просты. Но вот не давалось ей, никак не могла ухватить конец нити, чтобы размотать клубок...
Андрей Иванович стал приходить в её покои и учить её. Конечно, об этом говорили, все понимали, что это, и понимали, что с ведома государя... Стало быть, все понимали уже об Анне. С герцогом государь и государыня были любезны.
Анна сидела над утрехтским изданием «Истории Кромвеля» и над парижской «Историей Голландии»... Борьба Голландии с Испанией Габсбургов, парламент – генеральные штаты... Англия без короля[15]15
Борьба Голландии с Испанией Габсбургов... Англия без короля... – Нидерланды, бывшие колонией-провинцией Испанского королевства, управляемого династией Габсбургов, обрели в XVI в. после упорной борьбы независимость (о некоторых подробностях этой борьбы повествует Шарль де Костер в романе «Тиль Уленшпигель»), Английская буржуазная революция привела на плаху Карла I Стюарта, страной управлял лорд-протектор, известный Оливер Кромвель (1599 – 1658); после его смерти монархия была реставрирована, к власти пришёл сын казнённого короля, Карл II.
[Закрыть]... Какие бывают правители, когда нет королей? Кромвель и Вильгельм Оранский в Голландии... Но как могло, как должно было быть в Российском государстве?.. И что оно такое было – Российское государство? Кто были его насельники, его низы, его труженики и опора, фундамент? Как было узнать их? Что и как надобно было сделать?.. Здесь оказывалась полная, безответная темнота...
Герцог смотрел на неё на всех дворцовых приёмах, где мог увидать её. Она улыбалась рассеянно. Вдруг спохватывалась и тогда улыбалась уже осознанно. Теперь ей казалось, что возможно и не думать много о нём, он уже и так – её. А ничего ведь не было решено отцом. Но это другие так думали, а она знала, что решено – всё. Жизнь была интересной, острой и напряжённой; и герцог не был самым значимым слагаемым в этой её жизни. Ей приходило на мысль, что всё то женское, телесное, о чём она знала и что пробуждалось так странно и хаотически в ней самой ещё совсем недавно, всё то – вовсе и не так значимо... Или... она просто ещё не знает, насколько оно сильно, насколько оно уродливо сильно, телесное, плотское... Она улыбалась иронически, подумав о Санти и мадам д’Онуа; воспитательница была по меньшей мере двадцатью годами старее графа. Что же их связывает? Думала холодно, какие взаимные выгоды, какое ожидание взаимных выгод может связать? Поставили на неё? Не предадут? Некогда Франц Лефорт подобным образом поставил на юного Петра[16]16
...Франц Лефорт... поставил на юного Петра... – Франц Яковлевич Лефорт (1656 – 1699)' – старший сподвижник и друг Петра, оказал на него большое влияние. С 1675 р. служил в России в чине капитана при Фёдоре Алексеевиче и при Софье Алексеевне. Был послом России в Западной Европе, командовал флотом в Азовских походах.
[Закрыть]. Не предал. Но это ещё нужно уметь, нужно заслужить своими действиями, чтобы, раз поставив на тебя, после бы не предали, не отступились... Монс... И он ведь намного моложе матери... Нет, нет, этого нет!..
С Лизетой совсем перестала ссориться. Потому что ещё более отдалилась от меньшой сестры.
Герцогу казалось, что цесаревна как-то изменилась. Он не понимал. Он ведь и не знал её, не мог узнать. Уже все говорили о ней как о наследнице. С ним сделались при дворе почти подобострастны. Он уже знал, что она пользуется свободой. Он думал, что она могла бы устроить свидание. Теперь она могла бы. Если бы она захотела. Думал с какою-то саднящей обидой о том, что ведь он и не говорил с ней ни разу, ни разу не говорил серьёзно... Да нет, вовсе не говорил... Обращался к Берхгольцу и Бассевицу, пытался делиться своими печалями. Но эти только уверяли, что всё идёт к благополучию и что Её высочество ещё похорошела и возросла. Да, она сделалась совсем взрослая...
* * *
Вопрос о судьбе цесаревны Елизавет также, кажется, продвигался к своему решению. Толковали о портрете принцессы, отосланном в Париж, и о предварительных переговорах государя и французского посланника Кампредона. Но ясно было, что для Парижа, для французского короля предназначается именно Елизавет...
* * *
Коронационные хлопоты набирали силу. Отделка московских палат и петербургских дворцов, уборы, припасы, музыка... Несколько суровых публичных казней осуществлено было в Санкт-Петербурге, казнили государственных чиновников за взяточничество...
Анна поднимала глаза от «Истории Голландии» и думала устало о том, что всё это – пустое: внезапно обрушивающиеся наказания, гнев государя... Следовало так обустроить бытие державное, чтобы злоупотребления сделались невозможны; и невозможны вовсе не оттого, что люди будут запуганы страхом жестоких наказаний, а оттого, что в самом устройстве жизни будет некая устойчивость, и от этой устойчивости пропадёт само желание лихорадочное побольше и поскорее награбить, нахватать...
Но как же обустроить всё? Много ли на это времени? Возможно ли успокаивать себя самое своею молодостью – пока-де молода...
И отцу она покамест не скажет. Что она может покамест сказать ему? Высказать свои мечтания? Покамест это всего лишь мечтания.
Государь стал призывать её к себе для бесед. Более говорили о книгах. Она всё острее чувствовала, что отец и сам не ведает, что же делать, что делать всерьёз... Глаза его глядели сумрачно, но он улыбался вдруг, и улыбка ласкова была. Говорил доверительно о каких-то мелочах, как близкому, любимому человеку говорят... Вдруг вспоминал Голландию, «свою Голландию», как шагал высокий, выбрасывая длинные ноги, и всякий кафтан виделся на нём коротким, шагал по улице мощёной и ел сливы из горсти. «Русский плотник Питер...» Мальчишки увязались за ним, и он спросил: «Человечки, желаете слив, угощу!» Угостил, а они бежали за ним и швыряли, пуляли в него сливовыми косточками. И он уже сердился и кричал о «беспорядке в городе»... И сейчас он это ей рассказывал, и в глазах его проблескивала некая искательность, в их тёмной округлой глуби; он будто хотел сказать: видишь, я также не ведаю, что делать, но я тебя люблю, говорю с тобою дружески, я отец тебе... Возможно, в другое время эта ласковая дружественность умилила бы её бесконечно, однако ныне было недостаточно этой ласковой дружественности. И вовсе – не до ласковости отцовой и дочерней было. И он понимал её уныние, просил не унывать. А она понимала, что не следует показывать своё уныние слишком сильно, подобная навязчивость может лишь раздражить его...
Коронация приближалась... 7 мая 1724 года...
В старой столице, в Москве, где венчались на царство – от грозного великого князя Ивана Васильевича – уже несколько поколений русских царей.
Торжества порождали иллюзию некоего остановления государственной жизни.