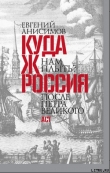Текст книги "Гром победы"
Автор книги: Фаина Гримберг
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц)
Отец сидел, положив ногу на ногу, возле печи изразцовой голландской – башенка из гладких плиток. В стенной нише дымился кофейник. Поблескивающие пуговки на голландском платье отца были расстёгнуты. Он курил тонкую длинную трубку, и глаза его были очень тёмные, большие и круглые. Подавали отцу пироги с морковью, русская пища была ему вкуснее всего...
Отец вёл бесконечные войны – годами, десятилетиями. Священная Римская империя, Швеция, союзы с немецкими герцогствами. Так ширился Северный союз – Россия, Дания, Речь Посполитая, Саксония, Ганновер, Пруссия, Мекленбург... Бесконечно делились и завоёвывались и вновь передавались по договорам клочки северных земель... Надо было России закрепиться на Севере...
Отец храбрый был. В июле, в 1714 году ей было только шесть лет, сестрице Лизете – пять. Явилась весть о победе при Гангуте. Но за несколько дней до решающего сражения, когда русские корабли двигались между Гельсингфорсом и Аландсними островами, сделалась ночью страшная буря. Исчез берег в тёмном рёве холодных волн. Путь был потерян. С несколькими матросами бросился отец в шлюпку, и крепкие его руки охватили руль. Офицеры пытались удержать его, умоляли его не подвергать себя такой опасности. Но он ободрял гребцов зычным криком:
– Чего боитесь? Царя везёте! С нами Бог!..
Шлюпка благополучно пристала к берегу. Собственными руками царь развёл огонь, чтобы эскадра видела, где берег. Вместе с гребцами пил горячее питьё, а после завернулся в парусину и уснул у костра под деревом... Не боялся ничего...
* * *
Отец матери, Аннушкиной матери, был незнатный землевладелец, лифляндец, тоже с Севера. Но вовсе она не была безродной, как пытались о ней злонамеренно толковать. И – как велось и при царицах прежних – двор наводнили её родичи: пошли Скавронские, Тендряковы, Шепелевы. Но времена были иные, и заправлять государственными делами не дано было царицыному родству, и все они принуждены были знать своё место...
Денег всегда была нехватка. Когда приехала Катерина Алексеевна в Эльбинг, к Матрёне Балк, прощённой сестре прежде любимой Анны Монс, Пётр отписал Фёдору Балку: «Отпустил я жену свою в Эльбинг, к вам, и что ей понадобится денег на покупку какой мелочи, дайте из собранных у вас денег...»
И – снова, снова, снова – тасовались пёстрыми картинками придворной колоды – в глазах Аннушки – Ягужинский, Остерман, Матвеев... Живые и умершие... И даже о Лефорте, первом отцовом друге, она слышала так много, что он, умерший до её рождения, уже начинал казаться ей и до сих пор живым и таким же, как все в её глазах, в кафтане узорном, со звёздчатыми орденами, с круглым толстым лицом и в локонном парике...
Отец бывал чаще всего в поездках и походах военных. К семье он лишь наезжал. Но и мать не дожидалась его, сидючи у косящата окна, – сбиралась и следовала за супругом, пренебрегая опасностями неудобных путей. Перевозили с места на место и Аннушку, и спутницу её детства, младшую сестрицу-погодка Лизету. Чаще всего возили то из Москвы в Петербург, то из Петербурга в Москву. В комнатах дворцовых вольнее всего царствовали сырость и сквозняки. Потолки бывали низкие, порою сводчатые. Муравленые голландские печи – изразцами-плиточками – притягивали ребёнка, хотелось трогать пальчиками и разглядывать. За ширмами поставлено было судно – стульчак бархатом обит. Её, маленькую, вели за ширмы, снимали юбочку, жёсткие руки прислуги помогали спускать полотняные штанишки...
Петербург отец строил. Вдруг ей казалось: отец и вправду сам строит, и в руке у него лопата... Двенадцать лет возводили Петропавловскую крепость – ворота, башни, укрепления... Малые дворцы отец построил в Петербурге – зимний и летний. О приездах отца не всегда заранее знали. Ей минуло восемь лет. Сначала прибыли подарки от отца – матери. «Материю по жёлтой земле да кольцо посылаю», – писал он. И не забывал Аннушку: «А маленькой – материю полосатую, носите на здоровье!» Аннушка думала: вот объявят о приезде отца. Но всё не объявляли. И мать ничего не говорила.
В час пополудни Аннушка и Лизета сидели под надзором мадам д’Онуа в комнате с китайскими обоями и поочерёдно читали вслух письма госпожи Ламбер. Покамест звучал голос Лизеты, Аннушка сидела опершись локотками о твёрдую столешницу, разглядывала шёлковый стенной ковёр. По шёлку переплетались грибы, солнца, лентовидные облака, драконы и сказочные птицы; причудные человечки замерли в странной суете... Этот ковёр прислан был отцу в подарок императором китайским... Обои привёз из Китая капитан Измайлов – вместе с разновидными лакированными шкатулками, полдюжиной «кругом залакированных» деревянных кресел... А были здесь и столы, и курительные трубки, богатые китайские материи, большой запас табаку и чаю... Но обои, которыми было приказано обить стены в комнатах Аннушки, чрезвычайно были хороши... Она отводила глаза от ковра, и взгляд мягко утопал в нежном отблескивании – «по пунцовой земле травы разных шелков с цветами и птицами».
Отец вошёл неожиданно, один. Высокий, колыхнулась в шагу пола простого нанкового халата, открыла чулок штопаный... Большие стоптанные башмаки... Аннушка видывала, как мать штопала отцу чулки самолично.
Аннушка поднялась из-за стола с выражением личика серьёзным. Но ручки не опустила, присогнутые розовые пальчики замерли на столешнице. Бойкая Лизета улыбнулась отцу. Государь спросил, какова книга. Мадам д’Онуа, смутившись, снова присела перед государем в поклоне и собиралась ответить. Но Лизета упредила её ответ и отвечала сама:
– Нравоучительная книга, батюшка! Французское сочинение госпожи Ламбер, как надлежит девицам быть разумными и учёными разным наукам...
Аннушка внезапно уловила пристальный взгляд отца на Лизету и на неё самое, на Аннушку. Обычно отец поглядывал на них по-доброму и чуть смешливо, и потому – виделось – снисходительно. Но сейчас его взгляд сделался пристальным, испытующим... Она испугалась и поспешила опустить голову. И уже чуть досадовала на Лизетку, которая смотрела храбро и весело... Лизетка не опасалась; по всему было видать, вовсе не опасалась показаться неумной. Но Аннушке почему-то показалось, что если отец сейчас Лизетку сочтёт неумною, то и её, Аннушку, таковою сочтёт. И какую горячую – до румянца, хлынувшего на щёки, – горячую какую благодарность ощутила к отцу, когда он серьёзно произнёс:
– Пусть Анна страницу прочтёт и русским языком переложит...
Чтение не было незнакомое. Не садясь, девочка подняла книгу поближе к глазам. Стала читать, неожиданно слыша свой голос очень громким. Собственный голос едва ли не оглушал её. Читала и всполошённо помнила, что главное испытание впереди – надо будет переводить прочитанное на русский язык. Читаемое знакомо было ей, переводила прежде. Но ведь не при отце!
Однако справилась. По-русски проговорила ясно, отчётливо. Даже сделалась довольна собою, потому что перевод вышел складный.
Закончила и опустила книгу, не поднимая глаз на отца. Но почувствовала, что и он доволен и тронут. Это последнее – умиление отца ими, детьми, – всегда бывало ей интересно и странно ощущать.
– Счастливы вы, дети, – сказал государь, – в молодых летах приучают вас к чтению полезных книг! В своей юности я был лишён и дельных книг, и добрых наставников...
Голос его зазвучал искренним волнением...
Эти поучительные сочинения госпожи Ламбер остались любимым Анниным чтением. Анна чувствовала, подрастая, как сдерживают, накладывают узду на её страстную натуру наставления учёной французской дамы. Лизета ничего подобного не воспринимала, с малолетства вертелась около прислужниц, вбегала, будто нечаянно, в комнату к «девкам» – фрейлинам царицы. Более всего занимали её бескрайние женские разговоры о наслаждениях, превратностях, интригах, а порою и страшных, печальных последствиях любви. Но чем более возрастала Елизавет, тем более занимали её именно наслаждения любви...
Но обе сестры были ещё совсем дети, «маленькие» – как звал отец. Паркетинки поскрипывали под башмачками. Вскидывались тонкие, детски худощавые ручки и топырились на спинках крылышки золочёные – знак невинности детской – непременная принадлежность костюма принцесс... И было дозволено, и они – наперегонки – вбегали в комнатку отца, где печь-голландка и кофейник в нише, и отец, положив ногу на ногу, дымит своей тонкой трубкой. И вскакивали с громким лаем – детям навстречу – любимые собаки отца – Тиран и Лизета...
* * *
Они были царевнами, и отец любил их. Но что он думал о них? Ещё совсем недавно Анне и в мысль бы такое не вступило – будто отец вдруг сделает её наследницей!
Когда они родились, мать их ещё не была «Екатериной Алексеевной», но писалось о ней как о «госпоже Кох», «Марте Скавронской» или «Катерине Василевской». Так говорили. И, должно быть, так оно и было на деле. И маленькие девочки не были ни царевнами, ни княжнами. Они были незаконнорождёнными детьми, хотя и самого государя. Он посылал им и их матери подарки; тревожась о своей возможной гибели в походе военном, он наказал Меншикову передать в случае подобной гибели Изрядную сумму денег Катерине Василевской и её девочкам – на обеспечение. Но в конце концов он дал слово, обещание – «пароль» – и обвенчался с их матерью. Тогда и они сделались законными детьми, были, как говорилось, «привенчаны». Их поименовали царевнами, нарядно одевали, учили, выводили на празднества. Но в календаре, где показывались именинные дни высочайших особ, не поминалось об Анне и Елизавет; поминался – до смерти своей – царевич Алексей Петрович, поминались его дети от супруги его, Софии-Шарлотты Бланкенбургской, – малые Пётр и Наталья, внуки государя; поминался наконец рождённый в законном браке царевич Пётр Петрович, сын государя и Екатерины Алексеевны. Дочери не поминались...
Мог ли он сомневаться в том, что это были его дети, его дочери? Высказывал ли он подобные сомнения вслух? Меншикову она писала, что дети малые тоскуют по нянюшке. А нянюшка была от Меншикова, и он её увёз. И Катерина Алексеевна просила Меншикова, «милость вашу», «ежели нет нужды» в сей нянюшке, пожаловать её прислать назад. И о девочках не иначе как: «Маленькие Аннушка и Елизавета вашей милости кланяются». И Меншиков писывал к ней – от «Катерины Алексеевны» до «всемилостивейшей государыни царицы»...
Но ужели государь мог полагать, что она изменяет... И ужели Меншиков мог... зная, что есть гнев государев!.. Нет, нет, это не было возможно!..
Этот мир страстей, то и дело приоткрывавшийся перед ней, являвший своё лицо, наводил на Аннушку испуг. Она чувствовала, что это – сила, и себя чувствовала перед этой силой слабою...
А Лизета не думала... Или давала вид, будто не думает?..
Ещё не так уж и давно – при дедушке Алексее Михайловиче – отец не мог бы даже и «привенчать» их... «...А у кого будут прижиты дети от наложниц, от вдов или от девок, а после того на тех своих наложницах поженятся, или неженаты помрут, а после их смерти останутся дети, которые прижиты по закону, а другие дети выблядки, или после смерти их останутся одни те выблядки; и по их смерти даются поместья, и вотчины и животы сыновьям их и дочерям, тем, которые по закону прижиты; а которые прижиты до закону, и тем поместий и вотчин, и животов никаких не делят и не дают ничего, и честными людьми тех выблядков не ставят, чей бы ни был...»
И Аннушка, и Елизавет и были те самые, грубым словом «выблядки» называемые. И позднее венчание родителей не покрывало позора, и ничего таким детям не полагалось, даже честного имени... И об этом их отец помнил, не мог не помнить. Они уже не были бесправными, и о браке с ними могли помышлять иностранные князья... Но российский престол!.. Которой-нибудь из них – российский, императорский уже – престол?! Ох, не сразу помыслилось о таком!..
Отец же, их узаконив, тотчас подумал и о подданных своих, как свойственно было ему думать; повелел устроить воспитательный дом при богадельне с указанием, что любого звания женщина может принести туда младенца для вскармливания и воспитания и сей принос останется в тайне.
Было такое в натуре отца, он взглядывал своим орлиным взором, и вдруг оказывалось, что там, где для прочих – болото тягучее неразрешимых вопросов, для него – нет и тени чего-то такого, из-за чего бы стоило голову ломать. Сказывали, при одном заезде в деревню некую государь подметил девицу, над коею прочие девицы смеялись. Девица была матерью незаконного ребёнка, оттого и подвергалась осмеянию. Тотчас сказал государь, что деяние подобное вовсе недостойно смеха, и велел принести мальчика и похвалил его здоровье и наказал иметь о нём попечение... «Я о нём спрошу при случае», – сказал.
Вот таков был отец.
Но было у него наследников и без Анны и Елизавет, даже после смерти сына Алексея; оставались, оставались ведь – и долгожданный Петрушенька, сын от любимой Катеринушки, и внук Петруша, дитя отменно здоровое, крепкое...
Детей покойного брата Алексея видывала Аннушка не столь часто. Лизетка сказывала раз, что матушка Катерина Алексеевна вовсе не жалует этих сироток, подраставших без отца-матери. Аннушка прихмурилась, не любила слышать дурного о своих родителях. Лизетка глядела, как сестрица отвернулась, и заметила, в усмешке скрывая горячность:
– Да что же тут дурного, скажи ты на милость?! За что матушке любить их? Пётр и Наталья – дети царевича опального, сами...
– Батюшка опалу на родных внучат не налагал, – тихо перебила Анна.
– Да кто же внука подпустит к трону, когда у нас братец родной, отцов сын, Петрушенька!..
Гневные слова готовы были сорваться с уст, но Аннушка сжимала губы. Лучше и самой такого не молвить! А как хотелось ответить сестре гневно: «Да что же ты! Да о каком троне?! Батюшка будет жить и здравствовать...» Но сама тогда боялась даже и помыслить о том, что отца не станет... когда-нибудь... Это уже после она...
После стала думать и о престоле, и о том, что с отцом что-то может случиться... Отец может умереть! Он всё хворает... Тогда уж и племянник малый Пётр Алексеевич стал мыслиться как помеха.
Ровесники вышли младший сын и внук Петра Великого – Пётр Петрович и Пётр Алексеевич. В маленьком Петре Петровиче родители души не чаяли, не слышали. «Шишенькой» звали его ласково. А Екатерина Алексеевна в письмах к супругу звала сыночка, величала «санктпетербургским хозяином».
Аннушке семь лет минуло, когда явился у отца и матушки долгожданный сын. Куколок нарядных нюрнбергских она тогда вовсе позабыла. Маленький мальчик, живая куколка, занял её чувства. Только о том и были мысли: подбежать в комнату, где няньки с младенцем и кормилица, глядеть на него, улучить мгновение и жадно тронуть маленькую пухлую ножку или ручку, уловить улыбку, поцеловать пяточку...
Но убежать из своих комнат не так-то просто было. Шаг ступишь – и тотчас кинутся – Авдотья да Катерина, Дарья Иванова, да Софья Степанова, да Марья Шепелева – комнатная царевнина прислуга – зачем да куда... Но и Аннушка – тиха-тиха, а не проста. С карликами сговорится, с Устиньей Никитиной да с Фролом Сидоровым, они ей втихомолку укажут, когда путь свободен.
Через материны покои бежишь – лучше всего к вечеру. Днём беспременно на любимую материну горничную, камер-фрау Ягану Петрову натолкнёшься.
Ежели государь в отлучке, царица допоздна не спит. Две свечи оплывают в серебряных подсвечниках. Катерина Алексевна сидит в штофных креслах в ночном платье спальном, волосы на ночь ко сну разобраны. Но царица не изволит почивать, ей неладно без государя. При ней сидят Ягана Петрова, Настасья Петровна Голицына, Анисья Кирилловна Толстая. Нет-нет, а и примутся носами клевать.
– Тётушка Кирилловна, дремлешь? – Царица встрепенётся.
– Нет, не дремлю, я на туфли гляжу, – отвечает сметливая Кирилловна.
И становится за креслами.
А Марья-постельница ходит с постелею по палате спальной и всех царицыных прислужниц бранит спроста...
Тишком прокрадётся Аннушка к братцу. Но одно худо – к вечеру он уж спит. То ли дело днём вырвешься. Шишенька потешный такой. Ползает по мягкому ковру, Аннушке ручки протягивает с усмешечкой. В ротике пальчиками щупает – зубки у него режутся. А чуть подрастать стал – отец и матушка ему игрушки – пушечки да солдатиков оловянных и деревянных. Скажешь ему в шуточку:
– Уехал твой папа, нет его, уехал! – морщится парнишечка. Но стоит объявить во весь голос, что папа здесь, и мальчик уж смеётся и глядит на дверь с ожиданием весёлым...
Но Господь не судил Шишеньке пожить. Хворал частенько – то глазок, то брюшко. И всего-то прожил четыре годочка. Аннушке уж одиннадцать лет было, когда скончался братец. Она тогда запомнила горе отца с матерью, и сама плакала. Но что может эта смерть младенческая значить в будущем для неё, тогда не подумала...
* * *
Мадам д’Онуа привезена отцом из Парижа. Она известная была воспитательница господских дочерей. В Россию приехала она, прельстившись обещанием большой платы. Да и быть воспитательницей принцесс... Прежде ей не доводилось воспитывать принцесс... Но к Аннушке мадам д’Онуа привязалась искренне и уж во всю жизнь не покидала свою питомицу.
В часы учения и досуга мадам д’Онуа неутомимо расширяла мир Аннушки, и не одними лишь нравоучительными сочинениями госпожи Ламбер. Она выучила царевну изящному французскому рукоделью – вязать кружева – «филе». Прежние царевны шили и вышивали золотыми и серебряными нитями – в церкви по обещанию – покровы церковные – пелены и воздухи. Иконописцы делали прориси – как по канону надобно. И такие искусницы бывали среди царевен. Вот хоть Ксения, несчастная дочь царя Бориса Годунова. Но это давнее. А из того, что ближе, – Федосья Алексеевна недурно вышивала, да и сама знаменитая Софья... Но ныне этот обычай оставлен. Не просиживают ныне царевны день-деньской за пяльцами, не выходят из-под их рук священные картины. И жаль! Но чего нет, того уж нет. Ушло вместе с прежним укладом. А от царицы Катерины Алексеевны ничего подобного не дождёшься, не училась ничему такому. Вот чулки да халат государю заштопать... Но мадам д’Онуа полагает, что не этими простыми делами должны быть заняты пальчики царевен. И выучила их вязать кружева. Спицы ловко и легко движутся в её руках, уже старчески набрякших. Она сидит, худенькая – в чёрном – вдова, выпрямив спинку узкую; чепец, отделанный кружевом, держится изящно на маленькой головке. И вдруг вполголоса запоёт:
Мадам д’Онуа поёт не так, как девушки-песенницы из прислуги, не так, как Акулина, лучшая царицына песенница и гудошница. Голоса-то у мадам д’Онуа и вовсе нет (а у песенниц-то какие славные голоса!). Но мадам д’Онуа берёт не голосом, а таким мягким напевным говорком мурлычущим... И никогда не допевает эту свою всегдашнюю песенку до конца.
– Что же с ними было? – спрашивает Аннушка. – С Мартон и с этим рыцарем?
– О! Ничего не было, ваше высочество, ровным счётом ничего...
– Но что он ей сказал?
– Возможно: «Возьмите моё сердце...» – Мадам прилежно вертит спицами.
– А что она ответила?
Это уже привычная игра, и вопросы и ответы одинакие.
– Что ответила? «Слишком много чести для меня», – она ему ответила...
– Потом они поженились?
– Гм! Да, я полагаю, да!..
Но и Лизетка, когда Аннушка рассказывает ей историю (почти сама придумала) прекрасной Мартон и рыцаря, только улыбается насмешливо, будто уже (а младшая!) ведает то, что Аннушке неведомо. Но, право же, это вовсе и не так, не так! И всё, что ведомо Лизетке, ведомо и Аннушке. Только Аннушка не хочет обо всём об этом думать – вот и всё!..
А мадам д’Онуа рассказывает историю своей жизни. И жизнь мадам д’Онуа похожа на книги госпожи Ламбер, но интереснее.
Мадемуазель де Б., матушка мадам д’Онуа, славилась своей красотой и умом. О, прекрасная Маргарит де Б. отвергла самых блестящих женихов для того, чтобы посвятить свой ум и талант занятиям изящной словесностью. Она писала стихи, романы и сказки. Да. Её сравнивали с прославленной мадемуазель де Скюдери[4]4
...мадемаузель де Скюдери... – Мадлен де Скюдери (1607 – 1701) – французская писательница, автор галантных, историко-приключенческих романов, держательница литературного салона «Голубой салон».
[Закрыть], которая, в свою очередь, являлась украшением двора самого Людовика XIV, прозванного «король-Солнце». Да. И как раз в это время престарелый и больной Скаррон[5]5
Престарелый и больной Скаррон... – Скаррон (1610 – 1660) – французский литератор, известный своим «Комическим романом»; жена его, Франсуаза Пибрак (мадам де Ментенон), была одной из фавориток Людовика XIV.
[Закрыть] – острый ум, и в писаниях – такие лёгкость и остроумие и глубокий смысл... Престарелый и больной Скаррон женился на юной сироте, на некоей Франсуазе Пибрак. Увы! Она нисколько не была благодарна ему. Она так... так пренебрегала им. Её раздражало общество больного... Впоследствии она сделалась мадам де Ментенон, король весьма ценил её... Что же касается Скаррона и Маргарит... У них было много общих тем для взаимных бесед… Но, увы, он скончался, так и не успев обеспечить их единственную дочь Мадлен... Мадам д’Онуа указывала на себя кончиком спицы...
Бедняжка Мадлен! Ей пришлось так много страдать... Она просила милостыню, да. Однажды она, робея, приблизилась к богато отделанной карете знатной дамы. Это оказалась мадемуазель де Дусин, её двоюродная тётка... Мадемуазель де Дусин была растрогана, ваше высочество. Она дала сиротке прекрасное воспитание и образование... Мадам д’Онуа замолкала совсем ненадолго и как-то незаметно переходила к истории прекрасного господина д’Онуа, такого красивого и доброго. Жестокие родители не позволяли ему связать свою судьбу с прелестной юной Мадлен...
– И вот однажды мы сидели в одной маленькой гостинице, поздно вечером, ужин был весьма скромный... Свеча стояла как раз между нашими лицами. Он пребывал в самом весёлом настроении. Но я была печальна. Я предчувствовала!.. И моя грусть передалась ему. Томимая предчувствиями, я смотрела на него так нежно и сострадательно. Он взирал на меня с неотступным вниманием. Внезапно слёзы потекли из моих глаз... Я никогда не позабуду, как он вскричал:
– О Боже! Дорогая Мадлен! Вы плачете! И вы молчите! Вы расстроены до слёз и ничего не можете мне сказать о своих горестях...
И, скрывая тревогу, я отвечала ему лишь вздохом. Он же встал с места, трепеща, и заклинал меня всем рвением своей любви открыть ему причину моих слёз. Он отирал мои слёзы и плакал сам, он был в отчаянии. О, даже варвар был бы тронут искренностью нашей скорби!..
И вдруг на лестнице раздались шаги и в дверь легонько постучали. Он... он внезапным и быстрым поцелуем коснулся моей щеки... И вдруг скользнул в спальню и запер за собой дверь... Я не понимала... я ничего не в силах была понять!.. Дверь отворилась – на пороге стояли незнакомые мне слуги в ливреях...
– Это были... это были!.. – взволнованно недоговаривала Аннушка... Всякий раз было так сладко слушать эту историю, в которой любовь была так нежна, глубока и красива, несмотря на предательство...
– Да, ваше высочество, это явились лакеи старого господина д’Онуа. Они спросили меня о моём друге. Трепеща, я молчала. Они увидели, что дверь в спальню заперта. И они подошли к этой двери. Один из них начал стучать. В ответ – молчание.
– Мы знаем, господин, вы здесь! – крикнул лакей. – Для вас лучше добровольно выйти к нам!..
И он... он принуждён был выйти... Он не мог допустить, чтобы я оставалась с ними и не знала, что предпринять...
– И они увели его?
– Да, ваше высочество, невзирая на наши взаимные слёзы. Его страдания были неимоверны!..
– И он...
– Меня доставили в дом тётушки де Дусин, и она поместила меня в монастырь. Она желала, чтобы там я довершила своё образование. Он же... он никак не мог увидеть меня. Устав монастыря был крайне строг. Он даже не мог передать мне письмо! И он... он отправился, терзаемый горем, на поля сражений и погиб там!..
И после паузы, откинувшись на спинку стула, и глаза её были полны слёз, мадам д’Онуа рассказывала, как все признали её «вдовой этого прекрасного человека». И, завершив своё образование, она осталась в бедности, «поскольку тётушка де Дусин завещала всё своё состояние монастырю», тому самому... И тогда мадам д’Онуа сделалась воспитательницей девочек «в домах состоятельных и приличных». И она занималась этим почтенным занятием до тех пор, «покамест государь, ваш отец»…
Эти рассказы мадам д’Онуа о её жизни вовсе не были похожи на какую бы то ни было действительную жизнь. Но походили на сказки из французских книг. В этих сказках галантные принцы и принцессы так изящно беседовали о любви!..
И было непонятно, зачем Лизетка так жадно тянется к фрейлинам и подслушивать разговоры прислуги... И что только она находит в этой грубости жизни? Но вдруг и на Аннушку находило, и сама она с охотой слушала Лизетку. Всё же они были близки. Но Аннушка, возрастая, делалась скрытна. Лизета же была – душа нараспашку...
– Сестрица искренняя и открытая, – говаривала Аннушка, обращаясь к мадам д’Онуа. – Не скрытная, как я...
– Человек не всегда есть то, чем кажется, – произносила мадам уклончиво. Спицы взлётывали над кружевом...
И что могли значить эти слова? Что сестрица Лизета – не такая искренняя и открытая? Или что Аннушка не столь скрытная? Или ещё что-то третье?..
В окне стлались туманом утра нового города. Город строился, обретал приметы во времени и пространстве. Строилась крепость, возводились всё новые здания... Но не взмыл ещё кораблик на шпиле Адмиралтейства, не взлетел ещё над Петропавловской ангел, сработанный Никола Пино...
Известно было, что государь (уже император) любит простоту. Но блеск французского двора пленял. Знатные дворяне являлись на ассамблеи в кафтанах французских ярких, различных цветов. Тогда лица затмевались кафтанами – атласными, объяринными, гродетуровыми и бархатными, шитыми шелками, блестками, серебром и золотом. Чулки были шёлковые. Пудра и парики очень всех красили, дамы и девицы румянились, скрывая зелень и желтоватость любого нездоровья под изяществом румян. Впрочем, румяниться и белиться – это было старинно по-русски... Однако Аннушка лишь чуть пудрила щёчки – прикрыть природную смугловатость. А Лизете и этого не надо было, её белизна чуть не в пословицу вошла. Но когда стали являться в свете, с утра обе немного румянились, к вечеру – побольше румянились. Обычай сурмить девицам брови уж выводился. Но и брови были хороши у сестриц – в мать-отца...
Явилось среди высшего дворянства – ходить в башмаках с красными каблуками. И это была французская мода и означала знатное, благородное происхождение... Но всё же остерегались при государе особо рядиться в дорогие платья. Не умели угадывать его настроение. Он мог ничего и не заметить, мог заметить и посмеяться, мог раздражиться до крайности... Никто не понимал его в полной мере, даже самые ближние сподвижники – «птенцы гнезда»... А от жены и дочерей он ждал всё того же самого простого понимания, выраженного добрым словом, ласковым взглядом, весёлой шуткой вовремя...
Она усаживалась за свой кабинетный столик и раскрывала большую – красный сафьян переплёта, тиснёная золотая рамка, французский королевский герб – красивую, с красивыми картинами книгу Андрэ Фелибьена, поднесённую отцу в Париже, – «Королевские шпалеры[6]6
Шпалеры – большие настенные гобелены (безворсовые ковры).
[Закрыть], изображающие четыре стихии и четыре времени года». Красавица книга была ещё времени царствования короля-Солнца... Она листала плотные гладкие страницы. Приручённые стихии, весна, зима, лето, осень, выраженные аллегорическими фигурами, раскрывались ей в изящных красках. За окнами туманился Петербург, краснелись зори Москвы... Ширилось русское бытие – в борьбе – монгольского, византийского, европейского западного. Не в победе, а именно в борьбе. В этом рождении новом и новом, в этом зарождении нового от смешения всех разом противоположностей...
* * *
Кронпринцессу Шарлотту, жену старшего брата, Алексея Петровича, Аннушка не запомнила вовсе. Даже для того, чтобы вслушиваться в разные толки и слухи, она и Лизета были ещё слишком малы, Она не знала, и лишь на возрасте стала задумываться над тем, что разрыв Петра с матерью царевича, незадачливой царицей Евдокией, мог привести – и привёл – к обиде сына на отца. И, должно быть, не могло не случиться этой обиды. Если бы царевич Алексей понял отца, тогда царевич был бы равным ему. А возможно ли природе двоих равных гигантов родить подряд, одного за другим? Едва ли...
В сущности, и брат Алексей был от Аннушки весьма далёк. Она и не видела его почитай что и вовсе, так – считанные разы. И не могла знать, как спустя год после её рождения отец порешил вплотную взяться за наследника, решил отправить его за границу в учёбу. Это было не то чтобы рано и не то чтобы так уж поздно. Ведь и сам государь чуть ли не по десятому году сел грамоте учиться. И то – заботная матушка Наталья Кирилловна всё берегла Петрушу, не утруждала ученьем. Хорошо, брат старший, Фёдор Алексеевич, напомнил мачехе... Сам человек весьма образованный в греческом и в латыни, напомнил, что уж пора и меньшого брата сажать за книги. И Петрушу посадили не за какие-нибудь книги новейшие немецкие и французские, а, как деда его и родителя, за Псалтирь да за Часослов. И учитель был не Бог весть кто – Никита Зотов, Однако же после народилась в Петре страсть к учению, уж он сам себя принялся образовывать...
Но понимал ли он, что едва ли ему стоит ждать от сына подобных прилежания и усердности? И даже и не то чтобы царевич был так уж не способен к ученью: чай, не дурее иных! Но в нём жило и крепло упрямое нежелание подчиняться отцу. Он ничего для себя не мог найти в этом подчинении, никакой себе выгоды, никакой перспективы. Он был, по рождению, природный царевич, в законнейшем браке рождённый. Его унизили, мать его сослали в монастырь, отец жил открыто с полюбовницей, с наложницей, и женился, обвенчался с ней, и выблядков её «привенчал». А ежели ненавистная мачеха родит сына?..
Но не было ещё этого сына. Пётр чувствовал нелюбовь первенца, но желал быть справедлив. И это ведь был его единственный наследник, надежда династии. А Пётр покамест ничего, кроме обычного – от отца к сыну – наследования власти, не мог придумать для своего государства...
Алексей Петрович был упрям, почитал себя униженным и оттого не желал никак следовать честно отцовским наставлениям и приказам. То есть не исполнять их вовсе он не мог, но для себя упрямо порешил исполнять как можно хуже...
Аннушке не минуло и года, когда Меншиков повёз в Москву к царевичу письмо от государя.
«Sohn! – писал отец, именуя сына на голландско-немецкий лад – «зоон». – Объявляем вам, что по прибытии к вам господина князя Меншикова ехать в Дрезден, который вас туда отправит и, кому с вами ехать, прикажет. Между тем, приказываем вам, чтобы вы, будучи там, честно жили и прилежали больше учению, а именно языкам, которые уж учишь, немецкий и французский, так геометрии и фортификации, также отчасти и политических дел. А когда геометрию и фортификацию окончишь, отпиши к нам. За сим управи Бог путь ваш».