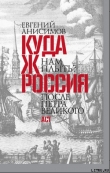Текст книги "Гром победы"
Автор книги: Фаина Гримберг
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 22 страниц)
– Клевета! Андрей Иванович любит Петрушу и не может желать ему зла! Андрей Иванович добрый!..
– Кто может усомниться в добрых намерениях господина Остермана по отношению к Его величеству! Но государство Российское добрый Андрей Иванович, возможно, любит более своего императора, юного Петра Алексеевича, или кого бы то ни было из царской фамилии!..
Цесаревна посмотрела на своего собеседника прямо и почти сурово.
– Стало быть, для государства Российского наконец-то сделается благом удаление Елизавет Петровны. Я рада. – Она повернулась и пошла прочь.
– Ваше высочество, – спокойно проговорил герцог.
Она остановилась, и это был для него хороший знак. Она ждала объяснений, подробностей...
Но разговору не суждено было возобновиться. Отчаянный крик, вопль, юношеский, почти мальчишеский, срывающийся на высоких нотах...
– Петруша! – тревожно воскликнула цесаревна и побежала, не оглядываясь, чуть спотыкаясь, чуть подаваясь назад, когда каблучки сапожек вязли в прелой сырой земле. Герцог медленно двинулся следом.
* * *
...Молодой император бушевал. Он швырнул на землю шляпу охотничью и уже даже и не просто расхаживал нервически взад и вперёд мимо большой палатки, но бегал в бешенстве, и крупнокудрявые волосы развевались на ветру. Деда он напоминал разительно! Впрочем, можно было с уверенностью сказать, что никто сейчас не замечает этого разительного сходства. Никто, кроме герцога де Лириа, показавшегося как раз в просвете между деревьями. Герцог смотрел, как цесаревна порывисто пытается ухватить брата за руки...
– Наташа! – кричал юный Пётр Алексеевич. – Наташа! Ваня! Да где же, где! Позвать немедля! Искать!..
– Петруша, родной! – звонко успокаивала его сестра. – Я здесь, я рядом с тобой! Посмотри на меня, посмотри... И Ваню сыщут сейчас, тотчас!.. – Оборотилась к растрёпанным придворным: – Сыщите молодого князя Долгорукова, скорее!..
Брат наконец-то увидел сестру. Лицо его, круглое, крупное и румяное, сморщилось. Он сел прямо на землю, приподняв коленки, и зарыдал, мотая кудрями. Наташа склонилась к нему, чуть сжала его плечо...
– Наташа, Наташа, сестрица!.. – бормотал он сквозь слёзы. – Где Ваня, где?..
– Он сейчас будет здесь, Петруша, сейчас он будет здесь.
Она не спрашивала, что же случилось. Наблюдавший за нею герцог приметил это, и также приметил странную скованность её движений и жестов. Она как будто знала заранее... Знала?..
– Наташа!.. Она... как она могла? За что? Мучительница! Проклятая! Она играла мною, играла!..
Подскакал молодой Долгоруков, юноша лет восемнадцати на вид, красивый мужественной горделивой красотой, он во многом походил на Катеньку. Впрочем, восемнадцатилетний молодой человек того времени показался бы сегодня по меньшей мере двадцатипятилетним, если говорить о жизненном опыте и переживаниях..,
Иван молодцевато спрыгнул с коня, кинул поводья подскочившему слуге, подбежал к императору, к своему другу...
– Вот он, Ваня! Видишь, Петруша, вон он! – радостно приговаривала Наталья Алексеевна.
Иван тотчас уселся рядом с Петрушей и крепко обхватил его за плечи вздрагивающие, обнял длинной сильной рукой.
– Ну, сказывай! Что стряслось-то?
– Неужели... неужели вы... Неужели даже вы, вы оба, самые близкие мне, и не видите, не понимаете?!
Наташа застыла в неловкой позе, чуть склонясь, держа ладони протянутых рук над головою брата.
Но Иван заговорил с нарочитой лёгкой грубостью:
– Чего я тебе не понимаю? Всея понимаю. Глупая баба сбежала, взбрыкнула, а ты бесишься как дурак! Чего ещё понимать прикажешь? Ничего более нет. И ты не позорься. Плюнь да разотри. Плюнь да разотри, слышал? Вот тебе и весь мой сказ!..
Кудрявый Пётр Алексеевич притих и, подавляя всхлипывания, действительно слушал эти нехитрые утешения с большим вниманием. Наташа, видя, что брат вот-вот успокоится, отошла в сторону.
Герцог вновь приблизился к ней. Он был очень почтителен. Казалось, она выросла в его глазах и он потому и сделался с нею почтительнее, нежели прежде.
– Ваше Высочество, – он говорил очень тихо, – похоже на то, что ежели усилия нашего доброго Андрея Ивановича в области соединения двух отраслей великого Петра и не увенчались успехом, то о его же усилиях, направленных на удаление Елизавет Петровны, этого не скажешь!
– Андрей Иванович? – Она не совладала с собою, не сумела скрыть удивления...
– Вы можете доверять мне, Ваше высочество, мы – союзники. И я, так же как и Вы, полагаю, что к нынешней бурной скорби, охватившей Его величество, добрый Андрей Иванович отношения не имеет.
Не всякий распознал бы в этом скором наклоне девичьей головки утвердительный кивок, но герцог де Лириа распознал...
* * *
...Елизавет Петровна отправилась на дальнее богомолье, в Тихвинский девичий монастырь, никого не предупредив заранее. С собою взяла неизменную Мавру Шепелеву и нового своего ездового, Алексея Шубина.
В Тихвинском монастыре заточена была княжна Полина, молодая Прасковья Юсупова, насильно постриженная и с той поры ставшая инокиней Проклой.
Зачем ехала Лизета? Не любившая размышлять, она сама верила, что едет, собственно, для того, чтобы позволить ему соприкоснуться с её, Лизетиной, тайной; чтобы показать ему, как она ему доверяет, верит. Она, казалось, и сама себе искренне верила. И этой вере не мешало то, что, конечно, он ничего толком разузнать не сможет; и Маврушка ведь ничего не знает; и Полинку держат взаперти в келье и не скажут ей о приезде цесаревны. Но это всё нимало не смущало Лизету. Это было даже и хорошо. Зачем ему знать лишнее, в самом-то деле, зачем? Вовсе оно ни к чему. С него достанет Лизетиного доверия к нему, одного лишь Лизетиного доверия. Покойница Анна, попади она в такую переделку, уж ломала, ломала бы голову, уж накрутила бы, навертела и того, и другого, и третьего! Также и Наталья, Петрушина сестрица, и эта накрутила бы, наворотила... А Лизету никакие внешние противоречия не смущали, она и не думала никогда ни о чём подобном. Ей одно было важно и ясно – пусть он почувствует, как она ему верит, доверяет, пусть он поймёт, как она дозволяет ему коснуться, приблизиться к тайне. А какая тайна? Да не всё ли едино! Ведь он не узнает, никогда не узнает, никогда!
И она верила сама себе, верила в свою любовь к нему; верила даже в то, что она ничего, ничего от него не скрывает! И знала, что её не допустят к узнице, и никого никогда не допустят. Приказано. И связываться с Преображенским приказом[25]25
...связываться с Преображенским приказом... – Династия Романовых, фактически узурпировавшая власть у более законных претендентов, Рюриковичей и Гедиминовичей, не чувствовала себя в безопасности в собственной стране. Уже при Алексее Михайловиче учреждён был Приказ тайных дел, рассматривавший доносы о «внутренней крамоле». При Петре I это учреждение стало именоваться Преображенским приказом, далее – Тайной канцелярией. Пётр III расформировал Тайную канцелярию, но Екатерина II восстановила её уже под именем Тайной экспедиции. Так оно и шло, до известного Третьего отделения включительно.
[Закрыть] никому неохота. И никто не отменял и не отменит никогда приказания содержать инокиню Проклу строжайше, и чтобы и не видали её и не слыхали!
И Лизета знала, что будь у неё такая возможность, она бы всё равно того приказания не отменила. И никакие муки совести не терзали её душу, и она даже и не пыталась оправдываться сама перед собою. Нет, всё подобное было ей напрочь незачем, было совсем чуждо. Всё было так, как было; и Лизета всегда и твёрдо была уверена в своей правоте.
Цесаревна раздала монахиням подарки, как полагалось. В монастырь она привезла изюму, икры паюсной и деньгами подношение. Не простая ведь богомолица.
Всё сошло как нельзя лучше, гуляли по окрестностям; она и её спутники и слуги исправно посещали все церковные службы, умилялась пению...
Но когда уж возвращались, немного не по себе ей сделалось. Как ни крепки засовы монастырские, а ведь она рисковала. Конечно, Полинка запугана совсем, а всё же – дело рисковое. И Лизета совсем уверилась в своей любви к нему, в любви, во имя которой она могла так рисковать, так открывать свои тайны.
Заточенная в дальней келье инокиня Прокла действительно так и не узнала о приезде цесаревны. Измученная, исхудалая, бледная, бывшая княжна Полина сидела в своей чёрной одежде на жёсткой постели, Она уже давно не плакала, не вспоминала свою мать, не перебирала в памяти балы и наряды, Она стала забывать французский язык, потому что он давно перестал быть нужен ей. Такие обида и боль точили душу! Нет, этого не выразишь на её уклончивом, утончённом, нежном, на её «русском» французском. Это можно только самыми простыми, самыми грубыми, из нутра, словами, словами единственного родного языка, от бабок, от прабабок!.. И она тихо и горько бранилась «по матушке» и приговаривала, поминая недобрым словом проклятую Лизету, цесаревну-изменницу: «Тебя бы, да на моё бы место!..»
И будь они прокляты, те дни их недолгой дружбы, будь они прокляты...
* * *
В чём была виновата княжна Юсупова[26]26
В чём была виновата княжна Юсупова? – Трудно сказать, насколько достоверна версия о княжне Юсуповой и цесаревне Елизавете Петровне, изложенная в «Грязных кулисах власти» П. Калабузарь. В сущности, заточение княжны Юсуповой в Тихвинском монастыре остаётся загадкой. Судьба этой таинственной узницы повлияла на сложение легенды о дочери Елизаветы от некоего тайного брака, якобы томящейся в монастыре.
[Закрыть]? За что допрашивал её в Преображенском приказе известный Ушаков? За что теперь отбывала она вечное заточение? За что вырвали её из мира?..
Оставшись после отъезда Мавры Шепелевой с Анной вроде как без товарки, цесаревна сблизилась с молоденькой княжной Полиной. Полина была хороша собой, но не красивее Лизеты, была влюблена в молодого Николая Долгорукова, Иванова брата (вот уж нашла в кого влюбиться, бедная, бедная; он и не глядел на неё!). А Лизете по нраву было дразнить Полинку и подбивать её открыться молодому Николаю и быть с ним в любви. Полинка пугливо отказывалась, краснела маково; крестясь, уверяла, что нет, нет, это-де невозможно, никак невозможно, она-де матушки боится... Но Лизета понимала, что нет, вовсе не матушки своей добродушной опасается товарка, а сдерживает свою страсть неким чувством нравственности, вовсе неведомым Лизете и потому непонятным и неприятным. И Лизета сердилась и дразнила и подбивала Полинку пуще прежнего. Но ведь Лизета не была злою, нет, не была. И даже и жалела по-своему эту глупенькую княжну Юсупову. И все свои дразнилки и подбивки, порою доводившие чувствительную Полину до слёз, искупала цесаревна искренней доверительностью, всё рассказывала Полинке о Бишофе, своём женихе, всё-всё рассказывала, безо всякой утайки.
Да, в те дни Лизета полагала, что сделалась истинной женщиной и начала жить истинно. Однако совсем скоро оказалось, что нет, не всё ещё узнала, не всё поняла; опробовала сладкое кушанье, а горькое-то глядь – и на столе!.. Вскоре после неожиданной, нежданной кончины жениха Лизета поверглась в настоящий ужас. По-первости она просто и не понимала ничего. Но кое-что уж слыхала в разговорах женских, бабьих, и теперь скорёхонько разобралась с собою. Но что было делать? Она была одна-одинёшенька. Будь рядом Анна – поахала бы, поужасалась, и глядишь, и надумала бы решение. С Анной оно было бы проще, Анна сама ведь была женщина, мужняя жена. И с Маврушкой Лизета бы надумала... Но ни сестры, ни товарки верной рядом не было. И некому, некому было довериться. Одна глупенькая, но честная Полина... И Лизета рассказала ей всё! Всё-всё. И, конечно, в ответ были охи, да вздохи, да слёзы. Уж и пожалела Лизета, зачем сказала этакой дурище! А думалось меж тем. Вспомнила давнюю уже историю девицы Марьи Гамильтон, той самой, детоубийцы. Но Лизета не вспоминала красивую куклу, изображавшую в играх двух девочек-цесаревен красавицу Марьюшку; и не испытывала Лизета никаких мистических чувствований при мысли об отрубленной голове красавицы. Нет, Лизета была не такая, как Анна. Лизета вспомнила, что говорили. А говорили, что ведь не в первый раз Марья была брюхата, уж дважды вытравливала... И, стало быть, есть же такие зелья, есть! Иначе как? Брюхо прятать под кринолином, тайно родить, душить... И ведь прознают!..
И тут Полина явилась доброй и умной, и понимала всё. И даже себя не жалела. Уж Бог ведает, у какого лекаря добыла потребное зелье. Догадалась увезти подругу подальше, в дом своей матери под Переяславлем-Залесским, будто в гости. Уговорила мать отпустить её, бережёную Пашеньку, одну. Важность на себя напускала: мол, дело есть. И мать отпустила дочку и просила поберечь себя. Странно, однако, мать, женщина уж немолодая, не догадалась, какое дело у девиц. Мать подумала, что дело государственное, царское. Много толков ходило о том, насколько справедливо, насколько законно воцарение молодого Петра II. Старая княгиня и побаивалась и в то же время думала, что не следует препятствовать дочери; цесаревна Елизавет Петровна бойка; глядишь, и выйдет случай, и вот уже и Пашенька – товарка самой императрицы всероссийской!.. Знала бы мать!..
Всё обошлось хорошо, зелье подействовало.
Но рано девицы обрадовались. Кровь так и хлынула ведром. Однако Полинка и на этот раз не оплошала. Обычно стыдливая, почти робкая, она теперь тайком привела слободскую повитуху, чтобы та помогла «девке».
– Девка моя горничная захворала, я и не пойму, что с ней!..
Старуха «девке» помогла. И разве признала бы в несчастной этой девке, повязанной платком, красавицу, младшую цесаревну, которую и видала-то мельком – в карете проезжали – государыня с дочерьми. И старуха сказала несчастной этой девке, что внутри та повредилась и потому детей иметь никогда не будет.
Вот что было «простое», о чём Анна многодумная не могла догадаться. Вот почему Лизета передала ей завещание, по которому престол всероссийский должен был остаться за потомками Анны.
Лизета уже знала, что никогда не сделается матерью. Нет, она вовсе не была чудовищем. В какое-то мгновение она огорчилась искренне, горевала, плакала, утешаемая Полиной. А узнав о рождении племянника, Лизета умилилась, теплоту к нему почувствовала. Нет, она вовсе не была чудовищем.
Можно было не сомневаться в том, что княжна Юсупова смолчит. Но это она сейчас такая добрая, преданная, кроткая, а какою будет она дальше, в будущем, как жизнь повернёт её? Лизета не хотела, чтобы знали о её позоре, о девичьем стыде.
И никто, никто не должен был знать, что она более не может иметь детей! Перечитывая французское письмо Анны о рождении сына, о том, каким смешным и радостным выглядел её Фридрих, её сероглазый, худенький, как ждал он сына, и Лизета цепким умом уцепила, ухватила, что ребёнок, сын, порою много, очень много может значить для мужчины. Иной рискнёт многим ради... спасения своего ребёнка, ради того, чтобы иметь ребёнка, наследника, продолжателя... Тут и отца вспомнила, как радовался своему Шишеньке... Нет, никто, никто не должен знать!..
Дел по обвинению в государственной измене бывало много, очень много. В Преображенский приказ шли и шли доносы, письма шли, явное шло и тайное. Иные дела выглядели и вовсе пустяшными: кто-то кому-то сказывал полную дурь, ну вот, хоть этакое – у государыни, мол, пиявки изо рта ползут. Но и по такому доносу дело заводилось, пускались в ход и верёвки и клещи палаческие. И хорошо ещё, если кончалось ссылкой...
И вот по таким тайным доносам, по таким вот письмам тайным схватили и повитуху слободскую, и княжну Юсупову. Друг о дружке они и не ведали, что схвачены; обвинения и дела были разные. Но были то обвинения в измене государственной. Повитуха была бита кнутом и сослана куда-то в Сибирь, а княжну постригли в Тихвинском монастыре. И вот там-то, в тесной келейке, взаперти, она дошла умом, что обвинение-то не с неба свалилось, а было оно Лизетиных ручек дело. И смастерить было ведь проще пареной репы такое дело. Без внимания-то ни один донос не оставался. А тогда, на допросах, Полине и на мысль не могло прийти выдать цесаревну. Да и не о том было дело, вовсе цесаревны Елизавет Петровны не касалось, а было о злоумышлении против молодого императора Петра Алексеевича. И напрасно отпиралась княжна, ползли и ползли на толстую бумагу слова, неуклюже друг за дружку цеплявшиеся. И она запуталась в паутине липкой неуклюжих этих слов. И уже признавалась... Да, кажется, признавалась?.. От отчаяния?..
А в первые дни в монастыре думала, что цесаревна не знает, цесаревна спасёт... После «предательницей» стала звать товарку-цесаревну. А после, изнурённая мыслями многими, поняла всё.
И когда поняла, за что, почему пропала её жизнь, тогда хотела кричать, хотела всё рассказать... Но кому, зачем? Келейнице-прислужнице, что подаёт ей в дверное окошечко скудную пищу? И после – что? По головке не погладят. Снова – допросы, дыба, кнут... Нет уж!.. Лучше так пропадать, помирать!.. И пропадала.
А старая княгиня тосковала о своей Пашеньке, и цесаревна, случалось, ободряла несчастную мать словом тёплым. И старуха снова надеялась, верила. Целые картины складывала для себя, мысли выстраивала. Дочь отнята, конечно, по злому умыслу молодого императора. Конечно, молодые Долгоруковы всему виной! Пашенька ни словечка не говаривала матери о своей любви, но разве мать не видала, как при виде Николашки доченька изнывала, куда спрятаться, не ведала, куда глазоньки девать, не знала. Это всё Долгоруковы! Они! Зачем нужна была им бедная скромная невеста? Они сыновей своих уж чуть не на трон сажают! Ванька так и спит в государевой спальне, чтоб всегда, значит, под рукой находился... Вокруг старой княгини Юсуповой даже составилось нечто вроде кружка сторонников Елизавет Петровны... Ничего, впрочем, серьёзного, одни пустые толки. Никто и доносов не писал на выживших из ума старух... А княгиня Юсупова всё надеялась: вот придёт на трон Елизавет Петровна и начнётся царство справедливости! А справедливость для матери была в одном лишь, в том, чтобы ей вернули дочь, ненаглядную Пашеньку! Но если бы при этом Пашенька сделалась любимицей императрицы, и женишка бы небедного и в чинах... Такая справедливость, конечно, была бы для матери справедливость высшая!..
Но воцарения Елизавет Петровны старуха не дождалась, померла. И дочь её умерла в монастыре, так и не зная ничего о судьбе своей товарки-цесаревны...
Но Лизета вовсе не полагала себя виновной или предательницей, Она просто знала, что иначе нельзя было поступить. И Прасковья была глупа, это было яснее ясного. И если уж Лизета сама сглупила и доверилась дуре, то надобно ведь и позаботиться о себе, в конце-то концов! Нельзя, вовсе глупо отдавать себя, как в кабалу, в полную волю дуракам!..
* * *
Цесаревна и её спутники воротились с богомолья. В тот же день Маврушка передавала новости:
– Государю ведь всё известно!
– А разве я от него что скрывала? Надоел он мне, Мавра! Срам для меня – с мальчишкой лизаться! Как-никак не девчонка сама-то, девятнадцатый мне... И ты что думаешь, будто я боюсь его? Да я не хочу его и не нужен он мне, и вместе со своим немцем! «Ваше высочество!.. Звезда!.. Украшение!..» Ух ты, преподлый немецкий лисий хвост!..
– Не больно жалуете Андрея-то Иваныча! – Мавра будто подзуживала.
– Не больно жалую? Я его ненавижу, Маврушка! Я тебе одной прямо скажу: вот сдохнет он, тогда только сердце моё успокоится!
Мавра попритихла. Это был сильный искренний гнев. И невольно думалось: «А ежели и на меня она так-то?..»
– Ты что задумалась, Мавруша? Напугалась? Страшна я в гневе? Да ведь это не для тебя! Ты – друг верный, единственный. Да я ведь и отходчива, для друзей-то истинных... Ну, что замолчала?
– Думаю, Ваше высочество.
– Уж высочество! Нет, напугалась ты, напугалась, вижу!
– Я думаю, Ваше высочество. Думаю о... о табакерке, – заявила Мавра серьёзно. А в глазах чёртики так и прыгали.
Цесаревна всё поняла вмиг и так и покатилась со смеху.
– О табакерке, о портретике? Влюбилась небось!
– Я-то нет. – Мавра, чутко воспринимая тон цесаревны, обрела обычную свою уверенность и даже решалась теперь шутить. – Я-то нет. А вот кое– кто на моей памяти... – Шутка смелая была однако и Лизета любила смелость и бойкость в своих приближённых и слугах; конечно, когда сама бывала в добром расположении духа.
– Кое-кто! Ой! Уморила совсем! Кое-кто! – Лизета выскочила на самую серёдку спаленки, встала на фоне смятой постели, руки упёрла в бока, будто для русской пляски... – Уморила! Уморила! Ой! Да мне его и даром-то не надобно теперь! Я теперь, Мавруша, только-только жить начинаю, всею грудью дышать! Просторно мне теперь, весело! Баба я теперь, Маврушка ты моя, Маврушка, золотце ты моё медное! Настоящая счастливая баба! И ты уж пойми меня!..
Мавра поняла и тоже задорно поглядела. Цесаревна подбежала, за шею обхватила, на постель повалила, уж башмаки кверху и юбки – до пупа.
– Вот что для тебя сделать? Нет, ты скажи, что?
– Ничего! Пустите! Платье мне всё смяли.
– Платье? Да вот... Да я... Одним словом, увидишь! Придёт время – будет у тебя этаких платьев – несметно!
– Да оно ни к чему! Будто я за Вас из интереса, из платьев! Тьфу! Пустите!
– Маврушечка моя хорошая, славная! Нет, не пущу, и всё тут! Не пущу, пока не скажешь, чего тебе хочется!
– Ничего! – Мавра высвободилась из цепких рук, но не встала. Обе лежали на широкой постели, покойно, вольно...
– А того не может быть, чтоб ничего! Так не бывает! Говори!
«Сказать – худа не будет! Скажу!»
Прикидывать надобно было быстро, молниево...
– Скажу уж! Экой Вы банный лист! Скажу! И я ведь не деревяшка какая. И мне замуж охота...
– Ой, неужто? – паясничала Лизета. – И за кого? За Морица-красавца? За племянничка моего, за императора Петрушку Лексеича? Ой, да ведь знаю! За Остермана Андрей Иваныча! Вот прекрасней кавалера не сыскать! Марфа-то Ивановна как позеленеет от ревности-то!..
И снова – хохот, щипки, тычки шутейные... Но Мавра в наивысшей степени наделена, одарена была тем самым свойством, что покойный государь великий изволил именовать «чутьём». Правда, и Маврино чутьё было не государственное, не какое– то там высокоумное, но было оно для Мавры самое полезное. Вот и теперь она в точности почуяла, когда стало возможно говорить всерьёз.
– Я, Ваше высочество цесаревна, и вправду пошла бы замуж. За графа Шувалова.
Лизета поднялась на локте, в глаза товарке заглянула.
– Так он тебе по сердцу?
– По сердцу, государыня.
– Да, он недурен. Но неужели это так трудно устроить?
– Матушка моя подъехала было, но его родители не согласны. Побогаче ищут.
– Они глупы, Маврушка. А он-то что? Любит?
– Видать, любит.
– Ох! Да ты не брюхата ли?
– Слава Богу, покамест не чувствую.
– То-то! Покамест! Нет уж, поела сладкого, садись – горькое хлебай! Надобно всё устроить, надобно вас обвенчать скорее...
Сказать откровенно, так Мавра была хуже чем брюхата, она была девственница, осторожна была и боялась потерять себя. Этак потеряешь, а после – ау! Она не царского семейства, ей не спустят шалость такую! Но цесаревне Мавра ни за что бы не призналась в своей девственности, Она очень хорошо понимала, что вот такое признание цесаревну может насмерть озлить...
Между тем Лизета весело прикидывала, что и как. Старики Шуваловы, они ведь хороши с княгиней Юсуповой. Надобно с нею поговорить, пусть она замолвит слово...
– Побогаче, говоришь, ищут? Ежели сыщут, так, может, и пожалеют ещё! – задиристо кинула. – Да ты не бойся, не сыщут. Лучше тебя – не сыщут! Справим, справим твою свадебку! Только после-то как? Бросишь меня, стало быть? Кинешь горюшу?
Мавра живёхонько соскочила на пол, встала на колени и целовала свесившуюся Лизетину руку.
– Да я за Вас всё! Да за каждый пальчик!..
Свадьба молодого Шувалова и Мавры Шепелевой[27]27
Свадьба молодого Шувалова и Мавры Шепелевой... – Мавра Егоровна сохранила своё положение наперсницы и после воцарения Елизаветы. От П. И. Шувалова Мавра Егоровна имела двоих сыновей; Николай умер молодым, Андрей Петрович сделался видным сановником при Екатерине II, переписывался с Вольтером; возможно, А. П. Шувалов писал или редактировал многие сочинения Екатерины II.
[Закрыть] была весёлая. Гуляли хорошо, хотя и несколько по-простому. Новая графиня Шувалова по-прежнему оставалась подолгу с государыней-цесаревной. Отлучилась лишь ненадолго, когда была уже в последнем периоде беременности. Но после благополучного рождения сына Николая снова заняла своё место затейницы, увеселительницы, утешительницы... Она верила в Лизетину счастливую судьбу.
* * *
Простые слова молодого Ивана Долгорукова подействовали как нельзя лучше на императора. Впрочем, у Ивана были для государева утешения и более действенные средства. Он на всю Москву успел прославиться своими загулами, кутежами и любовными похождениями. Он мог многое утешное предложить.
И теперь Петру Алексеевичу было и вспоминать смешно и стыдно, как он плакал дурак дураком! Из-за кого? Из-за пустой бабёнки! Да к тому ж старухи, целых шестью годами старее его! И добро бы вышла замуж, а то... Под кого легла– то? Под выблядка! Да она и сама!.. Нет, хорошо всё обернулось, прекрасно, великолепно! А рядом, совсем близко цветёт эта мраморно-алмазная, изумительная Катенька – драгоценный цветок! И цветёт для него! И надобно поскорее объявить её своей невестой. Ведь и Ивану, милому Ванюше это будет приятно. Обрадуется!.. Пётр прижмурился... Он, в сущности, был добрый парнишка, и особенно любил радовать своего друга – то новым ружьём, то алмазными пуговицами; а теперь вот так и скажет ему: «Ты, Ваня, теперь мне не просто друг, ты мне брат! Потому что сестру твою объявляю своей невестой!» Эх, если бы Ване Наташа гляделась! С какою бы радостью отдал сестру! За верного друга. Но Ваня без ума от маленькой Шереметевой. А если две свадьбы – разом? Вот будем праздновать! На века запомнят!..
* * *
...Что такое был он? Безродный, незаконный. С матерью-баронессой. Покойный Пётр, великий государь, кого только не жаловал баронами да баронессами, самое пустяшное это было. И что такое был? Сержант гвардии. Ни выпить, ни погулять, ни даже и на табачок не всегда хватало. Был ли он честен? Ежели бы его спросили, ответствовал бы с лёгкостью: «Да, я честен». И разве он и вправду не был честен? Разве он нарушил присягу? Разве оговаривал и предавал друзей-приятелей? Или воровал? Нет, он мог с чистой совестью назвать себя честным. Был ли он щепетилен? То есть был ли он так уж щепетилен в вопросах чести? Об этом никто не спрашивал его. А если бы спросили, он просто и не знал бы, что ответить, потому что не понял бы, о чём его спрашивают. И когда его мать рассказала ему предложение... Нет, ей вовсе не понадобилось падать перед ним на колени, заламывать руки, упрашивать, чтобы он... ради её старости... ради собственной будущности... И что такого заключало в себе это предложение? Сделаться любовником, понравиться... Занятно, забавно... Однако он задумался. О чём же?..
– Кому и зачем это надобно? И не рискуем ли мы, соглашаясь? – матери сказал.
Но мать:
– Алёшенька! Ну если бы нам убийство предлагали или другое что! А то ведь...
– Но зачем? И для кого? Ведь если я стану любовником цесаревны, её при дворе не похвалят!
– А нам-то что!
– Кто при дворе против Елизавет Петровны? Сказывали, будто Остерман, Андрей Иваныч...
– Да это она против него!
– Ну, стало быть, и он – против неё. Так это от него всё? И деньги обещал?
– Алёша! Не всё ли тебе едино, от кого, кто обещал! Были бы деньги!
– Но от него? Верно я разгадал?
– Пусть от него!
– А сын у тебя, матушка, не такой уж простак!
Она потрепала его по волосам.
– Умник ты у меня!..
Но самым важным обстоятельством, всё, в сущности, решившим, определившим, явилось то, что деньги были даны вперёд. И сказано было, что деньги эти (и не такие для сержанта Шубина и баронессы Климентовой малые!) возможно будет оставить себе, даже если дело не выгорит и цесаревна не пленится красивым гвардейцем. Й вот эти деньги, они-то всё и решили окончательно.
* * *
И всё это было уже и почти давно, ещё зимою. И она подъехала в санях к своему дому, и, как всегда, на часах у ворот стояли два гвардейца. А снег летел, будто прозрачная вуаль, вся в белых мушках, прозрачная, ветреная – на синем. На синем тёмном небе. И вдруг небо, синее, тёмное, озарилось множественным иглистым светом от множества золотых звёздочек. А прежде...
Из тумана, из вуали снежной – белое – на тёмном синем – звёздочки золотые – и явился дивный юноша, сказочный... Но нет, не принц! Да и что ей заморские принцы, обманно с ними... А это иная сказка, не из книжки французской, нет, а рассказанная, сказанная голосом нянькиным певучим и мерным, в самом раннем, в самом первом, ещё до мадамы парижской, детстве... «И явился ей молодец красоты неописанной!..»
«...красоты неописанной!..»
И это он и был. Глаза-бирюза, щёки-яблоки, кудри русые, на три грани чесаны... Впрочем, как положено было, имел на голове под шляпою гвардейской – парик...
Гвардии сержант Шубин!..
И уже в постели, на перине пуховой, она поняла, что кет, ничего-то она не знала о том, что значит бабой быть, настоящей женщиной. Нет, ничегошеньки она не знала. Думала: экая дурища – продырявил мужик – и уж баба; понесла, скинула – и баба! Ан нет! Настоящая баба – это когда мужик у тебя – твой! По сердцу и плоти – весь твой! Вот тогда!..
* * *
Он был – весь её! Она над ним озоровала, за уши трепала, рот кусала. Из плача – в смех, в лютованье, в беснованье и щекотанье, из омута – в небо!.. Из неба – в омут!..
Всё в нём было мило: слова, уста, глаза... И письма он ей писал, не как Бишоф-покойник писывал по-немецки, а попросту, по-русски – хорошо, словами хорошими!
«Милая вы государыня Лизетка Петровна! Благодарствую Вам, моей милостивой, об Вашем ко мне добром воспоминании. Верный я Вам слуга вовек, бешеная Вы моя ветреница! И не много пишу, да много силы замыкаю...»
А она ведь прежде и не знала, какие бывают мужчины – сильные, послушливые без угодливости, простодушные. В нём одном – целый мир ей открылся. И она чувствовала (о, ведь и она была наделена своим чутьём!), и чувствовала, что мир этот новооткрытый – он большой, он великий, но простодушный он и будет – её!..
Она разрыла укладку, отыскала списанные некогда стихи русские Виллима Ивановича Монса и вновь перечитала. При этом она вовсе не помнила, не вспомнила, что стихи эти – стихи отрубленной головы. Что ей было до этого! Она любила стихи, русские стихи. И перечитала ещё и ещё... Покамест пальцы не запросили гусиного пера, покамест не потянулось пёрышко к белому листу бумажному...
Я не в своей мочи огнь утушить,
Сердцем болею, да чем пособить?
Что всегда разлучно и без тебя скучно —
Легче б тя не знати, нежель так страдати
Всегда по тебе...
А вовсе она и не страдала. Ей весело было. Но почему-то зналось, и Бог весть откуда, что в стихах непременно должно выражаться страдание. И страдание выражалось в её стихах. И выражалось искренне и сладко. Так и должно – в стихах!..
Она ни от кого не скрывалась. Но почему? По своей безоглядности? По невиданной какой-то смелости? О нет, нет! Она была, конечно, и смела, и безоглядна, это в ней было. Но теперь она знала, почему она не таится. Потому что он открыл ей новый мир. Через него этот мир ей открылся. И она поняла, что именно в этом новом мире – ей подкрепа, опора! Поддержка мужеская крепкая...
* * *
А он? Он, которому было – заплачено?
Возможно ли было сказать, что он полюбил её искренне и сильно? Да! Возможно. Потому что он и вправду полюбил её, как никого не любил прежде, ни одной женщины, ни одной живой души он не любил так! И в этой его любви была своя безоглядность и был и свой расчёт. Он готов был рисковать жизнью ради неё, он хотел на своих руках вознести её высоко, на трон, потому что она была достойна трона. И ему было бы так хорошо, так сладко чувствовать, что он, именно он, вознёс её, любимую! И в то же время... если бы случилось подобное... он бы... Он бы и сам вознёсся на высоту невиданную, он отдавал себе в этом отчёт. Он говорил ей о себе всё, всё-всё. Но он знал, что ведь ему возможно говорить ей всё, потому что она в нём не найдёт, не увидит ничего дурного. Всё, всё, на всё готов был – для неё, ради неё... И радовался подаркам от неё – золотым часам, бархатной собольей шапке, табакерке золотой с бриллиантиками...