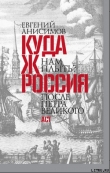Текст книги "Гром победы"
Автор книги: Фаина Гримберг
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 22 страниц)
После коронации императрица ещё оставалась в Москве. Государь отправился в Санкт-Петербург. Анна и Лизета выехали ещё ранее и поджидали отца в Боровичах. Поплыли. Анна приглядывалась к отцу. Недавнее зрелище живого удовольствия матери от коронационных торжеств будто сильно размягчило его; он увиделся Анне сумрачным, больным, чрезмерно чувствительным. И это был он, её отец, ещё ведь не так давно – самый сильный, самый умный, тот, в тени коего ей жилось так бездумно...
Государь ощущал свою слабость как никогда, это уже была старческая, последняя слабость, и она пугала почти панически. Слабость вызывала желание опереться на какую-то силу... Но на какую? Кто был сильнее его самого? Опору видели в нём... А хотелось прислониться и забыться в своей слабости... Но кто? Дочь Анна была молода, крепла и рвалась вперёд, как некогда он сам; и не могла, нет, не понять, не могла в полной мере ощутить и постичь его слабость. Да попросту: не могла пожалеть его... И вот чего ему было сейчас надобно: это простое русское «пожалеть», женское, заключающее в себе столь много... Жена, Катеринушка, многолетняя спутница... К ней!..
На корабле писал:
«Катеринушка, друг мой сердешнинький, здравствуй! Я вчерась прибыл в Боровичи, слава Богу благополучно, здорово, и нашёл дочерей наших, и с ними вчерась поплыл на одном судне. Зело мучился от мелей, чего и тебе опасаюсь, разве с дождей вода прибудет; а ежели не прибудет и сносно тебе будет, лучше б до Бронниц ехать сухим путём; а там ямы частые – не надобно волостных. Мы в запас в Бронницах судно вам изготовили, дай Боже вас в радости и скоро видеть в Петербурге».
И – несколько, немного дней спустя писал уже из Петербурга после прогулки с дочерьми по аллеям Летнего сада:
«Нашёл всё, как дитя, в красоте растущее, и в огороде повеселились; только в палаты как войдёшь, так бежать хочется – всё пусто без тебя... Дай Бог вас в радости здесь видеть вскоре!»
Императрица прибыла. Время снова потекло. Анна чувствовала, что непростое это течение времени. Борьба её сторонников и противников её началась.
Но как же Андрей Иванович мог не уследить? Или он всё понял, обо всём догадался и... побоялся мешаться? О своей сохранности подумал... А Санти, Бассевиц, Берхгольц? Или они такого не ждали? Не ждали, что светлейший князь так ударит по судьбе того, кто числился в его первых друзьях и союзниках... Но все – верили. Верили в любовь молодого Монса с государыней. Все были опытны и находили объяснения – долголетняя-де женская привычка к этому постоянному телесному ублаготворению от государя, и вот, последнее время, государь хворает, слабость, вероятно... Впрочем, заметно слабело и здоровье императрицы, но это занимало всех гораздо менее. В эти женские немощи мало верили. И разве давняя уж покойница, красавица Аннушка Монсова не осыпала любовными милостями своего шведа Миллера, а сама-то уж изнемогала в чахотке...
Государю подали безымянное письмо – донос.
В страшных злоупотреблениях и казнокрадстве обвинялись Монс и сестра его Матрёна Балк со всем своим семейством.
Это уже была зауряднейшая ситуация, когда все знали, что красть, обкрадывать казну возможно и даже и необходимо для собственного благополучия, и лишь следует смекать и останавливаться вовремя. А кто не смекнёт, того, разумеется, настигнет государев гнев. Эти наказания за взяточничество и кражи, эти наказания следовали не из самого государственного устройства, но просто оттого, что государь случайно узнал, и узнав случайно, обрушивал на виновных (а порою и на запутанных в дело невиновных) жесточайшие кары. Не было приспособленности к решениям коллегиальным, к плавному течению государственной жизни.
Пётр вновь и вновь, уже с этой унылой для самого себя навязчивостью думал о них, обо всех этих, выкарабкавшихся из самых низов, обо всех этих Меншиковых, Монсах, Шафировых, Остерманах... Он-то желал доказать, что способности и энергия достойны справедливого возвышения. Желал доказать всем тем, которые были знатны происхождением и за то и требовали себе почестей. А они, те, кого он поднял, справедливо вознаградил... Мелкие душонки... Они желали одного и ещё раз одного: уравняться с теми, кто знатен был происхождением. И выходило так, что ничего и не изменилось...
А в письмах, дневниковых записях, донесениях чужеземных послов при российском дворе уже летала уклончивая весть, зудела, словно бабочка ночная, – преступления-де камергера Виллима Монса куда гнуснее, нежели...
Дело закручивалось, виновные признавались, уже впереди явственно виднелись для них эшафоты, плети и ссылки.
Государь долго не говорил с государыней и о ней ни с кем не говорил. Лишь в день гласного наказания виновных, после казни, когда была отрублена голова того, который, возможно... После государь явился в покои государыни. Она не знала, что же будет, потому что ничего подобного с ней и с ним, с её мужем, ещё никогда не бывало. Она подумывала о каких-то объяснениях ему, но нет, лучше всего было бы, увидав его, тогда и решить, что следует говорить, и следует ли говорить... И грех был бы сказать, будто она мужа своего не любила!.. И когда он вошёл, поняла сразу, что ничего говорить не надо...
Она его никогда не видела таким старым, слабым и больным. Она сама чувствовала, что стара и слаба; и жизнь её зависела от его жизни; вот не станет его, тогда и ей не жить долго!.. Они обнялись и стояли так. Она, толстая и слабая, прижимала лицо к его подмышке, к вытершейся нанке его серого домашнего халата...
* * *
Анне было не до сантиментов. Она прекрасно всё поняла. Поняла, куда целил светлейший князь Меншиков. Ему, ему нужна была коронованная императрица, ему она была смолоду обязана, а выскочка-скороспелка Монс ему не был нужен. Меншиков сам был охоч до государевых милостей, другие охотники подобные лишь мешали ему; и как мог он упустить возможность убрать того из них, коего возможно было убрать...
Меншиков понимал: императрица – она уже и есть императрица, этого государь уже не отменит. А вот что касается её дочерей... Вот в ком видел Меншиков помеху... У него подрастали свои дочери, маленькие Мария и Александра. И, кажется, он был единственный сейчас, кто занят был участью маленького принца Петра, сына опального Алексея...
Анна пыталась рассмотреть своих сторонников. Андрей Иванович вперёд не лез, поодаль маячил, осторожничал. Санти и особенно Бассевиц были энергичнее. Внушали государю исподволь, что обвинение Монса в том самом гнусном преступлении затеяно было нарочно, чтобы очернить в глазах государя его дочерей, особливо же цесаревну Анну. Государь слушал пасмурно. О государыне говорить опасались. Намекали на то, что следовало бы ежели не удалить совсем, то хотя бы окоротить Меншикова. Государь супился. Хмуро повторил несколько раз, что не желает превращать площади своих столиц в кровавые бани. Тогда поняли, что переборщили; государь почувствовал себя опекаемым, почти зависимым. Замолчали. Кажется, и без того достигли, добились немалого...
* * *
Голова камергера Монса торчала на колу. Проезжая мимо в карете, надобно было отвёртываться, чтобы не видеть сего противного зрелища.
«И кого сия дикость может испугать? – рассуждала Анна сама с собою в досаде и волнительном раздражении. – Да я руку правую готова отдать на отсечение в том, что казнокрадство подобными казнями нимало не прекратить...»
Тянуло раскрыть книгу, искать примеров, искать иных решений – в Англии, в Голландии... Но пришло холодное на мысль: вот так вот взять и перенять чужое – невозможно...
Отец...
Отец ведал, чутьём знал. Столько перенял всего, и многое – верно! Перенимал, развивал...
Назади послышались лёгкие шажки. Душистые ручки обхватили Анну за плечи...
Как давно миновали те времена, когда бойкая Лизета подразнивала наивную старшую сестрицу. Теперь ни за что бы не подразнила, теперь побаивалась, робела. Ведь старшая сделалась и вправду настолько старше...
Анна повернула и чуть запрокинула голову. Улыбнулась устало.
– Что с тобою, Аннушка? Неубранная, бледная сидишь. Всё математику свою читаешь. На белый свет бы взглянула...
– Это не математика, Лизета, это история. И на какой белый свет прикажешь мне глядеть? На площади с эшафотами и отрубленными головами?
Анна пожалела тотчас о своей внезапной резкости, но сказанное есть сказанное. Тряхнула неубранными волосами.
Лизета вдруг легко вспрыгнула и уселась на столешнице невысокого стола. Башмачки сделались видны, она поболтала ногами...
– А знаешь, Аннушка, вот случается, что все дурно толкуют о человеке, а он-то на деле совсем иной... – проговорила задумчиво и колебливо.
Анна не понимала, с какою вестью пришла младшая сестра.
– О ком ты говоришь? Какие загадки...
Лизета деланно отворотила головку к большому окну.
– Аннушка, прочесть тебе стихи?
Головку преклонила набок, в голосе сделались мечтательность и некая унесённость... Анна и прежде знала, что её меньшая сестрица охоча до стихов. Но что всё это означает сейчас?..
– Прочти, ежели охота пришла. А чьи же стихи?
– Нет, я сперва прочту. Слушай!
Елизавет принялась говорить на память:
Ах, что есть свет и в свете? Ох, всё противное!
Не могу жить, ни умереть. Сердце тоскливое,
Долго ты мучилось! Неупокоя сердца
Купидон, вор проклятый, вельми радуется.
Пробил стрелою сердце, лежу без памяти,
Не могу я очнуться, и очи плаката,
Тоска великая сердце кровавое,
Рудою запеклося, и всё пробитое.
Анна внимательно слушала. Ритмические строки почти невольно захватывали, возбуждали нежность и жалость...
– Чьи же стихи? – спросила Анна почти нетерпеливо.
– Нет, погоди, я тебе ещё прочту!..
Вы, чувства, которые мне
Одно несчастье за другим причиняете
Вы указуете, вы мне восхваляете
Прелесть Солнца моего!
Солнце улыбается мне,
И вновь – темнота.
Увы, несчастья
Предопределены судьбою...
Это стихотворение уже было немецкое, и Лизета по-немецки его и проговорила. Анна нахмурилась. Неужели это... его стихи? А ведь она и не так много думала о нём последнее время... Его стихи... Это вовсе не порадовало. Почувствовала, что почти гневается. Он не должен был... Это стихи о ней? К ней? Но неужели возможно иное? Почему Лизета сказывает их на память?..
– Чьи это стихи, Лизета?
– Скажи спервоначала, понравилось ли тебе? И которое – более?
– Понравилось ли? Пожалуй. Пожалуй, в немецком более складу. Чьи это стихи?
– Более складу? Возможно. А всё же мне русское понравилось более. Оно такое... Вот Феофана Прокоповича вирши, они торжественные и важные. А песенницы когда поют, хорошо, ладно, о любви, но всё же – не стихи. А тут – стихи. Русские стихи о любви! Но и немецкое стихотворение, и русское – оба писаны одним лицом.
– Чьи стихи? – строго повторила Анна.
Лизета поняла, что более нельзя медлить. Но ничего не сказала, только лицо её сделалось пасмурно. Махнула рукою – туда – на окно. И в этом взмахе девичьей руки были – неопределённость, страх, робость... Туда, на площадь. Туда, где голова отрубленная... Анна поняла.
– Боже! Господи! Елизавета, зачем? Не надобно было... Нет, нет, нет...
Это стихи отрубленной головы! Стихи того, кто превратился в отрубленную, отделённую от тела голову...
Но не должно, чтобы у казнокрада были такие стихи. Нет! А ежели... Но тотчас Анна поняла, что эти строки никак не могут быть обращены к императрице... Стало быть, невиновен? И ничего не было? Стихи – лучшее доказательство?..
– Вот, – заговорила Лизета, – о человеке одно сказывают, а он, выходит, совсем иной. Ведь то, что человек сам о себе сказывает, оно-то и есть правда.
– С чего ты взяла? Разве не может человек солгать?
– В стихах – нет, не может! В таких – не может, – объявила Лизета с торжеством.
– Да что в них ты нашла, в этих стихах? Разве не читывали мы стихи немецкие и французские куда получше, поскладнее?
– Да я о русских! Подумай, русские стихи о любви!
– Откуда они у тебя?
– Маврушка дала списать, в списках они ходят. Я и тебе спишу, если хочешь...
– Хорошо. Спиши на хорошем листе. Благодарю тебя. Мне сейчас одной хочется побыть.
– Аннушка! Ты вот не делишься со мною, позабыла сестру. А я-то друг твой нелицемерный...
– Я знаю, Лизета, знаю. Я верю. Мы поговорим. Но не сейчас. У меня сейчас голова разболелась. Ты пойми! Эти стихи... и участь того, кто написал их... Я побуду одна...
И уже оставшись в одиночестве желанном, никак не могла избавиться, оторваться... нет, и не от воображаемой картины, и не от мысли, а от фразы...
«Стихи отрубленной головы... Стихи отрубленной головы... Стихи отрубленной головы...»
А мысли, пробивавшиеся, прорывавшиеся сквозь навязчивую фразу, были о герцоге, о худеньком, сероглазом... Он ведь не поймёт, что с ней творится сейчас. Он никогда не поймёт. И зачем всё? И кто он? Какой он на самом деле? И какая из неё радетельница о благе государственном? И возможно, всё это – одно прельщение, сама себе внушила о своём призвании высоком. А всего-то выйдет из неё баба несчастная...
И что перевешивает, когда поминают о человеке: обвинения ему или собственный его голос, выразившийся стихами?..
* * *
Перенос останков Александра Невского в Александро-Невскую лавру обставлен был торжественно и в стиле, свойственном государю. Корабли распустили на Неве паруса. Пушечными залпами приветствовали гроб святого князя древнерусского. Огромное стечение народа. Сама императрица и государевы племянницы, герцогини Анна Иоанновна Курляндская и Екатерина Иоанновна Мекленбургская... Приближённые... придворные... Его величество... цесаревны... Герцог Голштинский...
Прежде писали иконы князей, объявленных святыми, изображая их в монашеской одежде, ибо в обычае было на Руси древней предсмертное пострижение. Таковым писали и Александра Невского. Ныне Синод особо постановил: «николи не писать» оного святого князя в одеянии монашеском, а лишь в одежде великокняжеской.
Это постановление было весьма важное. Великокняжеская, мирская одежда святого долженствовала подчеркнуть его мирские заслуги. Пётр продолжал традиции, заложенные ещё первым русским царём, первым венчавшимся на царство, Грозным Иоанном, который первым же вспомнил об Александре Невском. Пётр желал, чтобы истории российской созданы были свои великие полководцы и правители прошлого. История должна была быть таковою, каковою он желал её видеть. История российская должна была быть так писана, сложена, чтобы угодною быть великим правителям великого государства...
Но наследник, наследник Петрова величия... Наследник уже заложенного прочно величия государства Российского... Наследница?..
* * *
Ни Анна, ни герцог, худенький, сероглазый, не принимали в сем действии участия – не полагалось. Брачный договор Карла-Фридриха и цесаревны Анны Петровны улаживали Андрей Иванович Остерман, сам государь и со стороны герцога его приближённые – Бассевиц и Штамке...
За окном полетели снежинки, мелкие, мелкие; превратились, учащаясь, в крупу, мокрую, должно быть...
Лина знала, что вот сегодня решится, решится её судьба...
Козни Меншикова были ей уже известны. Но Андрей Иванович устроил так, что противился не он, а сами голштинцы. Статья о том, что герцог и цесаревна отказываются за себя и за своё потомство от каких бы то ни было претензий на корону Российской империи, не была введена в договор. Бассевиц заметил, что следовало бы ввести статью о том, что Россия обязуется помочь герцогу в достижении шведской короны. Но Андрей Иванович осторожно склонил на то, сколь памятны всем отказы молодого герцога вести даже разговоры подобные. А на предложение о том, чтобы Россия содействовала возвращению Шлезвига, сам государь заметил, что неведомо, когда возможно будет говорить об этом, и посему невозможно, чтобы в договоре писано было.
Вопрос о вероисповедании, столь болезненный некогда для Михаила Фёдоровича, Петрова деда, был решён внуком быстро весьма. Цесаревна оставалась в своей греческой, православной вере, дети её должны были быть крещены по лютеранскому закону...
Далее срядились о приданом – триста тысяч рублей, уборы, драгоценности...
Андрей Иванович заранее предупредил её, что в брачном контракте ничего не будет писано о престолонаследии. И всё же она ждала. Это, кажется, впервые в жизни она ждала с таким нетерпением. Решалась её судьба... Ждала... Истомлённая, невольно отпускала на волю воображение. Ей представлялись все эти парики, склонённые над столом. Осторожный Андрей Иванович. Отец... Отец!.. Отец сухо и спокойно приказывает вписать статью договорную «о сукцессии короны и империи»... Она – законная наследница!..
Мысли эти захватывали, томили. Мыслей о герцоге сейчас не было вовсе. Она знала, что вслед за договором последует заключение брака. А вслед за этим самым заключением брака – первая ночь, опочивальня, она и он – вдвоём, первый разговор наедине... Кажется, её, прежнюю, это занимало бы, чувства её трепетали бы – восторгом, радостью и страхом предвкушения... А теперь она только пыталась заставить себя не надеяться, не вдаваться в это бездумное упоение надеждой... надеждой на то, что впишет, впишет, прикажет вписать... Но ведь Андрей Иванович предупредил... и не надо этого бездумного упоения, не надобно... Ей надобно быть расчётливой и трезвой...
* * *
Вписано, конечно, не было. Вопрос о престолонаследии оставался открытым. Но ведь брачный контракт – это не завещание...
Или она обманно утешает себя, твердя; «Брачный контракт – не завещание, брачный контракт – не завещание...» А на деле утешения эти – самообман. Ежели бы отец был твёрдо уверен, в твёрдой уверенности пребывал бы, и что ему бумаги – завещание ли, брачный договор – всё едино – вписал бы ясными словами чёткими... Но нет, не вписал...
Или она просто не должна, не следует ей столь безоговорочно, безоглядно доверяться отцу... Даже отцу!.. И никому... Она ведь знает, и все знают: вопрос о её замужестве решился чуть не в последний момент... Один только худенький, сероглазый, наивный полагал, что всё давно решено и она – его невеста... И что же она? Глупенькая, наивная? Тоже верила? А никому нельзя доверять, никому... И отцу...
* * *
Да, и вправду никто не ведал в точности, до самого конца, до самого последнего момента – не ведали. Один лишь герцог, худенький Карл-Фридрих счастливо пребывал в полной убеждённости. А Берхгольц, Бассевиц, Штамке – ещё и трусили порядком. А если бы в самый последний момент государь вдруг объявил бы, что желает всё же выдать за герцога младшую цесаревну Елизавет Петровну... И что тогда? Худенький, сероглазый упирается и мчится прочь, схватив под мышку шляпу и в плаще, развеваемом ветром северным холодным. Всё летит к чертям! Все надежды на помощь, на союз этот с империей новой, с Россией, на помощь – в будущем, когда-нибудь – всё к чертям!..
И когда всё завершилось успешно, брачный контракт был заключён, голштинцы вздохнули... хотя никаких письменных обещаний дано не было... Но ведь ещё – впереди – завещание – возможное объявление Анны наследницей...
Покамест Берхгольц записал:
«Надобно заметить, что несравненная, прекрасная принцесса Анна назначена в супруги нашему государю, чего и мы все горячо желали. Таким образом, теперь кончилась неизвестность – на долю старшей или младшей принцессы выпадет этот жребий. Хотя ничего нельзя сказать против красоты и приятности последней, однако все мы, по многим основаниям, желали от всего сердца, чтобы старшая, то есть принцесса Анна, досталась нашему государю».
Дело с парижским сватаньем Елизавет Петровны подвигалось вяло. Государь император Пётр Алексеевич всё хворал, почасту отлёживался в своих покоях.
В другой день после подписания брачного договора герцог впервые был приглашён в покои императрицы – запросто – к семейному столу...
Анна советовалась о своём наряде с мадам д’Онуа. Остановились наконец на белом шёлковом платье. Анна уже была одета, когда доложили о Франце Матвеевиче. Приказала просить. Визиты Санти успокаивали её. Эта всегдашняя мягкость в чертах чуть полноватого лица легко наводила на мысль о том, что всё устроится, уладится; «пронесёт!» – как по-русски говорится. Итальянец с этим своим мягким выражением лица отпускал принцессе дружеские и чуть смешливые комплименты, она невольно улыбалась. Андрея же Ивановича Остермана она побаивалась. У него были такие странные кругловатые брови, и глаза, отчётливо карие, чуть таращились. Когда он только-только начал объяснять ей о государственном устройстве и дипломатии, она чувствовала в его тоне снисходительность невольную. Конечно, он не верил в способности этой девочки, где ей освоить столь сложные материи... Она хмурилась, почти гневалась. Но и вправду было не так просто понять. И часто ей, после французских исторических книг в особенности, казалось, что отец поступил неверно и она, она бы содеяла вернее, лучше... Тогда заставляла себя углубляться в отцовы деяния и видела уже не жестокость, не поспешность, но, напротив, разумную медленность и постепенность. Только это были медленность и постепенность российские, в этом ритме российском, угаданном отцом, в этом ритме, едином с этим ритмом его сердца... И размышляла, размышляла... Да, учреждение Сената, верховного органа управления страной. Он, самодержец, сам назначал членов Сената. Но возможно ли было – в самом начале – иначе? И ведь это преемникам отца надлежит ощутить момент, когда – возможно будет... «Табель о рангах» – новый порядок прохождения службы для дворян. Теперь главным делалось не прежнее – порода, происхождение, но иное совсем – личные способности, навыки, образование. Так поднялись неродовитые дворяне – Толстой, Неплюев, Апраксин. А московский вице-губернатор Ершов, президент Ратуши Курбатов, те и вовсе из крепи, из крепостного состояния выбились... Она твёрдо решила одолеть эту снисходительность своего нового учителя. Спервоначалу думала взять рассуждениями. Но он вовсе не был готов принимать всерьёз рассуждения хорошенькой девочки о политике и державном устройстве. Тогда переменила тактику и стала задавать вопросы. Решила, что иной умный вопрос дороже стоит иного пространного суждения. По-первости он все её вопросы безоговорочно почитал наивными. Но совсем немного времени миновало, и уже отвечал всерьёз, и уже вместе рассуждали... Но всё же она Андрея Ивановича побаивалась. И, быть может, потому, что уставала от этого своего состояния скованности напряжённой в беседах с ним...
А с Францем Матвеевичем беседовать было просто, уютно даже и невольно весело. Вот и сейчас он вошёл, чуть ускоряя шаг на ходу, отдал размашистый поклон, бывший в странном контрасте, в несовпадении с этой мягкостью, выраженной чертами лица. Мадам д’Онуа следовала за ним чуть семенящим шажком, то и дело сгоняя с губ улыбку довольства и притворяясь серьёзной. Анна улыбалась навстречу этой паре. Вид этих немолодых любовников почему-то наводил её на мысль о предстоящем ей (уже так скоро!) замужестве – как-то всё будет...
Франц Матвеевич восхитился искренне ее-нарядом. Белизна шёлка – чистота, драгоценная скромность принцессы великого государства... Но почему без уборов, без украшений?..
– Нет охоты. И это всего лишь семейный обед... И отец не любит...
Он снова рассыпался в комплиментах, в почтительных фразах о Его величестве...
– Но ведь сегодня вы встретитесь со своим женихом, гласно объявленным женихом!..
Усилием воли не дала краске явиться на щёки.
Приказала принести уборный ларец...
Франц Матвеевич тихо сообщил последние вести. День предстоял и вправду необычный. Кажется, государь вот-вот решится... Сегодня был намёк Андрею Ивановичу – кажется, государь император решается приступить вплотную к составлению завещания...
Замерла, кивнула легко...
В покои матери летела, чуть запрокинув голову... Ещё многое предстоит, много тяжеловесного, трудного, даже скучного; много расчётов и мыслей... Но покамест – в этот свой краткий полёт – она позволила себе упиться радугой надежды...
* * *
Напольные часы – золото и филигрань – пробили обеденное время в большом столовом покое государыни. Золотой купидон – языческий божок любви протягивал венок женской фигуре, окутанной в античное покрывало, – олицетворению дружбы.
Цесаревна вошла – белое шёлковое платье, гладкая причёска украшена несколькими флёровыми розовыми лепестками, драгоценностей – нет, одна лишь нитка скромного волжского жемчуга, оттеняющая тонкую шейку.
Худенький, сероглазый вскочил. Ей показалось, что он падает к её ногам... Ах, зачем? Неловко!.. Теперь, когда он был объявлен её женихом, любая его неловкость словно бы тень бросала и на неё... Вдруг ей показалось, что он и вообще очень неловок, и почувствовалось нечто вроде раздражения на него. Это, кажется, было совсем новое для неё чувство... Кажется, прежде она думала (и, должно быть, по-детски совсем), что когда человек уже принадлежит тебе, почти принадлежит, вот тогда-то и начинаешь любить его особенно полно и радостно. А вот оказывается, нет, не так... Оказывается, начинаешь даже и сердиться на него...
Но он не пал к её ногам, лишь поцеловал самый краешек белого платья. Она смущённо взглянула на сидящих за столом.
Отец улыбался как-то болезненно и будто жалел её и одновременно пытался оправдаться перед ней. Это было странно, и делалось так больно в сердце – за него, такого больного и уже старого. И мать рядом с ним была толстая, стареющая совсем, робкая какая-то и будто безмерно – до заискивания – благодарная отцу. Оба они вызывали жалость. И только Лизета сияла свежайшей розовой юностью и радостно улыбалась Анне... Самая младшая их сестра, Наталья, была ещё слишком мала для подобных семейных трапез...
Анна сама не понимала, почему ей вдруг захотелось быстро наклониться и провести кончиками пальцев – брезгливо – по краю своего платья – смахнуть, стереть прикосновение мужских губ... Он предложил ей руку, и было бы неучтиво отказать. Она протянула руку в ответ, и он, под испытующими взглядами двух немолодых болезненных – мужчины и женщины, её отца и матери, – повёл её к столу... Снова она ощутила раздражение – он всё делал не так, не так, как надобно бы; всё у него выходило как-то неловко и слишком... слишком слащаво, что ли... Но когда его тёплые, чуть дрожащие пальцы коснулись её пальцев и взяли её руку – самые кончики её пальцев – так робко и вместе с тем так бережно и с такой глубокой и затаённой нежностью, тогда она вдруг все его неловкости простила ему, и снова любила своего худенького, сероглазого, и радовалась тому, что она – его невеста...
Государь не любил снования по комнатам многих слуг и служанок. Поэтому всё кушанье было загодя поставлено. За столом обеденным, в своём семейном кругу, ему желалось чувствовать себя достойным отцом достойной семьи... Каким достоинством и покоем, покоем заслуженного после честных трудов отдыха дышали обеды голландских бюргеров... Никакой пышности, никаких слуг за стульями стоящих... Семья вкушает отдых, Отец и зять трудились в конторе или на верфи, мать надзирала за хозяйством, дочери шили, рисовали, учились играть на клавесине...
Но всё равно не получалось, как в Голландии. Да и не могло получиться. Даже над этим, над его семейным столом витали тени сословного деления – те, что по рождению принадлежали «к верхам», спесивились, те, что поднялись из «низов», желали побыстрее взлезть на самый верх... Так, как в Голландии, столь милой сердцу, не получалось. Так, как во Франции, в Париже, – упиваться невозможною, невероятною пышностью обихода, – так он не хотел, таковое рано или поздно не доведёт страну до добра... Но как надобно было – в России? Не зналось...
Государыня самолично сняла красивую крышку с большой фарфоровой миски. Вкусным паром задымился наваристый суп. Искоса, чуть пугливо глянула на государя. Последний месяц особенно мучили его запоры, несварение, геморрой – «чечуй». Лекари толковали о мягкой пище – поменее крепких напитков и жаркого с пряностями. Она даже сама осмеливалась советовать ему, остерегать. Слушал. Кажется, верил. Поступал же совсем по-своему. Или и вовсе теперь не прислушивался к её словам? Больно было...
Паштеты, баранина под красным соусом, два пирожных... Всё же – старшей дочери жених впервой обедает с ними... От устриц – устерсов – никак не могла бы отговорить Петра Алексеевича, да и сама была до них охоча, даром, что те же лекари и для её здоровья не полагали устриц полезными...
Стаканы большие – венецианского непрозрачного стекла – расписаны были – в тональности синей – переплетением цветочным и охотничьими сценами. Государь собственноручно разлил белое рейнское, терпкое, с кислинкой. Поднял стакан. Выпил попросту – за счастье, за будущее, грядущее счастье жениха с невестой.
Потянулся стаканом – к Анниной ручке, всеми тонкими пальчиками сжавшей таковой же стакан.
– Ну, Аннушка, мужа своего чтобы любила, почитала и слушала яко главу себе! – Глаза отца, большие, тёмные, смеялись. Но ей больно было видеть набрякшие, потемнелые болезненно веки.
Герцог внимательно вслушивался, пытался понять, но не так хорошо понимал, хотя и заговорил за эти годы сватовства своего по-русски.
Она почувствовала взгляд герцога и повернула к нему голову. Он смотрел робко, восхищённо, доверчиво и серьёзно. И вдруг она вполголоса перевела ему слова государя.
– Нет, нет!.. Это... Этого не надобно!.. – Герцог поспешно вскочил со своего места и тоже потянулся стаканом к её руке.
Лизетка засмеялась громко.
Содвинули стаканы. Выпили. Принялись за еду и ели весело. Говорили о пустяках, об устрицах, какие лучше – остендские, конечно... Герцог сделался хорош, более ничем не раздражал её, не пытался взять за руку, просто был рядом и будто и понимал её, это было хорошо, ладно было это. Но когда он встал, чтобы произнести свой тост, она снова взволновалась – вдруг новая его неловкость... Но он лишь поднял руку и сказал:
– За то, чтобы наши желания сбылись!
Голос его сделался немного неуверенным. Она подумала, что он быстро пьянеет и, стало быть, следует остерегать его от злоупотребления крепкими напитками. Но давать ему подобные советы – как это будет унизительно для неё!.. Впрочем, нет, не должно быть унизительно, ведь она любит его...
Государь объявил, что по окончании обеда уйдёт к себе – соснуть. Наказал Анне вечером, до ужина, быть к нему...
Сердце её забилось. Лицо матери выразило озабоченность и пугливое уныние. Лизета сразу посерьёзнела – поняла всё. Один только худенький, сероглазый ничего будто и не понял, но закивал, показывая свою уже причастность к этой семье...
* * *
Вечером Анна сидела у государя. Пётр Алексеевич полулежал в кресле, послеобеденный сон не освежил его. Он глухо говорил, что не пишет завещания вовсе не потому, что решение своё об Анне изменил, нет, но ведь она знает, она понимает, он должен для неё наметить путь...