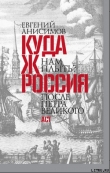Текст книги "Гром победы"
Автор книги: Фаина Гримберг
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)
– Я не знаю, проще или не проще! – Анна раскраснелась. – Я совершенно ничего не знаю. Но сейчас моя мать будет на троне. И поверьте мне, и не полагайте мои суждения пустыми словами взбалмошной девицы! Я... это чутьё!.. – Она замерла, протянув тонкую руку на траурное платье...
Чутьё!.. Но не то, высшее, служащее ко благу великого государства, нет, не то чутьё, о котором говорил отец. А какое-то совсем другое, куда помельче, поуже и попроще... И неужели никогда не почувствовать ей того, иного чутья, высокого?..
Она взяла себя в руки и спокойно объяснила графу, что если её мать будет сейчас на престоле, остаётся ещё надежда, возможно будет начать борьбу с Меншиковым...
Санти выслушал. Она не понимала, не чувствовала, согласен ли он с нею. И всё то же чутьё заставило её ободрить графа:
– Ни о какой вашей опале, вашей ссылке сейчас не будет речи. О, поверьте моему внутреннему убеждению! Батюшка называл это «чутьём»...
Франц Матвеевич откланялся...
На это внезапное чутьё девочки он не особо полагался и мысленно просчитывал возможности отступления и сохранения себя. Но этому чувству самосохранения мешало это желание всё-таки попытаться... Ведь любое дело может выгореть, удача может прийти наперекор всему и вся... А он всё же был человек азартный в определённом смысле. Да и после его поведения тогда, когда император умирал... Нет, фактически уже и не было возможности отступить...
* * *
Воцарение императрицы Екатерины I совершилось, однако, просто и легко. Утром сенаторы съехались во дворец. Кажется, никому не было ясно в полной мере, что же сейчас произойдёт. Меншиков, кабинет-секретарь Макаров и Феофан Прокопович явились в залу к собравшимся. С достаточным спокойствием Меншиков объявил о том, что крепость окружена верными императрице полками, Синод готов признать Екатерину Алексеевну правительницей и – быть может, важнейшее – государственная казна также обретается в руках императрицыной партии.
Забили барабаны. Два отборных гвардейских полка окружали дворец.
Екатерина Алексеевна, коронованная и миропомазанная императрица, вдова Петра Великого, сделалась правительницею государства большого и возрастающего.
* * *
Вновь и вновь Анна пыталась обдумать «решительно все». Она проиграла. Можно, впрочем, было убеждать себя, лавируя, что она не проиграла окончательно, что она всего лишь покамест проиграла. Или это было бесполезное самоубеждение? Самообман?
Анна сердилась на себя. Как же она могла не понять, не догадаться, не предусмотреть? Что она думала? Как она предполагала составить заговор, собрать партию, которая за неё, Анну Петровну, будет стоять? Да, она полагала, что всё сделается само собою, каждый сам сумеет соблюсти свою выгоду. Каждый соблюдёт свою выгоду уже после... после победы... Она была глупый ребёнок. Прежде всего необходимы не пустые мечтания и надежды, не обещания и посулы, но деньги. Для составления заговора, для собственной партии необходимы деньги...
Какие деньги имеет она? Те, что отец дал за нею в приданое. Даже Меншиков не посмеет нарушить брачный контракт, не исполнить эту волю государя. Но для того чтобы получить деньги, ей надлежит вступить в брак. Но более всего на свете ей хотелось бы сначала добиться, взойти на всероссийский престол, наметить, начать какие-то свои державные действия, и только потом, словно бы чуть отдышавшись, передохнув, сделаться супругой, понять характер герцога, и после (когда всё уже совсем отладится) даже сделаться матерью... И, подумав об этом последнем, она покраснела...
Впрочем, не приходилось долго краснеть и смущаться, надобно было думать. Итак, замужество даёт ей деньги на составление заговора в собственную пользу. Но как это будет трудно – одновременно – составлять заговор и быть женою худенького, сероглазого, приглядываться к нему, понять его... Но, кажется, у неё нет иного исхода... Или всё же есть? В конце-то кондов, ныне на престоле – её мать. И разве она, Анна, не старшая дочь, не наследница своей матери? К чему тогда устроение заговора?..
Однако чутьё (ага! пробудилось всё-таки чутьё; и пусть не то, о котором мечтала, но пробудилось) и чутьё подсказывало беспощадно, что не будет покоя и придётся браться за всё сразу: выходить замуж, составлять заговор, следить за Меншиковым и осторожно обхаживать мать... Всё сразу!..
* * *
Вскоре те, кого можно было полагать сторонниками возведения на престол малолетнего Петра Алексеевича, разлетелись по ссылкам. Чего желал Меншиков? Многие не понимали. Желаний своих он не открывал. Екатерина, кажется, полностью была зависима, в его руках была. Как поладит он со своими сторонниками, что посулит им, как будет поделена власть, ещё не было ясно. Не была ясна и дальнейшая, грядущая судьба всероссийского престола. Всех это занимало, все гадали и раздумывали, но догадывались и понимали не все. Разговоры об отдаче замуж принцессы Елизаветы за границу не смолкали. Но всё менее толковали о Франции и всё более – о немецком браке... Но то, что Елизавет Петровна не останется в России, казалось совершенно ясным.
Внуки Великого Петра, ещё недавно так мало привлекавшие к себе внимания, теперь представлялись многим особами в определённой степени значительными. И наконец – Анна, Анна и герцог, её жених, особенно почтительны стали теперь к ним. Но Анна всячески внушала себе, что подобная почтительность видимая вовсе не должна успокаивать её, повергать в беспечность. Нет, нет, время успокоения ещё не пришло. Или не придёт никогда.
* * *
...Мать выглядела дурно – отёчная, жёлтая, растерянная и какая-то чуть диковато-замкнутая от этой своей растерянности. Императрица всероссийская! Двадцатью годами моложе отца, она теперь виделась старее его такого, каким он сделался перед кончиною своей. После смерти отца Анна впервые говорила с матерью наедине.
Лишь только увидев старшую дочь, Екатерина Алексеевна в голос зарыдала, толстое отёчное лицо заморщилось страдальчески. Обнялись и заплакали. Мать, столь страшно подурневшая, вызывала в дочери невольное чувство брезгливости. От матери пахло болезнью. Анна была благодарна, когда мать отпустила её и возможно стало сесть. Вдруг Анне пришло на мысль: насколько сложен и неоднозначен человек, даже такой, казалось бы, простой человек, как её мать.
Мать искренне заплакала об отце, ярко вспомнила о нём, увидев Анну, и Анну жалела и любила искренне. Но всё же в матери сейчас Анна видела притворное; то самое, то простонародное, простодушное, открытое и жестокое притворство. И разговор вышел не то чтобы неладный, а нескладный какой-то. Анна сразу поняла, что лучше всего – молчать. И стойко противостояла искушению вставить хоть словечко в эти полившиеся потоком бессвязные материнские утешения и уговоры.
Мать клялась бессвязно и заверяла Анну, что всегда будет стоять за неё, не предаст, и что надобно терпеть и не делать ничего супротивного... Анна прикусила губу. Едва не вырвался вопрос: «Ничего супротивного? Кому?» Будто она не знает, кому! Меншикову!.. И будто мать не знает об этом дочерином знании! Но незачем свои знания показывать, даже если всем они ведомы, известны...
Мать всё говорила, говорила. И поглядывала искоса на старшую дочь. И Анна видела в материном взгляде это простодушное, и жестокое, и пугливое недоверие. И сама Анна была теперь далека ат искренности и отдавала себе в этом полный отчёт.
Анна взяла руку матери, ласково погладила.
– Успокойся, я верю тебе. После отца... – Анна приподняла руку невольно властным жестом, и мать не решилась снова зареветь в голос, – после отца у меня ты одна осталась. Я желала бы устроить свою жизнь... – Мать вздрогнула; Анна сделала вид, будто не замечает. – Я полагаю, следует спустя недолгое время объявить день свадьбы...
– Я всё для тебя... всегда... – Мать приняла этот немного раздражающий тон бессвязного разговора, будто и приличествующий неутешной вдове, избавляющий от прямой ответственности за свои слова. – Когда?..
Это уже был нормальный вопрос, на который возможно было дать нормальный ответ. Анна подавила вздох облегчения.
– Я думаю, весной, – отвечала, – в мае, пожалуй, во второй половине. Остальное – на твоё усмотрение...
Два месяца Анна оставляла себе на размышления, на оглядывание...
– Как прикажешь! – Мать не отдёргивала руку, смотрела на Анну, будто искала поддержки.
Анна держала руку матери и думала, как сказать о том, что желала бы посетить племянников – Петра и Наталью. Сначала хотела просто сказать, поставить, что называется, в известность. Но теперь, держа руку матери, поняла, как надо сказать. Пусть мать знает и пусть хотя бы немного полагает, будто Анна советуется с ней...
– Надобно навестить Петрушу и Наташу, племянников, – произнесла Анна просто, естественно. – Уместно это, как ты полагаешь?
На лице матери обозначились недоверие, страх. Анна понимала: мать боится, как бы поведение Анны не вызвало гнева Меншикова.
– Как ты посоветуешь? – спросила.
– Да я... Да зачем?..
И этот вопрос материн был прямой, почти доверительный.
– Затем, – отвечала Анна, – чтобы иные не думали, будто я труслива. Иные, понимаешь!
Мать закивала. Куда как понимала, что «иные» – это Меншиков.
– Я ни на что не претендую, но я не хочу выглядеть униженной и трусливой...
– Что же, ступай к ним, поезжай, пожалуй...
– А ты успокойся, я верю тебе и потому никакого беспокойства тебе доставлять не буду...
* * *
...Так! Мать успокоена.
Карету раскачивало из стороны в сторону. Анна – в который уж раз! – вновь и вновь сердилась на себя.
Она раньше, гораздо раньше должна была навестить племянников, Она должна была почасту навещать их. Какая это ошибка – забыть о них! И разве она не понимала прежде, что они – её соперники?.. Но её положение казалось таким прочным, за ней был – отец, её великий отец!..
Она уже совершенно не помнила себя прежнюю. Не помнила, что ещё совсем недавно была просто девочкой, застенчивой девочкой с огоньками озорства в чёрных глазах; и верила почти безоглядно и радужно в себя на российском престоле. Но теперь она не помнила, да и не хотела помнить. Для неё теперешней она прежняя была наивна и неумна...
Девушка-служанка внесла за ней большую деревянную коробку, оклеенную пёстрой бумагой. Одиннадцатилетняя Наташа и десятилетний Петруша с первого взгляда поразили Анну своим сходством с дедом, с императором... Когда она видела их в последний раз? Какими глазами смотрела на них?
Дети были не по возрасту крупные, рослые. Наташа почти не открывала рта. Но это не были детская застенчивость, диковатость, нет; кажется, это была уже осознанная ненависть. К ней? К Анне? Да, и к ней. Анна невольно позавидовала этой девочке. Сама Анна не была такой взрослой в одиннадцать лет.
Девушка-служанка по приказанию Анны развязала бечёвку, сняла крышку, Анна собственноручно вынула штуку дорогой шёлковой материи, из тех материй, что отец дарил. Протянула девочке, улыбнулась. Та не ответила улыбкой, материю взяла, поблагодарила коротко, материю отложила на небольшой столик. Глаза Петруши сверкнули любопытством на большую нюрнбергскую куклу-солдата. Анна поставила куклу на пол, изящно присела над ней, повернула особливый ключик. Петруша следил. Кукла сделала несколько широких шагов. Анна чувствовала восхищение племянника. Кукла остановилась, завод кончился. Анна заметила, как Наташа двинула рукой, будто останавливая брата. Петруша не взял куклу. Наташа вновь произнесла слова благодарности – короткие и учтивые. Видно было, что брат и сестра очень дружны. Всего лишь годом старее брата, Наташа вела себя, как старшая. Анна испытывала неловкость. Дети смотрели на неё. Девочка – с враждебностью почти открытой. Мальчик – букой, перенимая враждебность сестры. Оставалось лишь одно – уйти.
Но тут у двери заговорили, зашаркали башмаками. Вошли в гостиную двое. Одного цесаревна узнала тотчас. Это был её давнишний знакомец – Семён Афанасьевич Маврин, прежде государынин паж, ныне – один из учителей маленького Петра и его сестры. О втором вошедшем Анна много слыхала, но не могла вспомнить, видела ли его прежде. Он давно не являлся при дворе. Кажется, послан был государем для исполнения каких-то работ инженерных... Но о нём много говорили. «Царским арапом» звали его. Имя его было – Абрам Петрович Ганнибал. Кожа его и вправду была темна, очень смугла, но глаза, миндалевидные, карие, с белками очень светлыми, будто глазурованными, смотрели тепло и даже красиво. Он был сухощавый и ходил как-то быстро и странно...
Дети оживились, подбежали к новопришедшим весело и дружелюбно.
– Ах ты, княжна Алексеевна, плутовка ты моя! – Абрам Петрович протянул тёмную руку, желая потрепать Наташу по головке.
Девочка уклонилась и живо рассмеялась.
– Вы мне нарочно куафюру треплете, Абрам Петрович, чтобы я хуже Катеньки гляделась! – шутила девочка.
Темнокожий подхватил её смех.
Маврин радостно приветствовал цесаревну.
– Какими судьбами вы здесь, Семён Афанасьевич? – Анна была рада, что напряжённость разрешилась и ей теперь не придётся уходить поспешно как нежданной гостье.
– Да я уж год как назначен учителем грамоты к внукам государя, – отвечал Маврин. – Абрам Петровичу же вменено обучение математике и геометрии...
– Давно ли? – с видимой рассеянностью спросила Анна.
Наташа вновь кинула на цесаревну-тётку враждебный взгляд. Анна почему-то попыталась вспомнить, ведомо ли ей о назначении Маврина. Нет, не могла вспомнить. Да её и не занимало подобное.
– Уж год, Ваше высочество, по распоряжению Его величества государя. А ныне вот и Абрам Петрович... по распоряжению государыни... Такого геометра, как он, я полагаю, ни в Париже, ни в Лондоне не сыщешь!..
«По распоряжению государыни, – думала Анна. – Стало быть, это Меншиков распорядился. Такое внимание. Зачем?.. Зачем?! О, Пётр Меншикову нужен! Анне это хорошо известно...»
– Вы, должно быть, не помните меня? – обратился к ней Ганнибал. И голос его звучал чуть странновато, горловой какой-то голос...
– Увы! Крайне смутно...
Маврин очень удачно делал разговор лёгким и даже весёлым.
– Абрам Петрович ныне занят по меньшей мере двумя предметами. Написанием некоего изумительного учебника геометрии и фортификации, а также – собственной женитьбой. В Греческой улице изволит свататься к дочери капитана галерного флота Диопераса. Вот уж поистине, что с детства знакомо...
– Ну, оставь... – сдержанно бросил арап. Но в этой сдержанности ощущалась странная непонятная сила.
Маврин дружески положил ему руку на плечо...
Маленького Ибрагима и ещё одного темнокожего мальчика, которого Ибрагим полагал своим братом, привезли из Константинополя. В русском крещении мальчики получили русские имена. Ибрагима назвали Петром, крёстным отцом его был сам государь. Второй мальчик получил имя – Алексей, однако он скоро умер. Ибрагим же оказался не только крепким и здоровым, но и упрямым. Он во что бы то ни стало желал называться своим прежним именем и ни за что не откликался на «Петра». В конце концов стали звать его Абрамом, переиначив на русский лад турецкое «Ибрагим».
Давным-давно Абрам Петрович покинул Константинополь-Стамбул, а где родился, и сам не мог бы точно сказать, но по-прежнему сердце его волновалось при звуках турецкой или греческой речи. В Греческой улице имел он много знакомцев и там намеревался устроить свой брак. Но в то же время он видел для себя в подобном браке и нечто унизительное. По его честолюбию ему бы породниться с дочерью или внучкой российского дворянина, но увы! Тёмная кожа и столь же тёмное происхождение этому препятствовали...
Однако завязался лёгкий приятный разговор. И Анна Петровна с удовольствием заметила, что Петруша занялся куклой, а Наташа не только не препятствует ему, но даже улыбается.
Но вдруг маленький Пётр поднял голову на лёгкий шум в соседней комнате и прислушался.
В следующее мгновение он уже летел к двери, громко крича:
– Ваня! Ваня!..
Оживилась и Наташа, и поглядывала на дверь выжидающе и весело. Мужчины, вероятно, уже знали, кто это явился и что сейчас произойдёт, и улыбались тепло. Анна изображала улыбкой безмятежность. Ей казалось, будто это впервые в своей жизни она улыбается настолько притворно, настолько открыто притворно...
Петруша выбежал из комнаты и тотчас возвратился, но уже не один; с ним был мальчик чуть старше его, они вошли в обнимку, радуясь друг другу. Следом за ними, за руку с гувернанткой вошла девочка удивительной красоты, личико её было необыкновенно чистое и гладкое, тёмные бровки необыкновенно изящны. Наташа тотчас заговорила с ней. Видно было, что Наташа к этой девочке привязана. Анна не знала этих детей.
В сущности, она и не стала бы интересоваться ими, если бы не одно обстоятельство: за подобной нежной дружбой детской несомненно должны были стоять взрослые...
«Кто же счёл для себя выгодным подсунуть Алексеевым наследникам своих младенцев? – подумалось... и сразу же: – Однако я становлюсь цинична...»
– Катенька... милая моя... – весело болтала Наташа. Гостья отвечала сдержанно, будто уже сознавая свою необыкновенную красоту и этой красотой гордясь.
Следующим гостем оказался Андрей Иванович Остерман...
Вот когда понадобилась Анне сила воли! Сейчас надо было быть совершенно непринуждённой, лёгкой...
– Андрей Иванович! – Маленький Пётр кинулся к нему, увлекая за собой другого мальчика, Ваню.
Стало быть, Андрей Иванович здесь не впервой и Петруша уже успел привязаться к нему. Андрей Иванович поклонился Анне.
Она поздоровалась с ним непринуждённо. Очень боялась, что непринуждённость её покажется нарочитой. Но, слава Богу, кажется, нет... И всё равно, не совсем ясно было, как вести себя... Решила изобразить полное и невраждебное равнодушие. Не могла понять, насколько ей это удаётся. Завязался общий бессвязный разговор. Анна сказала весёлым звонким голосом, что не желает мешать занятиям детей. Приметила, как дети царевича Алексея показывали своим маленьким гостям её подарки… Андрей Иванович заявил непринуждённо и тепло, что её высочество ничему и никогда не может помешать, а только лишь содействовать... Анне было больно оттого, что этот государственный ум не желает поддерживать её; от осознания этой его неподдержки делались уныние и неуверенность...
Но всё же чему-то и Анна выучилась. Кинула взгляд на Семена Афанасьевича. И он понял этот взгляд и вышел следом за цесаревной. Служанка шла поодаль. Теперь можно было не притворяться очень уж непринуждённою. В конце-то концов, она имеет право на самое простое любопытство.
– Кто эти дети? – спросила она. – Девочка очень хороша...
– Князя Алексея Григорьевича Долгорукова, – почтительно отвечал Маврин, – княжич Иван Алексеевич и княжна Екатерина Алексеевна.
Анна более ни о чём не спрашивала и простилась со своим давним знакомцем с большою теплотой...
Строгий траур препятствовал устройству каких бы то ни было приёмов, и это было на руку Анне, Она могли всласть размышлять. Никто не дивился её обычно печальному и рассеянному виду. «После смерти отца Анна Петровна в страшной тоске, – записывал Берхгольц, – потому что император всегда показывал неописанную нежность и любовь к обеим дочерям, и в особенности к старшей».
Конечно, нельзя было сказать, что Анна не тоскует об отце, но не одна лишь эта тоска занимала её.
Подумавши, она приняла твёрдое решение не навещать более племянников. Незачем навлекать на себя излишнюю подозрительность Меншикова этими ненужными, в сущности, визитами. И без неё вокруг сирот Алексея Петровича уже свивается осиное гнездо планов, намерений, надежд. Ментиков и Долгоруков уже соперничают, наперебой подсовывая мальчику своих дочерей. Но, кажется, Долгоруков преуспевает более. Его Катенька – красавица. Анна напрягла память и попыталась припомнить малолетнюю Машу, старшую дочь Меншикова. Кажется, довольно заурядное и даже и некрасивое личико... И Андрей Иванович тоже в этой мутной водице очутился. Какую рыбку ловит?.. Он-то умён!.. А впрочем, пусть они сами рвут глотки друг другу, Анна покамест устраняется, её там не нужно...
И вдруг очертился перед глазами темнокожий человек, и будто заслышался его странный, чуть горловой голос... И почему-то забилось сердце, совсем по-прежнему, как в те, ещё недавние дни, когда мыслила о благе России так возвышенно, не погружаясь ни в какие интриги, не заглядывая ни в какие осиные гнезда... И вдруг показалось отчётливо, будто небывалое чьё-то (Божественное?) чутьё готовит России нечто небывалое, чудесное, сказочное... через этого, темнокожего, через «царского арапа» Ганнибала... Фамилию «Ганнибал» измыслил для своего Абрама Петровича сам государь Пётр. Ганнибалом звали победоносного полководца древнего африканского государства – Карфагена... И всё, всё должно было соединиться – Карфаген, Ганнибал, гусиное перо, всё многообразие мира – в стихах русских о любви...
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан...
То, что отец называл «чутьём»... Но ежели самое высокое чутьё простирало покров над Россией, Божественный промысел... тогда не страшно!..
* * *
...В уголку малой гостиной мадам д’Онуа вязала своё кружево – филе. Кроткая старушка в чёрном. День выдался пасмурным, рано внесли свечи.
Худенький, сероглазый сидел прямо перед цесаревной. Гладкая мраморная столешница разделяла их, язычки пламени смутно отражались, будто растекаясь в мраморе. Если бы сидела совсем близко к нему, Анна, наверное, побаивалась бы, чувствовала себя скованно... а так ничего... Лицо его казалось таким смутным по очертаниям, таким тонко нежным; серые глаза увиделись ей такими неопределённо большими и тоже – нечёткими какими-то и словно бы жалостными... и такими внимательными-внимательными...
– Почему? – спрашивала она. – Почему это невозможно, невероятно: всё время жить высоко? И ведь это сама жизнь, не даёт, не позволяет удержаться на высоте, так грубо швыряет в какое-то болото, в какую-то невыносимую трясину!.. Почему так мало высоты отпущено одному человеку, каждому отдельному человеку?..
Он, казалось, слушал напряжённо. Казалось, он в полной мере понимал её. Но в глубине души своей она сознавала, что он не понимает её вовсе, а просто любит, Он её любит и потому с восторгом слушает её голос. Если бы ему было ясно, что она говорит глупости, он восторгался и умилялся бы её наивностью. Но теперь ему ясно, что его невеста говорит нечто умное и даже глубокомысленное, и вот он восторгается и умиляется её умом... А на самом деле ему всё равно. Он просто любит её, и оттого ему всё равно... А она гонит прочь эти трезвые мысли и хочет верить, будто он понимает...
– Высоко! – проговорил он с придыханием – О, я понимаю, что это такое – высоко... Это можно желать... Это пожелание... «Hoch soil er leben!» – «Да живёт он высоко!»... Но это всего лишь пожелание. Это невозможно – всегда!..
Кажется, он баялся смотреть на неё и боялся разочаровать её. И вдруг произнёс решительно:
– Для Вас я желал бы – всегда... навсегда... наперекор всей жизни!.. – Она тоже любила его, и потому в его простых словах ей чудился глубокий смысл, а на самом деле не было глубокого смысла, была только любовь к ней... Она что-то пропустила, не расслышала слов, одно лишь звучание голоса восприняла... И вдруг... – Я желал бы... я хотел... слиться в поцелуе... блаженство...
– Нет! – вскрикнула испуганно...
Мадам д’Онуа подняла голову в тёмном чепце, чуть настороженно. Анна досадливо и нетерпеливо махнула ей рукой – да нет же, нет, ничего не случилось!..
– Я оскорбил Вас?.. Простите меня!.. Ваши желания – закон для меня...
– Вы не можете оскорбить меня, – серьёзность и детскость её тона смущали её саму. – Вы не можете оскорбить меня... Но я бы попросила Вас... не теперь!.. – Голос её сделался почти молящим.
– О! Я понимаю...
Он поднялся. Она тоже поднялась из-за стола, приблизилась. Что же он понимал?
– Вы позволите? – Он уже склонялся.
– Да, – коротко и почти сухо.
Он коснулся губами края платья. Откланялся...
И всякий раз, когда он вот так – робко, почтительно и всё же и настойчиво – целовал край её одежды, ей непременно после хотелось смахнуть, стереть прикосновение этих губ – смахнуть кончиками пальцев, стереть кружевным платочком...
* * *
Царствование Екатерины Алексеевны, порфироносной вдовицы, императрицы Екатерины I, шло. Давняя её приятельница Матрёна Балк, сестра несчастного Монса, прощена была вместе со своими детьми и возвращена из ссылки. Окончательно прощены были и сторонники «первой вдовы» Петра, царицы Евдокии – старицы Елены, она сама была жива, но никто уже не опасался её вмешательства в дела государства, в борьбу за власть.
Меншиков рвался к правлению. Однако Сенат, учреждённый Петром, нельзя было так просто отменить. И те ещё орешки были иные сенаторы – зубы обломаешь!
Анна наказала своей мадам д’Онуа, пусть ведётся исподволь наблюдение за всем что происходит при малолетних племянниках, Алексеевых сиротах...
– Это наблюдение – в ваших и Франца Матвеевича интересах!..
Но расстановка сил при внуках государя оставалась прежняя, уже знаемая Анной. Князь Долгоруков и его супруга, урождённая Хилкова, не являлись, однако дети их приезжали почти ежедневно, кушали, играли, учились вместе с Петром Алексеевичем и его старшей сестрой Натальей. Вследствие сохранения Сенатом определённой силы, Меншиков не мог открыто устранить Долгорукова. Дочерей светлейшего князя, Марию и Александру, также стали привозить к сиротам Алексея Петровича. Явно по настоянию Александра Даниловича приглашались и дети царевича грузинского. Стало быть, нужно это зачем-то было Меншикову...
Шумная и на первый взгляд беззаботная атмосфера детского праздника царила в жилище Петра Алексеевича и Натальи Алексеевны. Но Анна уже не могла этим видимым детским праздником обмануться. Это всё было внешнее, на сцене. А за кулисами, в полутьме, другая шла игра. И роль Андрея Ивановича делалась Анне всё более ясна. Казалось, он одним лишь занимался: уроками Петра Алексеевича. Пригласил ещё учителей. Но Анна почему-то чувствовала: не будет победы Меншикову, и Остерман так действует, что Меншикову победы не будет... Вспоминала свои занятия с Андреем Ивановичем... Но только не раскисать, не раскисать! Он ещё увидит, что такое она, и будет на её стороне!..
* * *
...21 мая 1725 года, 21 мая 1725 года... День свадьбы близился.
Анне минуло семнадцать лет.
Весна летела на Петербург полыми водами, зеленью Летнего сада, белыми ночами незаходящего солнца...
Начала проясняться судьба цесаревны Елизавет Петровны. Французское сватовство окончательно заглохло. Но, кажется, шестнадцатилетняя Лизета не особо печалилась, давно уж не верилось ей в перспективу блистательного Парижа-парадиза. Из города Любека явился очередной немецкий принц – Карл-Август. Теперь Лизету предназначали ему. Знакомство с женихом заняло и веселило её. С Анной видалась и говорила нечасто; казалось, давно миновались недавние ещё времена их теснейшей дружбы девической.
Свои заботы были у Анны... Деньги!.. То, что отец обязался дать за ней. Она подала прошение в Сенат о выплате ей этих денег в течение короткого времени после свадьбы. Была и резолюция проставлена о выдаче денег. Деньги были очень важны для неё. Здоровье матери ухудшалось с каждым днём. Порою Екатерина Алексеевна по целым дням не подымалась с постели после припадков с приливами крови к голове. Все спешили выстраивать, готовить своё будущее – Меншиков, Долгоруков, Андрей Иванович Остерман... Анна тоже спешила... Полученными деньгами, золотом, возможно будет оплатить услуги своих сторонников... Иногда смутно, вяловато шевелилось в душе чувство жалости к матери, столь уже больной и, должно быть, умирающей, да, умирающей... Но чувство было вялое, почти насильственное, и скоро уходило...
А Лизета вовсе не мыслила ни о чём важном. Радовалась наступающим тёплым дням, новой карете, новому платью, и – «при батюшке-то потеснее было...». При батюшке, при великом Петре, и вправду было «потеснее», а теперь сделалось вроде как «просторнее», то есть появилось больше денег на разные разности, на баловство, подарки посыпались...
Лизета была теперь с Анной уклончива, хихикала и улыбалась с видом девицы, имеющей свои тайны. Однажды Анна спросила её о женихе, о Карле-Августе из Любека, заметила, что он довольно привлекательный молодой человек... Меж собою они звали его «bischof» – епископ. Он и был епископ, принц и епископ...
– Бишоф-то? – Лизета захихикала от полноты души... – Ах, негасимый огнь!.. – И снова захихикала...
Это было как-то легкомысленно и совсем не походило на Аннины чувства, и оттого казалось Анне совершенно пустым... Впрочем, Лизета и всегда-то была пустышкой, чего греха таить...
Выплачена была малая часть приданых денег.
Расходы на саму свадьбу, конечно, по мнению Анны, должны были быть оплачены из казны.
Доложили о герцоге. Она приказала просить.
Разговор вышел странный. Сначала Карл-Фридрих говорил что-то о любви, о взаимной любви, о возможности счастья... Слова ей казались пустыми и необязательными... Наконец он заговорил о чём-то конкретном, определённом, важном для него, и она стала слушать...
Он говорил, что он должен, он просто обязан взять на себя часть расходов на свадьбу... И... и он должен ей дать достойное её жилище... И по-прежнему он ничего не может предпринять для возвращения Шлезвига, «их Шлезвига»... и при этой пышности, присущей ныне российскому двору... Он не может уронить в грязь... но не должен... он обязан ради неё, обожаемой Анны... О, разумеется, он предпочёл бы уехать немедленно после свадьбы, но приличия...
– Куда уехать? – спросила отчуждённо.
Он будто и не понял, что её вопрос является сам по себе возражением. Но неужели он подумал, будто она просто спрашивает, потому что не знает...
– Разумеется, в Киль, в нашу столицу... – Голос его зазвучал даже энтузиастически.
– Мы никуда не поедем из России. – Она досадовала на свой тон – выходило вопреки её желанию совсем по-детски...
Он понял по-своему.
– Вас тревожит здоровье, здравие Вашей матушки... Вы не желаете оставлять её...
Вдруг ей надоели все эти уклончивости. Надо же когда-нибудь покончить с ними! Так сейчас!..
– Сядьте, Фридрих. Я хочу говорить с вами серьёзно.
Прежде чем сесть, он чуточку помедлил. Это промедление вовсе не понравилось ей. Что-то супротивное ощутилось ей в этом его промедлении. И это сейчас, ещё до свадьбы! Что же будет после?.. Нахмурилась. Он поспешно сел на стул, отстоящий от стола.
Она сама не садилась, стояла.