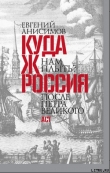Текст книги "Гром победы"
Автор книги: Фаина Гримберг
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 22 страниц)
Ах, как она после ругала, бранила себя за все эти глупые расклады! Разложила! Расписала по-писаному! Сколько времени зря, понапрасну пролетело... Голова думная!.. А судьба всё по-своему повернула!..
Болезнь Петра Алексеевича приняла совсем уж нехороший оборот. Долгоруковы засуетились, пытались скрыть, что императору совсем худо. Цеплялись за надежду свою, уже пустую, зряшную, – вдруг ещё поправится или хоть ненадолго встанет – успеть бы обвенчать. Но пустой этой надежде не суждено было сбыться.
Как это часто бывает (и многие это замечают), перед самой смертью Пётр Алексеевич сделался тем, чем и полагалось ему быть по его возрасту, – пятнадцатилетним мальчиком. Это бывает часто, когда люди, зрелые не по годам, принуждённые рано созреть, вдруг преображаются перед смертью, словно бы телом и духом обретают свой истинный возраст.
Пётр бредил и звал сестру Наташу, самого близкого человека. А то вспоминал о Ване, о друге своём, и тогда шептал еле слышно:
– Ваня! Ваня! Друг! Прости!
И надобно сказать к чести Ивана Долгорукова, что он не покидал больного, несмотря на страшную опасность заразы.
И другой человек, не юноша, взрослый, немолодой, призываем был императором, и пришёл, и сидел у его постели. И он почитал последние желания больного важнее этой страшной возможности заразиться. Он брал мальчика за руку и держал. И мальчик, не знавший отца, пытался благодарно пожать эту большую мягкую руку.
– Андрей Иванович! Милый Андрей Иванович, я буду учиться! Не уходите, не оставляйте! Останьтесь со мной!..
И Андрей Иванович не уходил. Но думал, мягко удерживая пальцы умирающего мальчика, а какие меры следует после принять, чтобы не заразить жену Марфу Ивановну и маленьких своих сыновей.
Но только ли одною искренней добротой объяснялись поступки Ивана Долгорукова и Андрея Ивановича Остермана? Да, они не навязывались, больной сам призывал их. Но ведь он всё же был не просто мальчик – император всероссийский, Пётр II. И он должен был назвать имя своего преемника...
Он не назвал...
Или назвал, но выбор его утаили? Разумеется, тотчас поползли слухи: выбор был, выбор утаён. Кем? Долгоруковыми и Остерманом? Зачем? Да и кого он мог назвать? Если бы сестра его была жива? Да, он бы назвал её. Но она умерла. Если бы дозволено было назначать на престол кого угодно, невзирая на отсутствие .родственных связей с государем, он бы оставил престол Ване своему. Но так было нельзя, не было дозволено. А кто будет править из его тёток, какое ему до этого было дело! Равно не было ему дела и до совсем маленького мальчика в городе Киле, которого отец, герцог Карл-Фридрих Шлезвиг-Гольштайн-Готторпский, брал на руки и учил произносить слово «Шлезвиг». «Шлез-виг...»
Умирающий император не назвал никого. Ему просто некого было называть.
* * *
1730 год, ночь с 18-го на 19 января. Смерть Петра II. Елизавет Петровне минул уже двадцать первый год. Тою же ночью срочно собрался Верховный тайный совет. Были здесь Долгоруковы, граф Головкин, князь Голицын, Ягужинский и... все прочие. Собственно, их никто не уполномочивал избирать нового государя. Но надобно ведь было что-то делать!
Алексей Григорьевич Долгоруков понимал, что ныне решается для него и его детей всё! Если он сейчас не добьётся, его ожидает судьба выскочки Меншикова – опала в глуши, в ссылке. Это его, Рюриковича! Хотя кого ныне удивишь ссылкой, и прежде не дивились.
Алексей Григорьевич потребовал корону для своей дочери Екатерины, «яко для обручённой невесты». Да, повенчаться не успели, но обручение, обручение-то состоялось!
Сторонниками Долгоруковых оставались лишь сами Долгоруковы. В сущности, о Екатерине Алексеевне (полная тёзка первой императрицы!) вопрос не стоял вовсе. Из претендентов реальных и возможных учитывались Елизавет Петровна, Анна Иоанновна, курляндская герцогиня. О сестре её, герцогине Мекленбургской, Екатерине Ивановне, речи не было.
В сущности, по-настоящему вопрос стоял о конституции. Или о первом шаге к этой самой конституции. Решено было отдать корону Анне Иоанновне, но вместе с росписью «пунктов» и «кондиций», ограничивающих самодержавную власть.
Юная Наталья Шереметева, невеста незадачливого Ивана, глядела из окна. Двигалась торжественная процессия, хоронили императора Петра II. Её любимый жених, её Ваня, поднял на неё глаза, полные такой отчаянной скорби, что она едва не лишилась чувств. А ведь венчание ещё только предстояло, ещё возможно было отказаться. Она не отказалась и отправилась в ссылку вместе со всею семьёй Алексея Григорьевича.
* * *
Андрей Иванович также считал и рассчитывал. Выходило, что Анна – лучше Елизаветы. Анна казалась попроще, не такая бешеная, как Лизета... Анна, Анна... Имя напоминало. О том, что могло бы быть. Андрей Иванович был более наклонен к сантиментам, нежели его врагиня Лизета. Но что было зря себя растравлять! Не суждено, значит, не суждено.
В «кондиции» и «пункты» «верховников» он не очень-то верил. Вовсе ему не казалось, будто они дозрели до парламентов и конституций. Кажется, из их «пунктов» и «кондиций» проистекла бы одна боярская распущенность. Как там оно было, когда первый русский царь Иван Васильевич забирал своих бояр в ежовые рукавицы? Но, кажется, им всего лишь захотелось прочь из этих самодержавных колючих рукавиц? И что? Поделить Российскую империю снова на княжества, на вотчины? Для кого же он Балтику выторговывал в Ништадте? Для кого великий Пётр строил Санкт-Петербург?.. Нет, нет, с этими «пунктами» и «кондициями» надобно что-то придумать. Он-то надумает!..
Совсем машинально Андрей Иванович, выстраивая свои риторические вопросы, произносил: «Для кого?» Но с таким же успехом (успехом, да?) он мог бы произносить: «Для чего?» Потому что чем далее и вроде бы плодотворнее простиралась его деятельность, тем менее она затрагивала благо отдельно взятого человека. Конечно, Андрей Иванович и самого себя, и жену Марфу Ивановну, и сыновей Федю, Ваню и Андрюшу не пожалел бы, положил бы на алтарь отечества. Но он хотя бы, кроме чинов и денег, получал моральное удовлетворение, творя своим умом великую державу. Однако все прочие, остальные, простого и непростого звания Андрей Иванычи и ихние Марфы Ивановны жили как бы в огромном и навеки недостроенном доме, где может на голову свалиться косо положенная и незакреплённая балка, могут заставить собрать по-быстрому свои пожитки и быстро-быстро перетащиться вон в ту дальнюю каморку под крышей; и всем внушают непрерывно, что они-то сами и строят это строение, и потому все бегают с тачками и вёдрами и воруют малярные кисти; а ходят слухи, будто где-то, в дальнем крыле отделаны прекрасные комнаты для тех, кто ведает работами (если кто-то вообще ими ведает!). Но, возможно, это так и нужно, и в этом, возможно, имеются свои возможности для гордости. Андрей Иванович трудился что есть мочи. И что надобно делать с этими «пунктами» и «кондициями», он надумал. И, надумав, обратился попросту к Марфе Ивановне (а перед этим его парили в бане и чем-то окуривали, чтобы зараза не передалась на домочадцев). И вот обратился к Марфе Ивановне:
– Ты бы, Марфинька, собрала своих. Давно не говорили по-семейному, попросту.
– Отдохни, Андрей Иванович, отдохни, милый! – сказала Марфа Ивановна ласково и немного возбуждённо. И велела заложить карету, чтобы всех приглашаемых пригласить самолично.
И Андрей Иванович, укладываясь в спальне под стёганое хорошее одеяло и чувствуя, что он и вправду устал, тихонько думал о том, что Марфа Ивановна, конечно, лучшая в мире жена, но у неё один недостаток: она не только всё понимает с полуслова, она ещё и вид оказывает, что да, да, да, всё, всё поняла...
«Ох, Марфа Ивановна, Марфа Ивановна! Ведь я же сказал: собраться попросту, по-семейному. А ты кинулась, будто важное государственное дело исполнять. И ведь права! Дело именно важное и государственное. Но зачем, чтобы все и сразу это видели, зачем?..»
Он вздремнул немного. Затем проснулся и лежал с закрытыми глазами.
Сейчас депутаты, избранные Верховным советом, везут в Митаву, в курляндскую резиденцию Анны Иоанновны акт избрания её на всероссийский престол, и все эти ограничительные пункты везут. Ну, она, конечно, всё подпишет. И что с того? Сама подписала, сама и... Но не забегает ли он вперёд? И самое важное – не совершает ли он сейчас очередную ошибку? Жизнь его складывалась неплохо, даже и хорошо, но он всё равно полагал, что совершил немало ошибок и что всё могло пойти ещё лучше, чем шло и чем до сих пор идёт. А впрочем, что такое жизнь человеческая? Одна большая-большая ошибка...
Андрей Иванович, не раскрывая глаз, поворотился с удовольствием на бок, отвлёкся от философии и самокритики и невольно начал вспоминать...
Вспоминался огромный деревянный дом царицы Прасковьи Фёдоровны, вдовы царя Ивана Алексеевича, смирного русобородого мужичка, который сам отказался являться на всевозможные государственные мероприятия вместе с братом Петром.
– Да зачем оно? – говаривал смирно. – Разве я решаю что? Пусть уж Пётр один...
И было непонятно, почему он отступается; что это: смирение паче гордости или просто смирение? Но никто особо над этим и не размышлял, не до того было. А он и умер неприметно, оставив вдову и троих маленьких дочерей.
Говорили, он здоровьем был слаб. Но старший брат Андрея Ивановича, Иоганн-Дитрих Остерман, видывал Ивана Алексеевича.
– Он был очень болен? – однажды спросил молодой Хайнрих.
И начал получать кое-какие уроки дипломатии.
– Когда? – ответил вопросом брат. – Когда был очень болен? Перед смертью? О да!
И тогда Хайнрих понял, что здоровье Ивана Алексеевича было «не перед смертью» самым обычным, заурядным человеческим здоровьем. Но уже не стал задавать лишних вопросов...
И вот сейчас думал:
«А странно! Отчего никто не полагает, что Иван Алексеевич умер не своей смертью? Да, да, он нисколько не мешал брату, не вмешивался в дела правления. Но... Его слабое здоровье не помешало ему зачать трёх здоровенных девчонок... И если бы далее последовал сын...»
Но нет, заподозрить великого Петра было невозможно. Это был не такой человек. И, кажется, сегодня в России не имело особого значения – сын или дочь... Но почему, почему все так умирают – маленький сын великого государя, и внук, и внучка, и Анна Петровна, старшая дочь... Ах, Анна, Анна!.. Умирают и тем самым производят беспорядок и заставляют Андрея Ивановича тратить силы ума...
Но вот огромный деревянный дом вдовствующей Прасковьи Фёдоровны. Кажется Хайнриху таким большим, но внутри поделён, будто нарочно, на бесчисленные клетушки с низкими потолками и узкими оконцами, душные такие клетушки. Но Хайнрих ещё этого не знает. Брат его старший, Дитрих, представляет его царице-вдове. Хайнрих ещё совсем не говорит по-русски, а Дитрих говорит очень плохо, коверкая слова и странно выговаривая звуки чужого языка...
До того Андрей Иванович видал русских женщин только на базаре. И это не были царицы. А эта, некрасивая, толстая, в длинном платье, похожем на рубаху, царица. И лицо у неё, будто белой штукатуркой покрыто с наведёнными розовыми кругами. Это белила и румяна. А глазки маленькие-маленькие, как у змеи гадюки. С большим трудом удаётся Прасковье Фёдоровне понять, что учитель её дочерей представляет ей своего меньшого брата, который не учитель и которого зовут Хайнрих-Иоганн. И вдруг царица обращает маленькие глазки на Хайнриха и произносит:
– Андрей Иванович, стало быть...
И Дитрих обращает на Хайнриха недоумённый взгляд. Потому что его, Дитриха, царица не пыталась перекрестить в кого-то иного...
Двор дома – большой, широкий, много беспорядочно раскиданных тут и там строений, хозяйственных построек, иные из них совсем разваливаются... В России хорошо, но нет порядка. Так полагает Хайнрих. В немецких землях, конечно, есть порядок, но нет простора и размаха. Э-э! Даже в Пруссии, которая в этом смысле получше других... Немецкие княжества похожи на маленькие домики с маленькими дворами. Россия похожа на этот вот большой двор. Ветер гуляет и взвеивает солому и сор. В клетушке, отведённой Андрею Ивановичу, по стенам ползают стадами тараканы, а ночью из всех щелей вылезают полчищами клопы. В клетушке душно, и окошко маленькое не пропускает свежий воздух. Но на дворе так хорошо! И ведь это кажется таким простым: навести порядок, построить на этом дворе большой хороший чистый дом с хорошими комнатами и хорошими окнами. На таком хорошем дворе должен стоять хороший дом! Так Андрей Иванович осознал своё призвание.
Но больше всего ему нравится на этом дворе баня. Это самое лучшее. Когда он идёт из бани, у него раскрасневшееся лицо и он самого себя стыдится, потому что кажется себе голым. («Надо же! – дивится теперь Андрей Иванович. – Вот вспомнил! А ведь забыл давно, привык!») Царица стоит на ступеньке наружной деревянной лестницы и смотрит на пего маленькими змеиными глазками. Но она не то чтобы злая, о ней нельзя сказать: «Злая, как змея». Нет, она не злая, она просто змея, большая толстая змея. И разве змея виновна в том, что она – змея и потому не может кушать травку, как козочка?..
Царица кличет девку и велит поднести Андрею Ивановичу квасу. И девка бежит, летит, будто не за квасом послали, а за водой – тушить пожар. Но Андрей Иванович уже знает: девка поступает правильно. Если она не будет быстро исполнять приказания, царица схватит её за длинную косу, намотает косу на руку и будет таскать, таскать... Андрей Иванович один раз уже видел. У них, в отцовском доме, мать не могла бы так обходиться с прислугой, то есть прислуга бы сама не потерпела. Но здесь прислуга терпит всё!
Андрей Иванович берёт из девкиной руки деревянную кружку и пьёт. Царица смотрит, как он пьёт. Квас – это нечто неимоверное по вкусу. Это невозможно описать! Потому что это такое Wunder – чудо!.. Кажется, в России Андрей Иванович более всего любил, даже возможно сказать, боготворил четыре предмета: баню, квас, Марфу Ивановну и это своё мечтание о державе гигантской и прекрасной, это мечтание, которое вот-вот сбудется, ан нет, не сбывается, и летит и манит за собою – сверкающее перо огненной птицы русских сказок... Но в ту пору ещё не было помину о Марфе Ивановне, и мечтание лишь зарождалось в душе смутно...
Царица смотрит, как пьёт Андрей Иванович из кружки деревянной этот вкуснейший квас. Андрей Иванович отводит от губ своих повлажневших пустую кружку, а девка чуть не подпрыгивает от нетерпения: пытается угадать, как царице угодно – чтобы девка поскорее взяла из руки Андрея Ивановича кружку или обождать... Однако царица Прасковья Фёдоровна будто видит одного лишь Андрей Иваныча, смотрит на него своими простыми гадюкиными глазками и вдруг проговорила почти жалостно:
– Тебе сладко ли, Андрей Иванович?
Что такое «сладко», Андрей Иванович понимает и потому отвечает:
– Сладко. – И на всякий случай, сам не зная почему, прибавляет ещё одно хорошее русское словечко: – Много! Сладко много!.. – Эх, как дурно он говорил тогда по-русски, сейчас даже стыдно и смешно вспоминать!..
А царица смотрит на него... И он так и не понял: то ли она видела в нём, таком молоденьком, заброшенном на чужбину, на чужую сторону, видела несужденного ей сына; то ли она другое в нём видела, не столь трогательное, но, быть может, более приятное для себя, нежели материнские чувства...
Загадочная русская змея...
Андрей Иванович так и не понял. Он, собственно, терпеть не мог, когда женщины загадывали ему загадки. Однажды и Марфа Ивановна спросила: «А ты любишь ли меня, Андрей Иванович?» И он сразу скис. Этак возможно ведь и целодневно провождать время в глупостях: «А ты любишь ли меня?» – «Да, люблю». – «А ты крепко ли меня любишь?» – «Да, крепко, крепко. Сладко много!..»
Сколько сейчас годов Анне Иоанновне? Тридцать семь? Тридцать девять? Она моложе Андрея Ивановича. Из трёх Прасковьиных девчонок он её запомнил лучше... Потому что огромная была, высокая, плотная, неуклюжая. Упрямая, слова из неё вытянуть не могли. Но она была права в этом своём упрямстве, лучше молчать, нежели говорить глупости. Это она хорошо понимала. По указанию государя к дочерям его брата взяли иностранных учителей. Какие были успехи Анны Иоанновны у француза Рамбура, Андрей Иванович не взялся бы сказать. Но Дитрих обучал её неважно. И не то чтобы она была не способна, вовсе нет. Просто Дитрих совсем не знал русского языка и ничего не мог ей объяснить. Она честно пыталась понимать его немецкий, а он осваивал русский, и почему-то более всего предпочитал этим заниматься среди женской прислуги царицыной, такой он был... Или это и есть самый надёжный способ овладения чужеземным языком? Тогда, вероятно, Анна Иоанновна сейчас прекрасно говорит по-немецки. Благодаря этому Эрнсту Бирону, канцеляристу при обер-гофмаршала двора вдовствующей герцогини Курляндской. Тогда – канцеляристу, бедному польско-курляндскому шляхтичу, а теперь... О, незаменимое лицо, верный любовник, теперь уже граф... А герцога Курляндского, Анниного супруга, никто и не помнит, он так скоро умер! И всё-то она околачивалась у матери, и эти бесконечные жалобы: того нехватка, другого недостаёт. Подумать было возможно, будто она в деревянном доме своей матушки жила куда как богато, получше, нежели в митавском каменном замке!.. Проста? Неумна? Ей скучно на чужбине? Ей хочется проводить время у матери? И сестре её, Екатерине Мекленбургской, тоже охота в Россию, к матери под крылышко! В Россию, поближе к трону! К трону, на который сёстры имеют права!.. Ах, это несовершенство законов и прав!.. А письма Анны к Меншикову... Она-де давно вдовеет и потому надобно выдать её за Морица Саксонского!.. Но знает ли она, как пытался Андрей Иванович уладить после брак Морица с Елизаветой? Впрочем, сейчас подобное знание уже не будет иметь значения. Потому что в строжайшей тайне от всех, даже от Марфы Ивановны, мчится в Митаву гонец Андрея Ивановича, вооружённый тайным, надёжно зашитым в одежду посланием к Анне Иоанновне, другое послание – к Эрнсту Бирону. Ему надобно вручить первому. Гонец будет в Митаве раньше депутатов от Верховного совета... В письме Андрей Иванович напоминает герцогине о своей дружбе с её матушкой, как царица ему покровительствовала и дала ему русское имя, столь им любимое, – «Андрей Иванович»... Но это всё, конечно, были сантименты, и на самом деле в обоих этих посланиях содержались куда более важные доказательства самого наилучшего отношения Андрея Ивановича к Анне Иоанновне...
* * *
За дверью послышался слабый шум. Негромкий, но слышный голос Марфы Ивановны проговорил заботливо и предупреждая кого-то не шуметь:
– Почивает...
Эх, она умница была! Это она подавала знак своему Андрею Ивановичу: вставай, мол, все, кому велено, прибыли. И чтобы не подумали, будто она им, супругом своим, командует, она не звала его вставать, а вроде как предупреждала приехавших родичей: почивает!.. И он уже знал, что ещё малость обождать, и пора выходить...
* * *
...Трое всадников летели по дороге, ровной, белой... Алексей Шубин с двумя полковыми.
А перед этим...
За ним прибежали. Он оделся наспех и побежал в дом цесаревны, как приказала. В ту ночь он был не при ней... Сонная прислуга толкошилась бестолково. Мавры не видать было. Должно быть, тоже услали куда-то... Он прошёл в спальню.
И никогда прежде он не видел её такою строгой, спокойной, собранной. Императрица! Нет, не та, что сулила ему пиры – море разливанное, но та, что принимает решения судьбоносные.
Легко и широко перешла к двери, заперла. Он стоял. Духало от него морозом, крепким снегом, ночною тревогой. Он вдруг подумал, что дух этот сходен с запахом яблочным. Не рассердится ли она?
Но она и не думала сердиться. Не приказала ему сесть. Заговорила в меру быстро, но без торопливости тревожной.
– Время делу, Алёша. Впервой время делу. Спешные известия из Москвы от графа Шувалова, мужа Мавры моей. Государь скончался!..
В любом государстве того времени подобное известие произвело бы на всякого человека более или менее обычного впечатление очень сильное. И Алексей Шубин растерялся и почувствовал некоторый страх. Ведь это известие... оно сулило... столь различное... столь многое...
– Об этом, я думаю, ещё мало кто знает, – продолжала она. – А я знаю ещё и вот что. Избранные депутаты от Верховного тайного совета повезли в Митаву решение об избрании Анны Иоанновны императрицей. Надо задержать их, Алёша. Надо их задержать. Найди способ. В казармы уж послан Бутурлин[30]30
Бутурлин. – Имеется в виду Александр Борисович Бутурлин, в дальнейшем – один из фаворитов Елизаветы, граф и фельдмаршал.
[Закрыть], он тоже верный мне человек. Анна Иоанновна не должна знать о своём избрании. Члены Верховного совета должны быть взяты под арест. И войска, верные мне полки – вокруг дворца! И штыки, и барабаны... – Она говорила серьёзно и с какою-то неведомой ему в ней прежде приподнятостью.
Он понял и рванулся к двери – исполнять её повеление. Но она остановила его, остановила просто – ухватила за рукав. Серьёзная, она была сейчас необыкновенно хороша. Сияющее лицо, огромные голубые глаза. Всё мелочное было им забыто. Он любил её сейчас пламенно и чисто.
– Подожди! – Он почувствовал в её голосе затаённую боль. – Подожди! Ты должен знать, я должна сказать тебе: я тобою жертвую! Понимаешь ли ты? Ежели ещё не время, не моё время, не мой час? Тогда... Бутурлин отопрётся, его не тронут. Всем ведомо: ты дорог мне, тебя люблю! И знаю: меня тронуть не посмеют! – сдвинула брови, ах, соболиные!.. – Ты!.. Ты один падёшь жертвою. Я не шучу. Я не решилась бы обмануть тебя. Решай сам, как быть тебе!..
– Решать нечего. Прощаться некогда. Я еду по твоему повелению.
– Ещё... – На этот раз она заговорила так нежно, женственно. – Алёшенька! – Быстро сняла с белой своей шеи, с грудей белых цепочку с образком. Он склонил голову, сознавая в полной мере важность происходящего. Она надела ему образок. Выпрямилась. – Ты помни: я никогда не позабуду тебя. Покамест буду жива, не позабуду. Прощай же! Христос с тобою!..
* * *
...Алексей привстал на стременах. Белая равнина. Поглядел из-под руки, вгляделся в одинокого всадника. Далеко впереди скакал всадник. Алексей знал, кого ему следует нагнать и задержать. Нет, не этого, одинокого. И всё же... Насторожился почему-то. (И у него ведь было чутьё!) Приказал – в галоп!
Поскакали. Но всадник уходил, уходил. Ушёл. И напрасно пытались спутники внушить Алексею, что не стоит придавать значения этому... происшествию?.. этой невстрече?.. Он велел им замолчать и всю дорогу оставался хмур.
Всадник был гонец Андрея Ивановича.
Эрнст Бирон и Анна Иоанновна получили послания Остермана. И теперь ждали прибытия депутации. Однако депутаты медлили.
– Эти письма не могут быть лживы, – убеждала герцогиня своего возлюбленного. – Я помню Андрея Ивановича, самый честный человек был!
– Но всё же пытался отнять у Вас и Курляндию и Морица Саксонского, – на всякий случай напомнил Бирон.
Анна Иоанновна покачала большой головой.
– Это он Лизетку окоротить хотел, я-то знаю. И на что мне Курляндия, никогда не любила я Курляндии. А тебе-то неужли хотелось видеть меня за Морицом Саксонским? – Она спрашивала всерьёз, без тени шутливости.
– Будем ждать, – ответил он.
– Нет уж, ты отвечай: хотелось бы тебе?
– Нет, я и подумать об этом не мог без чувства отчаяния. – Он также говорил не шутя...
* * *
Депутаты – генерал Леонтьев, князь Михайло Голицын, князь Василий Лукич Долгоруков, и охрана с ними – услышали за собою крик и топот. Их звали, призывали остановиться.
Отступать было нельзя и некуда. Ему надобно было остановить их. Как угодно, однако остановить. Зачем, зачем она не успела придумать, как же именно. И теперь он должен был полагаться лишь на то, что любовь сильная изострит его нехитрый разум.
Они остановились, он подскакал, крича первое, что пришло в голову:
– Приказано воротиться! Приказано воротиться!
Самое для него сейчас важное было то, что они остановились! Посыпались вопросы: кто приказал? когда? кто послал? где бумага с приказом?.. При этом последнем вопросе он сунул руку за пазуху. Пальцы почувствовали, как бьётся сердце. Никаких других приказов, кроме этого, сердечного, при нём не обреталось.
– Приказа нет! Потерян дорогою! – Он выкрикнул это, как положено было выкрикивать ответ на вопросы старшего... Голос осип на ветру...
Долгоруков послал коня чуть вперёд. Шубин, напротив, осадил своего назад. Кони переступали копытами, постукивали.
– А ведом же мне этот молодец! – сказал будто с удовольствием Василий Лукич. – Это ведь Алёшка Шубин, сердечный друг Елизавет Петровны!..
Громко это было сказано. Охрана, не дожидаясь приказа, начала окружать Шубина и его спутников. Шубин погнал коня. Двое рванулись за ним. И вскоре они были уже и довольно далеко...
– В погоню? – Леонтьев оборотился к Василию Лукичу.
– Оставим это дело, – решил тот. – У нас своё – спешить в митавский замок!
* * *
Сначала Шубин обрадовался, поняв, что не будет за ним погони. Но тотчас понял, что радоваться-то нечему. Надолго задержать депутатов ему не удалось. Вон они где! А что же теперь станется с ним? А если всё же этой задержки окажется довольно? Да нет, напрасные, пустые утешения... Возвращаться назад он не рисковал. Назад, к ней? Как трусу? Чтобы она прятала, укрывала? Нет, он не трус! Но тогда как же? Куда? Наперекор всему – в Митаву?
Один из его спутников посоветовал нерешительно: переждать в Ревеле, в тамошнем гарнизоне. Они-то, его спутники, были у него в подчинении, он приказал им ехать, и они не имели права ослушаться. Что-то вроде чувства вины перед ними смутно метнулось в его душе.
Поворотили на Ревель.
* * *
Андрей Иванович переговорил с кем следовало... Салтыков, Лопухин, граф Апраксин, князь Черкасский; Стрешневы, конечно, родня Марфы Ивановны... Он поцеловал Марфе Ивановне руку, что являлось у него знаком особливой признательности. И, поцеловав ей руку, он попросил, чтобы она оставила его одного. Она посмотрела на него, хотела было сказать, что она никогда, ни при каких обстоятельствах не покинет его, но подумала, что все эти торжественные любовные заверения – оно лишнее. И потому она лишь быстро потянулась к нему, быстро ткнулась губами в висок его и вышла из кабинета...
Она была права. Он знал, что она-то его не покинет никогда. И потому он сейчас не о ней думал. Он думал о том, не совершает ли он очередную ошибку. О, разумеется, он имел много удач! Иные неприхотливые людишки даже могут подумать, будто Андрей Иванович Остерман – очень удачливый человек! Но он-то, разве он будет обманывать самого себя? На каждую удачу приходится по меньшей мере две, да, пожалуй, две, если ещё не три, ошибки! И что такое удача? Разве удача не может в итоге оказаться тоже ошибкой?
Верный путь он выбрал сейчас? И снова, и снова перебирает в памяти пресловутые эти «пункты» и «кондиции»: императрица правит государством по соглашению с Верховным советом; императрица не имеет права без согласования с Верховным советом вести войны и заключать мирные договоры, назначать на высшие государственные должности, распоряжаться казною и конфисковать имущество; содержание двора императорского ограничивается известной суммой; учреждается Сенат, а также собрания – дворянское и купеческое...
Возможно, уже сейчас герцогиня Курляндская подписывает. Qua – императрица!.. А если всё так и оставить? Подписала и подписала – топором не вырубишь! Но против «верховников» уже составилась партия... И странно: почему он чувствует что-то подозрительное во всех этих правильных словах? Они преждевременны? Ничем не обеспечены, не гарантированы? Ну да, ну так... Мертворождённые, неживые... Ничего не будет, кроме обычной смуты и грызни... Так пусть хоть поменьше смуты и грызни... Ведь он для того... чтобы поменьше... А всё болит голова... Страшно болит!.. И память подсовывает идиллическую картинку, как он учит девочку делам правления и основам дипломатии... Как хорошо было! Как могло быть хорошо!.. Не судьба!..
* * *
Лизета чувствовала то же самое относительно себя: не судьба! Возможно, покамест лишь на этот раз, но... не судьба! И не одно только чутьё подсказывало. Бутурлин был осторожен, действовать не спешил. Что-то такое происходило в казармах, но это вовсе не походило на действия решительные. И она всё яснее сознавала: не судьба!
Подумала об Алёше. Убеждала себя: не догнал, не успел, скоро вернётся; ничего не содеял, и потому никакие грозы, никакие угрозы не нависают над ним... Но уже знало вещее сердце: она обольщает себя напрасно! Беда уже грозит ему. Её любимому. Нет, она вовсе не полагала, будто возможен некий «рай в шалаше», будто возможно ей быть счастливою с ним, отказавшись от сути своей жизни – от престола и власти! Но она любила его. Она ведь любила в первый раз! И терять его было ей так страшно, так больно, будто низвергаться, упадать безысходно в бездну...
* * *
Депутаты вернулись в Москву с подписью собственноручною новой императрицы: «По сему обещаюсь всё без всякого изъятия содержать».
Императрица торжественно въехала в старую столицу. (Покамест, впрочем, не было ясно: что именовать «старой столицей» – Москву или покинутый Санкт-Петербург?)
И тут произошло кое-что занятное. Около тысячи вельмож, дворян, военных чинов собралось у дворца. Просили аудиенции. Андрей Иванович почувствовал некий страх. Теперь он сам себе виделся бездумным мальчишкой, кинувшим камешек в пруд. Вода стоячая была, ряской подернутая. Он-то думал: всплеснёт и канет без следа. И вдруг пошли круги, круги, вода ожила. И вдруг это – страшный омут, желающий и его поглотить?..
Самые знатные из собравшихся были милостиво допущены к императрице. Они поднесли ей прошение, в коем, между прочим, доказывалась крайняя необходимость полного единовластия, особливо в империи Всероссийской, «где народ не довольно учением просвещён и за страх, а не из благонравия или познания пользы и вреда закон хранит».
Императрица не могла не внять. «Кондиции» и «пункты» были разорваны торжественно и даже и несколько театрально. Новая императрица и её сёстры, надобно сказать, были охотницы до театра и театральных зрелищ. Екатерина, герцогиня Мекленбургская, устраивала театральные представления во дворце своей матушки Прасковьи, а для всем памятного спектакля Анны Иоанновны сценой явился ледяной дом, воздвигнутый на замерзшей Неве.
Двор вновь перебрался в Петербург.
* * *
Для Лизеты настало тоскливое время. Нет, её, разумеется, не подвергли опале. Более того, новая императрица настоятельно желала видеть свою любезную и очаровательную двоюродную сестрицу как можно чаще при дворе. Вот это как раз было понятно!