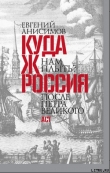Текст книги "Гром победы"
Автор книги: Фаина Гримберг
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 22 страниц)
ЧАСТЬ ВТОРАЯ

* * *
Лизета не любила вспоминать. Она относилась именно к тому типу женщин, которые вовсе не любят своего детства. Детство представлялось ей попросту глупым и недостойным её воспоминаний. Или, впрочем, нет, было одно воспоминание; пожалуй, даже и приятное, и картина осталась от этого воспоминания, живая, что называется, память... Это когда её, Лизету, шестилетнюю, голым-голёхонькую, нарисовал художник-француз Каравакк. На горностаевой мантии она полулежит, ручка вскинута, и в ручке – медальон с портретом отца... Лизета потянулась, раскидывая руки... И как это пришло в голову отцу, и как это художник надумал писать шестилетнюю девочку... да, в виде Венеры, языческой, римской богини любви!.. И ведь и талию, тальицу написал, и голым-голёхонькая, гладенькая...
Вот это она помнила. Что ещё? Отца и матушку? Но тогда Лизета ещё была вместе с Анной, почти одно – Лизета и Аннушка. И почему-то сейчас ощущалось, что вся память о детстве – не её – Аннушкина память. Её, Лизетиных, воспоминаний было совсем мало. Вот отец наклоняется над ней – белая его овчинная калмыцкая шапка навыворот; Аннушки будто и нет – не народилась ещё?..
И теперь Аннушки нет, мертва, погребена. Лизета не сознает, но ведь, в сущности, Аннушка умерла для неё, когда уехала в Киль, с тех самых пор Лизета не видала сестры. Теперь из Киля воротилась посланная с Аннушкой Маврушка Шепелева, пребойкая, затейница. А во дворце герцогском в Киле подрастает маленький племянник, сын Аннушкин, Петруша, которого Лизета также никогда не видела, но порою задумывается о нём; она знает – почему.
Но не любительница, нет, не любительница задумываться о грядущей судьбе. Прожекты строить – не по ней. Вот Аннушка, та любила голову поломать. А Лизета – нет... Потому она и не любит символов, аллегорий. Вспомнит порою давнее уже письмо Аннушкино, в коем Анна сравнивает её с Елизаветой славной английской; вспомнит и усмехнётся. Впрочем, одно сравнение по нраву Елизавет Петровне, это когда сравнивают её с Венерой, вот как пишут богиню любви художники, – соблазнительная, нагая... Вот и Маврушка давеча отличилась – табакерку фарфоровую раздобыла с Венерою на крышке, и тоже всё шепчет цесаревне, как, мол, сходно... А сидеть, раздумывать о прочих разных соотношениях и совпадениях жизни своей, нет, не любит Лизета. Не раздумывает о том, что рождена в год славной Полтавской виктории; не думает о том, что крещена редким на Руси именем – Елизавет. Отец любил это имя. Собаку любимую Лизетой кликал, шняву – кораблик – «Лизетка» назвал...
Но нет, Елизавет Петровна не любит вспоминать детство и раннюю юность. Она из тех женщин, которые полагают, что истинная их жизнь начинается лишь после потери девственности. Вот сделавшись женщиной, она зажила, на многое глаза отворились. А всё, что прежде того было, – глупость одна!..
Тут вспоминался ей жених, епископ Любекский, Бишоф; какие у него были зубы – мужские, большие, желтоватые от трубки, как ходил, какая бородка у него была... Но, пожалуй, самое важное – как молода и глупа была она, как мало удовольствия по глупости своей получила! Нет, случись теперь, она уж своего не упустит!
О попытках отца выдать её замуж за нынешнего французского короля Людовика XV она не вспоминала вовсе. Детские мечтания о Париже миновались вместе с детством. Напрочь позабылось, как ладил отец маленькую ещё свою Лизету за мальчика, которого в Париже на руках нашивал, и Катеринушке своей отписывал, что «королище тот» ростом с карлика Луку. Но все те мечтания, прожекты и письма канули в Лету, в реку бездонную времени заодно с отцом, и матушкой, и карликом Лукой.
Елизавет Петровна не любила воспоминаний. Не любила также и книг, ещё прежде не понимала, как может Аннушка часами сидеть над этими французскими историческими сочинениями. Нет, Лизета книг не любила. Учиться делам правления? Что это? Ежели ты на престоле, то и правишь. А чему здесь учиться? Блажь одна! Что-то Аннушка говорила об этом ученье, но Лизета уже не помнила. Ни к чему – вот и позабылось.
Лизета любила красивые платья и драгоценности. Она хотела, мечтала иметь многое множество дорогих платьев, чтобы переменять их почасту, по нескольку раз в один день. Ещё она очень любила стихи, но не какие-то неуклюжие, торжественные – Прокоповича, а те, милые, короткие, Монсовы, ходившие в списках. Она уж совершенно позабыла, что были то стихи «отрубленной головы». Но она позабыла. Нет, совсем несходна была с Аннушкой. Ещё любила Лизета русские песни и пляски. Но и дворцовые танцевания любила до страсти...
* * *
Ныне обедал у неё Андрей Иванович Остерман. Она сама не понимала, как пригласила его. Да разве и приглашала? Зачем он ей? Через Маврушку сделалось, что ли? Не помнила. Память у неё была счастливая; не задерживала ничего такого, над чем бы можно было поломать голову. Ну вот он обедает у неё, ну и ладно. И с чего это Аннушка так о нём трепетала! «Андрей Иванович!.. Государственный ум!.. Было бы на что глядеть! Лисица-немец! Глазищи по-совиному таращит!.. Она сама себе не отдавала в этом отчёта, но невольно она ненавидела всех, кого любила Анна покойная. Что это было? Какое-то продолжение бессознательного сестринского соперничества? Но в глубине души Лизета испытывала неприязнь к отцу и матери, ведь они всегда больше любили Анну; и со всею силою почти страсти ненавидела Лизета худенького, сероглазого герцога; и не понимала, что ненавидит его просто за то, что Аннушка любила его; нет, Лизета уверенно полагала, что ненавидит его за то, что он не уберёг, не смог уберечь её любимую сестрицу... И Андрея Ивановича Лизета ненавидела. Его, пожалуй, более всех ненавидела. Потому что чувствовала: Аннина любовь к нему была нечто странное, вовсе неведомое Лизете; он был для Анны живым олицетворением каких-то необычных прожектов, планов правления, совершенно, совершенно чуждых Лизете. И вот за это она его и ненавидела страстно, даже почти яростно.
А он подобной женской ненависти не воспринимал, даже и не понимал, наверное, что бывает ненависть подобная. Он думал, что Лизета ещё просто не так умна, чтобы понять, что для него самое важное – вовсе не симпатии его к кому бы то ни было на троне всероссийском, а радение о благе российской державы. Он думал, что Лизета на него дуется за его прежние симпатии к Анне, за его нынешние, кажущиеся симпатии к юному императору Петру Алексеевичу... Вот уж верно: кого задумал Господь погубить, того лишает разума; и не какого-то там утончённого государственного ума лишает, а самого простейшего, который ещё «практическим» и «житейским» зовут.
Андрей Иванович разворачивал салфетку и принял на себя чуть шутливый, чуть ворчливый тон старшего. Попенял шутливо цесаревне за то, что не подано мясных блюд.
– Уморите меня этак, Елизавет Петровна!
– А ныне постный день! – отвечала она с какою-то почти откровенной женскою наглостью.
Он кинул взгляд на её пышные – в причёске высокой – русые хорошие волосы, на её лицо, белое, полное, уже не девичье – женское. Надо было что-то сказать, но эта сильная, наглая, прущая женственность смущала его. Это не Анна; этой, Лизете, ни к чему его пресловутый государственный ум, этой постнице записной молодое мужское мясо подавай!.. Он засомневался в успехе своего начинания. Выгорит ли? Стоит ли того?..
– Батюшка Ваш говаривал бывало: «По мне будь крещён, будь обрезан – всё едино, лишь бы дело разумел!» – высказался всё же Андрей Иванович.
– От врагов нашей веры никакого интереса иметь не желаю. И не желаю также, чтобы имя великого государя поминали всуе, приписывая ему Бог весть какие речения. Мне вот сказывали, батюшка другое говаривал; поворотиться-де надлежит к Европе задом!..
Андрей Иванович притих. Тотчас от волнения нос заложило, засопел невольно, сам на себя досадуя. Что с того, что это ведь ему самому Пётр Алексеевич говорил о деле, которое следует разуметь, а о том, чтобы задом, нет, не говорил. Но что с того? Сейчас-то! И что такое в устах Елизавет Петровны это самое «враги веры нашей»? Его, лютеранина, пасторского сына, относит ли она к подобным «врагам»? Много хороших, доверительных слов говорил государь Андрею Ивановичу. И что с того сейчас? Андрея Ивановича с его государственным умом на трон не посадят, он государю не родня...
Нет, покинуло, покинуло Андрея Ивановича пресловутое «чутьё», покинуло напрочь. И потому Андрей Иванович не понимал, что ежели человек ладит себя на трон (а Лизета ладила!) и при этом говорит человек такими словами, каковыми Лизета сейчас говорила с Андреем Ивановичем, быть этакому человеку на троне, быть! И вдруг Андрей Иванович не понимал. И не понимал, что при виде Лизетина пухлого белого зада пресловутая Европа вовсе не будет шокирована; ещё и в ладошки захлопают: «Ах, шарман, шарман! Прекрасно, прелестно! Ах, как своеобразно, до чего оригинально!» И будет этот зад сиять на всю Европу в обрамлении всё тех же рюшек и бантов, закупаемых по-прежнему в обмен на лес корабельный в Париже всё том же. А что там люди, какая маета народная за этакой декорацией, да кому какое дело! Вот и Андрей Иванович вдруг ничего не понимал.
А Лизете вдруг показался забавным сопящий Андрей Иванович, и она прыснула, как девчонка. Забыла свой гнев, на смешное ведь не сердятся, смешное попросту презирают.
Но Андрей Иванович растянул губы в улыбке, с некоторым усилием, впрочем.
Он решил говорить с ней прямо, говорить о деле. Однако его «прямо», оно всё же выходило довольно кривое, потому что совсем прямо, начистоту, говорить с нею было нельзя... Ах, как вспоминал Анну, тот день, когда приехала нежданно, а он... прогнал её... дурак?.. И воротилась ведь... а он... испугался?.. Или поступил верно, и ежели бы принял сторону её, и ничего бы не добились, только себя загубил бы понапрасну, семью свою, детей...
– Его величество удивляется, редко видя Вас, Ваше высочество, на собраниях придворных... – заговорил светски, показывая, что со всеми прежними, вроде бы серьёзными, щекотливыми и даже – с её, Лизетиной, стороны – угрожающими разговорами покончено. На сегодня, во всяком случае...
Она фыркнула, наклонилась, расставив локти над тарелкой, и наколола на вилку серовато-коричневый солёный гриб...
«Задом к Европе! Ишь, удумала красавица! – Он завернул губы вовнутрь и снова чуть выпятил. – Знаю я этакое «задом»! Это ассамблеи, куда не заказан вход бедному дворянину или «начальному мастеровому», – -долой; в хозяйстве, в заводском деле что воспринять полезное – нет, долой; нам-де машины не надобны, у нас людишек в крепи хватит, подстегнуть их – всё сделают... А что – не долой? Модные лавки с парижскими тряпками, карты до утра, менуэты до рассвета – этакую Европу – можно, для себя и для своих прихвостней!.. Ну, красавица!..»
– Его величество, Пётр Алексеевич, спрашивает о Вас частенько, почему Вы не являетесь... – Андрей Иванович сделался светским и очень почтительным...
Лизета живо кидала в рот грибочки... Его величество! Пётр Алексеевич! Император всероссийский... Кажись, вчера ещё штаны протирал в классной комнате за книжками учебными! Четырнадцати ещё не минуло! Давно ли на коленках ползал перед сестрицей Наташей, золотые часы обещал подарить, лишь бы спасла его от нежеланной женитьбы, очень уж не хотелось ему жениться на Меншиковой старшей дылде, на Марье. И что же? Ведь пожалели младенца, спасли от Данилычевой хватки. А то уж на трон волок свою дочку внаглую! Но нет, Долгоруковы вмешались, нелицемерные друзья-приятели, спасли!.. И где теперь всемогущий светлейший? Где его дочери? Ау! В Богом забытом Берёзове. Так и надобно! А то – золото – бочками – к себе во дворец! Уж на что батюшка потакал Матрёне Балк, будто вину свою заглаживал за опалу напрасную её красивой сестрицы; и то, Матрёна этак-то не нагличала; оно, конечно, немка, широты души, размаха недоставало ей...
– Пётр Алексеевич весьма желал бы видеть Вас, Ваше высочество... Вы... достойное украшение двора Его величества... Звезда... – зудел Андрей Иванович...
«И чего нудит! Но явиться при дворе следует, она сама того желает... Она, Её высочество... Я!..»
Андрей Иванович ехал в свой дом и полагал, что дело его выгорит. Мальчик Пётр сильно был к нему привязан, и когда Андрей Иванович заметил ему, что-де Его величество выглядит совсем взрослым и Елизавет Петровна, родная тётка, красавица, уж поглядывала, мальчику подобные речи польстили. Да и Андрей Иванович не больно грешил против истины. В тринадцать лет юный император выглядел едва ли не шестнадцатилетним. И он довольно хорош собою. И ежели теперь начнёт ухаживать за тёткой, она, пожалуй, ответит ему... Конечно, Долгоруковы начнут ставить палки в колеса. Но Андрей Иванович будет держаться как бы в стороне... Этот брак, императора Петра II с Елизавет Петровною, соединил бы две отрасли первого, великого Петра, уничтожил бы в зародыше одну из династических распрей, грозящих Российскому государству. Елизавет успокоится, сделавшись супругою императора. А правою рукою императора будет Андрей Иванович, и сейчас ведь юный Пётр к нему привязан по-детски...
* * *
Её ненависть к Андрею Ивановичу всё же беспокоила Лизету. В этой своей ненависти она невольно ощущала нечто таинственное, а она ничего подобного не любила, всё должно было объясняться попросту. И вдруг всё и объяснилось. Нашла!.. Андрей Иванович этот проклятый, он ведь Аннушку прогнал из своего дома, все говорили! Зачем-то она к нему ездила, денег, что ли, просить для своего сероглазого мота... И этот Андрей Иванович вдвоём со своей лупоглазой Марфой осмелились прогнать дочь Петра Великого! Вот за это и ненавидит Елизавет Андрея Ивановича!
Так она всё вдруг объяснила себе и уже дальше просто ненавидела, не раздумывая...
* * *
Детский праздник вокруг Петра и Натальи, детей царевича Алексея, начавшийся ещё при Меншикове, всё продолжался и даже набирал силу, потому что участники его подрастали и уже ощущали себя совсем взрослыми... Пётр, Наталья, Иван Долгоруков с братьями и целым выводком сестёр, среди коих сверкает невиданной красою алмаз неоценимый – Катенька... Но если мы взглянем на их портреты, то, пожалуй, очень удивимся. Потому что напрасно станем искать в этих изображениях каких-то детских, подростковых черт – не найдём. Взрослые юноши и девушки, да что – юные мужчины и юные женщины перед нами. Жизнь, которую они вели, которую даже и не они сами выбрали для себя, словно бы принудила их к этому раннему созреванию.
* * *
Карета везла, несла Елизавет Петровну в государеву резиденцию. Мимо дворцов, каналов, а вдали, в порту, распускались корабельные паруса... Санкт-Петербургу всё было нипочём, он словно бы твёрдо для себя решил всё хорошеть и хорошеть и полниться красотами...
Но, впрочем, всё громче и громче шли толки о переезде двора в старую столицу, в Москву, там будет резиденция нового государя...
Елизавет Петровна похмуривалась. Петербург она любила. Когда о Петербурге думала, тогда и об отце думалось с любовью. Тогда будто и не было ни Анны, ни детей Алексеевых, а только она и отец, и этот город – ей – через отца!..
И дворец в этом городе воздвигнуть... Ах, какой дворец... чтобы в Версале только руками развели!..
Было что-то вроде малого маскарада. Гости съезжались и входили в залу в маскарадных плащах – домино. И она явилась в домино – в розовом. Оглядела себя в настенное зеркало. Золотая рама с крылатыми купидонами напомнила о Венере. Явиться бы – в таком костюме – полунагою... Или в мужском костюме, в чулках в обтяжку... Лизета знает, как хороши у неё ноги... Ничего! Настанет ещё время, её время...
Более всего её пугало: как будет она глядеться среди малолеток? Нет, она не смешна, да и малолетки – не такие уж малолетки!
Принцесса Наталья Алексеевна – совсем взрослая, даром что пятнадцати не минуло. Красива строгой красотой. Катенька Долгорукова, конечно, изумительна; красота Катенькина такова, что невозможно и завидовать, редкостная красота...
Зала обита была гобеленовыми обоями. Елизавет Петровна подошла к сидевшей в креслах старенькой княгине Волконской. Завёлся лёгкий разговор, цесаревна искренне любила подобные разговоры, когда всё в лёгкости перемешивалось – сплетни о великолепном чудаке Фридрихе Прусском, воспоминания о великом Петре и Екатерине Алексеевне, болтовня о модах и танцах, о придворных любовных интригах – кто за кем ухаживает – «махается»...
Приблизился с поклоном посланник французский. О, начал составляться кружок! Но кто бы теперь узнал дерзкую, распущенную девчонку, презревшую бедного Андрея Ивановича? Цесаревна с лёгкостию отвечала на парижское остроумие своего собеседника, белые пальчики играли веером с таким изяществом...
– Обворожительна! Обворожительна! – шептала Волконская Юсуповой. – И где глаза у женихов?
Юсупова подняла палец к губам. Вздохнула. Елизавет обернулась к ней, произнесла с изумительным тактом несколько тёплых слов. Княгиня Юсупова едва не прослезилась. Всем известна была несчастная судьба её дочери Полины, княжны Прасковьи Григорьевны, отправленной не так давно в Тихвинский монастырь...
– Взгляните, как похож! – проронила Волконская вполголоса по-французски.
Лизета взглянула вместе с остальными. И была несколько изумлена и даже и взволнована. Разве она так давно не видела его? Но как же он вырос!.. И сходство было настолько явное! Даже она, вовсе не склонная верить в какие-либо странные мистические аллегории, тут едва не вздрогнула. К ней направлялся... её отец! Но не тот, почти старый, измученный болезнью, каким был в последние свои годы, а молодой – крутые кудри по плечам, румяное, как девичье, лицо, живые глаза – таковым некогда, уже столь давно, увидели послы чужеземных государств мальчика, будущего Петра Великого. И ныне – внук будто повторял деда, хотя, конечно, полного сходства быть не могло; в чём-то, глубинном, быть может, самом важном, быть может, они – дед и внук – различались. Такие, как Пётр Великий, не могут явиться дважды в одном роду, и то, за столь краткий период времени...
Лизете понравилось это молодое, округлое, румяное лицо. Когда она сделалась женщиной и определились её вкусы, она осознала, что более всех ей нравятся вот такие здоровые красивые юноши – кровь с молоком! И могло показаться странным, что епископ Любекский, её покойных жених, вовсе и не был таким, а ей всё же было хорошо с ним. Но она была не из тех, что задумываются над подобными странностями. И одно в этих юношах, которые хороши были ей, непременно должно было явиться словно бы от Бишофа – большие зубы...
Большими белыми зубами племянник, император, улыбнулся ей. Она встала с кресел и присела перед ним церемониально. Он подал ей руку, повёл к танцующим. Она попросту обрадовалась этой открывшейся возможности натанцеваться всласть.
Французский посланник дивился изяществу её движений. Пётр Алексеевич отпускал ей французские комплименты, Она отвечала остроумно.
Она ему была куда более по душе, нежели Катенька Долгорукова. Неоценимости Катенькиной красы он ещё не понимал. Катенька ведь была моложе его, вроде как совсем девчонка. И потом Катенька привычная была, давно игрывали вместе; вместе росли, в сущности. И в Катенькиной натуре уже проявлялись холодность и замкнутость, столь свойственные подобным изумительным красавицам. Он догадывался о намерениях сделать Катеньку его женою. Что ж, он бы не противился; это всё же лучше, чем унылая, костлявая Марья Меншикова... Ему пришло в голову, что ведь это приятно, когда твои желания или нежелания производят совсем необыкновенные воздействия. Вот он не захотел жениться на Марье, не Бог весть какое нежелание, а на тебе! Всемогущий Александр Данилович разом потерял всё: дворец, богатство, удачу. И это всё потому, что вот Пётр не захотел жениться на его дочери!.. И теперь юному императору очень желалось ещё чего-нибудь этакого, чьей-нибудь внезапной опалы, например, сходной с головокружительным падением с невиданной высоты. Но Пётр вовсе не был злым. Его бы развлекло и чьё-нибудь неожиданное возвышение; или, нет, не чьё-нибудь, а любимого друга Вани, Ивана Долгорукова; вот для кого Пётр на всё готов!..
А красота молодой тётки была такая игривая, душистая, пышная, Он мог сколько угодно ощущать себя взрослым, но всё же ему не могло не льстить это внимание кокетливое совсем взрослой девицы. И... об этом никто не знал, даже Ваня, но Пётр ведь ещё не сделался настоящим мужчиной, ещё не имел женщины...
Лизета болтала с ним весело и непринуждённо. Она вдруг подумала со стыдом, что ведь после смерти Бишофа ещё не знала другого мужчины. А как было бы забавно, если бы... И хорошо и весело... Он ведь хорош, этот маленький Пётр...
Начался новый танец...
Посланник испанский, герцог де Лириа[22]22
Герцог де Лириа... – Испанский посол при дворе Петра II, оставил интересные записки (1727 – 1730) на испанском языке.
[Закрыть], шёл в паре с Натальей Алексеевной, сестрой государя, и тихо беседовал с нею:
– Принцесса Елизавета столь пылкая и прекрасная...
Но девочка тотчас поняла, что никакая это не похвала, напротив, утончённое уязвление. Наташа улыбнулась одними губами, её тёмные красивые глаза глядели строго и не улыбались.
– Нетрудно предугадать, что она пойдёт по стопам своей матери, – осторожно продолжил герцог.
– Только бы не с моим братом! – откликнулась Наталья Алексеевна с внезапною живостью. О, она-то не сомневалась в измене Екатерины великому Петру, в постыдной связи Екатерины с молодым Монсом...
– Разве для вашего брата не существует магнита более притягательного, нежели девица старее его шестью годами, да к тому же и родная по отцу тётка?
– Пётр ещё слишком молод для того, чтобы понимать, какой алмаз получает он в лице прекрасной Катеньки. А сама Катенька, увы, слишком ещё холодна. Спящая царевна! И покамест моему брату не дано пробудить её...
Герцог ответил какою-то учтивой фразой. Танец кончился.
* * *
В Москве двор зажил шумною жизнью. Это был уже и не детский праздник, в котором юнцы рядятся взрослыми, но истинное кипение юности. Для Петра существовали сейчас лишь две привлекающие его личности: тётка Елизавет Петровна и неизменный Ваня Долгоруков. Из людей солидных молодой государь жаловал Андрея Ивановича Остермана, который не докучал ему наставлениями, но и не подлаживался под весёлое настроение Петра Алексеевича. Независимо и с достоинством держался Андрей Иванович. Он видел, что мальчик совсем не глуп. Да и трогательно было, когда кудрявый красивый подросток брал его за руку и говорил искренне:
– Я тебя, Андрей Иванович, более всех люблю! Ваню люблю за то, что с ним весело, и друг он мне, в одних летах почти. А тебя я люблю за твой ум!..
Андрей Иванович улыбался, на сердце теплело. Со своими-то сыновьями был строг, и жене, Марфе Ивановне, заказывал баловать:
– Неизвестно ещё, как жизнь обернётся; я не хочу, чтобы мои дети выросли ни к чему не пригодными неженками!
А Марфа-то Ивановна всё ладила воспитывать их на русский манер – мамки, няньки, береженье, кутанье; раз входит Андрей Иванович в детскую – и что же видит? Недоеденное за обедом кушанье поставлено на стол! Марфа Ивановна рассыпалась в оправданиях: дети, мол, проголодаются, сладенького захотят. Но Андрей Иванович ей строго наказал, чтобы этого баловства в заводе не было! За обедом есть не пожелали – пусть до ужина терпят! Бранивал он супругу всегда по-немецки, а когда ласкал, приговаривал по-русски. И ночью, в тёплой постели, когда обнявшись лежали, рассказывал ей, какое идеальное воспитание получали он, маленький Хайнрих, и одиннадцать его старших братьев в доме своего отца, малоимущего пастора; как поднимали их ни свет ни заря и давали каждому по кусочку чёрствого хлеба – «до ужина!», и ещё и приказывал отец обливаться ледяной водой из колодца на большой площади! Вот так надобно детей готовить к жизни!.. И Марфа Ивановна соглашалась, но всё равно очень жалела своего Андрея Ивановича. И поцелует, бывало, в правое ушко, в самую мочку – очень хорошо, просто отлично! И всё остальное тоже – отлично, отлично...
Вот только цесаревна Елизавет Петровна начинала пугать умного Андрея Ивановича. То есть она теперь и вовсе о нём не задумывалась, но её поведение очень Андрея Ивановича пугало. Уже все знали и сплетничали вовсю о том, что молодая тётка – любовница несовершеннолетнего племянника. Да они будто и не скрывались. Кто-то, и ещё кто-то, и ещё кто-то... короче, видали их, как целовались, видали, как пламенело радостно лицо подростка... Но разве Андрей Иванович не этого желал? Отчего же теперь пугался?
Нет, не был Андрей Иванович настолько наивен, он всё приглядывался, приглядывался к Елизавет Петровне, как она шла, павой выступала, хохоча, не заботясь о развившихся власах, выставив груди, почти нагие, едва одетые шёлком... В её сестре старшей тоже замечалось что-то этакое, бешеное, но нет, иное, совсем иное... И мать обеих сестриц, незабвенная Екатерина I, не такова была, себя не теряла. Да, но ей нельзя было себя терять, она так легко могла потерять всё!.. У Анны всё энергическое пошло в образованность, в книжные мечтания и устремления... А Елизавете вроде бы и незачем сдерживаться... Нечто будто ведёт её за руку весело, и доведёт ведь до всего ею желанного! Нечто? Счастливая судьба?..
Однако Андрею Ивановичу уже было ясно, что племянник и тётка привязаны друг к дружке вовсе не как будущие супруги, но именно как страстные любовники. И, стало быть, легко могли надоесть друг другу...
И ещё одно уязвляло Андрея Ивановича: цесаревна так себя вела, будто и в грош не ставила – нарочно – все его расчёты хитромудрые. И ей было всё равно – пусть она племяннику надоест. А ещё он и первый надоест ей! И какое-то там благо Российского государства, объединение двух отраслей великого Петра – всё это было ей – ничто! И говорить с ней об этом нельзя было, невозможно! Она ведь Андрея Ивановича не любила, не верила ему. Да и что с такою говорить – бисер перед хавроньей метать! А с Петром говорить? Он-то что ведал о благе государства? Ему одно лишь: зорко наблюдал, чтобы не навязывали, не принуждали ни к каким действиям. Оставалось в нём это детское «сам!». И потому всякий более или менее разумный, кто желал молодого Петра Алексеевича принудить к чему бы то ни было (в своих, конечно, интересах), должен был так всё уладить, будто государь всё сам, сам!.. Но ведь и Андрей Иванович так действовал. Да не выходило удачи!..
И ещё Андрей Иванович знал: на таких, как Елизавета, не женятся. А хоть семь раз посади её на трон, всё равно никто не женится, а только «так», без венца... Ну и что ей-то до этих разумных его рассуждений? Она своё знает. И не лучше ли... не лучше ли... Не женятся-то не женятся, а ежели пообещать в придачу... Ведь и Меншиков и тот, кажется, ладил её с глаз долой. И – умно, ох умно!..
* * *
А при дворе – праздник за праздником, маскарад за маскарадом. Юный Пётр отыскал книгу об охоте сокольей[23]23
...книгу об охоте сокольей... – Предполагается, что книга «Урядник сокольничья пути» написана царём Алексеем Михайловичем.
[Закрыть], писанную прадедом его, Алексеем Михайловичем. Тот жить не мог без соколов своих. Жену вторую, молодую Наталью Кирилловну Нарышкиных, брал не по обычаю с собою на охоту, чтобы глядела, любовалась бы, как разъезжает верхом старый муж, ещё, мол, хоть куда!.. Но сокольей охоты давно уж не было в заводе. И завести было непросто. А молодой император во что бы то ни стало желал ездить на охоту. Угодили ему гончими да борзыми.
И тут пошло-покатилось. Что ни утро – трубят в рога, собак ведут.
А просторы подмосковные хороши. Это не северные болота, нет! Здесь весной – кружевная зелень, летом – приятная прохлада, зимой – гладь бескрайняя – скачи что есть мочи!
Раскидывали, ставили роскошные палатки – на отдых – пили, ели.
Андрей Иванович в подобных увеселениях не участвовал. Нет уж, на что ему это безмозглое буйство? Он лучше спрячется за пёстрою ширмой, над которой прыгают эти куколки, мнящие себя Бог весть какими важными, а он спрячется и подёргает за ниточки, как ловкий кукольник. В детстве он видывал такие кукольные представления, когда над ширмой кривлялся мошенник Кашперле в красном колпачке с бубенчиками, здесь такую куклу «Петрушкой» зовут... Петрушка... юный император...
* * *
Но последствия этого Остерманова дёрганья за ниточки начали скоро проявляться. Несколько раз ездил он к самому Алексею Григорьевичу Долгорукову, изъявил почтение. Долгоруковы теперь у самого трона стояли, совсем как прежде – Меншиков. Но, быть может, положение их было прочнее и опасаться их следовало поболее? Ведь за Александром Даниловичем никто не стоял, кроме него самого с его энергией и честолюбием. Зарвался он, вот и сорвался. А Долгоруковы были старый русский род, много их было. Вот и в Верховном тайном совете уже имелось не то пятеро, не то шестеро Долгоруковых... Впрочем, а что он такое – Верховный тайный совет? Поди разбери, кто правит доподлинно? А чего разбирать! Правит молодой Ваня, Иван Долгоруков, ему – всё! Уж его по всей Москве «гостем досадным и страшным»[24]24
...«гостем досадным и страшным»... – называет молодого Ивана Долгорукова Феофан Прокопович.
[Закрыть] кличут...
Но Андрей Иванович явился тихо-смирно к Долгорукову на поклон. Побеседовали тишком, выпили по рюмке, закусили...
И – совсем немного времени миновало, а цесаревне через Маврушку Шепелеву попала новёшенькая фарфоровая табакерка. Лизета не столько до табаку, сколько до табакерок охотница была. Сорок тысяч рублей в год она получала от имений своих, да из казны государственной отпускалось ей. Но такая транжирка! Всё-то у неё нехватки! На одни платья да табакерки сколько изводила! А неряха! Девки-прислуга теснятся в коморке вонючей, спальня днями не метена, а она и не прикажет ничего. Ей лишь бы одеколоном обтереться, нафуфыриться и – хвост кверху! Андрей Иванович с ужасом о её таком неряшестве слушал. Да у него дома!.. Но кто бы ей стал указывать? Ей только потакали.
И вот, стало быть, новёшенькая табакерка. И на крышке – нежными красками – портрет.
Маврушка не замедлила табакерочку представить цесаревне. Лизета загорелась:
– Откуда? Где достала?
– Алексей Григорьевич подарить изволил.
– Долгоруков-старший! Тебе? Зачем? Гляди, Маврушка! У него губа не дура, а жена стара да хвора... – Мысли цесаревны заработали в самом привычном, любимом направлении. – Дай-ка гляну!
И воззрилась на портрет.
В светлом нежном сиянии улыбался прекрасный принц, и наряженный по самой последней моде – алый кафтан с пуговками золотыми...
– Маврушка, кто? – выдохнула.
Но и Мавра не знала. И цесаревна тотчас велела ей всё о красавце вызнать.
Вызнать оказалось проще пареной репы. И уже на следующий день Маврушка рапортовала, что писаный красавец с табакерки – известный щёголь и незаконный сын Августа Польского Мориц Саксонский. И толкуют, ладится в Москву, к государю.