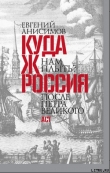Текст книги "Гром победы"
Автор книги: Фаина Гримберг
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц)
– Но ты, Лизета, не всё сказала, скажи до конца...
– Ты сама знаешь, не стану я терпеть этих твоих нарочитостей. Не смей издеваться надо мною! Слышала?!
Анна подалась вперёд.
– Лизета, я прошу тебя, – зазвенел голос, но оставался горделив. – Надобно мне, чтобы ты, ты сказала! От тебя хочу услышать... Не подслушивать девок, не от мадам д’Онуа, не от Маврушки Шепелевой!.. Ты, сестра моя, скажи мне прямо, ужели правда?..
Голос Анны умолял, но умолял горделиво, как подобает молить принцессе, и молить равную, сестру! Елизавет почувствовала вознесение на эту высоту чувств, царственных, высоких чувств... Как бывало начитаешься пиес французских Расиновых, и говорить, изъясняться хочется высокими стихами, переложить эту высоту на русский лад...
– Правда это, страшная, унизительная для нас правда! Я поверила. Виллим Монс – государынин амант, любовник[10]10
Виллим Монс – государынин амант... – Возможно, в память об Анне Монс, с которой обошёлся он не вполне справедливо, Пётр I был милостив к её сестре, Матрёне Балк, и младшему брату Виллиму. История следствия о казнокрадстве Монса и Матрёны Балк описывалась много раз. Никаких достоверных сведений о том, что Монс действительно был возлюбленным Екатерины Алексеевны, не существует.
[Закрыть]!..
Анна порывисто приложила к лицу ладони. Но то уже не был жест девической, почти детской стыдливости. Теперь движение рук, дланей, было величаво, и столь же величаво отняла ладони от лица.
– Этому нельзя верить, Елизавета. – Голос понизился. – Государь, наш отец, и... это ничтожество, поднятый из грязи... этот Монс!.. – Анна выразила голосом такую брезгливость, будто одно лишь произнесение ненавистного имени уже могло опасно грязнить...
– Говорят, будто и мы – не дочери своего отца, будто и наша мать поднята из самой низости, из-под телеги, где лежала, пленная, с простым солдатом! Знай всё!
На этот раз Анна не вскрикнула, не прикрыла лицо руками. Глядела серьёзно.
– Этого не будет, Лизета, – заговорила размеренно. – Этому не бывать более. Клянусь тебе, государь возвратится из похода и всё будет кончено. Будет покончено со всем этим. И сейчас я желаю знать лишь одно: могу ли я полагаться на тебя? Этот наш разговор и моя клятва тебе – это не должно быть ведомо никому! Отвечай прямо: ты чувствуешь себя дочерью императора великой державы? Отвечай прямо, слышишь, мне, своей старшей сестре, отвечай!
– Да! – Елизавет ответила с непривычной для себя серьёзностью.
– Тогда не мысли о нечистоте. Мы обе – дочери императора, и любое сомнение в этом будет грозить гибелью дерзнувшему... И молчи, молчи...
Елизавет поднялась и держала её руки в своих, подойдя совсем близко...
* * *
Мадам д’Онуа кинулась пёстрой всполошённой птицей к своей питомице, хватала кисти рук – холодные – судорожно жала к этим сморщенным своим губам сухим...
– Принцесса!.. Ваше высочество... Вы истинная... истинная...
Анна почувствовала капельки старческой слюнки на тыльной стороне левой своей ладони. Брезгливо отняла руки...
– Кто ещё, кроме вас, подслушал мой разговор с сестрой, мадам? – спросила сухо и повелительно.
– Никто... совершенно никто!..
– То есть никто, кроме вас? – уточнила с лёгкой иронией.
– Я... право же...
– Вы можете не оправдываться. Ваше положение близкой к принцессе особы обязывает вас так или иначе заботиться о себе. И... почему вы стоите как истукан? Пройдёмте в спальню... Или нет, ступайте в туалетную комнату, пусть нальют свежей воды для умывания, мне надо вымыть руки...
Анна легко и с облегчением вздохнула, далее невозможно было терпеть эти капельки слюны... Остановила кинувшуюся рысью...
– И если сделается известно, паче чаяния... Я знаю: этот разговор подслушивали вы одна. И если, паче чаяния, сделается известно, то как бы ни обернулись в дальнейшем обстоятельства, не полагайте себя в безопасности!..
* * *
Уже сидя в ночном платье у нахтиша – туалетного стольца, склонив голову и глядя на себя пытливо в зеркало створчатое, Анна обернулась, будто бы только сейчас вспомнив, к девкам, своим фрейлинам:
– Ступайте, вы более не нужны. И пошлите мне мадам д’Онуа.
И всё было исполнено быстро и тихо. Они ушли, и мадам д’Онуа тотчас явилась...
Остановилась в дверях.
– Подите сюда, – приказала Анна отрывисто. – Близко подите... ко мне... близко... Да ну же! – с нетерпеливостью...
Француженка ещё не подошла совсем близко, а девочка уже потянулась в нетерпении ей навстречу и – едва ли не с размаху – припала головой, лицом к старческой груди сухой...
Сердце колотилось, Анна молчала. И была благодарна старой учительнице за ответное молчание.
«Что со мной? – думалось Анне. – Я прежде не ведала, я вовсе и не знала, что я такова. Но когда же я почуяла в себе эту силу и властность? И неужели это всё – от любви? От любви – к нему...»
И впервые испытала это чувство усталости от самой себя, столь ведомое властным и сильным...
* * *
Цесаревнам велено было сбираться в дорогу – из Москвы в Петербург. Она уже знала, что герцогу надлежит оставаться в Москве – ждать государя из похода.
Длинная вереница карет и возков двинулась. По государеву приказу Меншиков сопровождал государыню и великих княжон в Петербург. С ними ехали многие знатные дамы.
Анна сидела в карете с Лизетой, мадам д’Онуа и Маврой Шепелевой.
Сегодня утром Маврушка была при туалете цесаревны, всё вертелась и выспрашивала, какое той угодно платье, не будет ли нынче хорошо белое объяринное – из плотного шёлка, сребристо-узорное – струйками узор завивается, материя-то ещё от бабки, от Натальи Кирилловны, старинная персидская, государем Алексей Михалычем дарёная; с флёровой прозрачной оторочкой – фальбалой...
Анна едва удерживалась, чтобы не нахмуриться, а то вот так бы и нахмурилась, и выдала бы себя... Как тягостно ей сейчас все эти словеса угодливые слышать – «бабушка Наталья Кирилловна, дед-государь Алексей Михайлович»... И во всём этом мёду слышится, чуется терпкий, горький дёготь – не верят, не верят!.. Никто не верит, что она – дочь своего отца, никто не верит в права её матери... И – вот оно, самое больное: а ежели правильно не верят, ежели по правде? Но нет, и это ещё не самое! Самое – это он, худенький, сероглазый... Он... он знает?.. И прежняя, всегдашняя робость охватывает Аннушку, прежнюю на миг...
Но нет, она не будет прежней. Сколько им угодно, они могут не верить, но они пусть изведают, что бывает от государей – за неверие!..
– Ах, да не всё ли равно, Маврушка, для дороги-то не всё ли равно! Перед кем красоваться? Пред князем Александрой Данилычем велишь? Да он меня крошкой нашивал на руках...
И – холодом пахнуло в душе – глубоко... «Нашивал на руках...» От него, сказывают, взята к царю девица пленная Марта, она у него, у Меншикова, в полюбовницах жила...
Но прочь этот предательский холод, прочь! Они узнают, изведают, каково это – не верить!.. А он, худенький, сероглазый, он будет женихом принцессы, дочери императора...
– Вели подать объяринное...
И отчего Маврушка так поглядывает?.. Ах, снова это несносное положение: кто-то что-то знает, ведает, желает вертеть-крутить ею по своему хотению, а она ничего не знает!..
И о платье объяринном, это Маврушка – неспроста!.. Но сейчас и додумывать некогда. Анна слишком занята своими мыслями. О чём? Она знает о чём!..
* * *
Карета едет медленно. Путь ухабистый. Большие колеса проваливаются в рытвины и колдобины... О Господи, неужто со времени давних выездов царицы Натальи Кирилловны на богомолье не чинена дорога?..
Анна продолжает дивиться себе. Откуда взялась в ней эта ироничность? Прежде, впрочем, бывало находило ребяческое озорство, надсмеяться по-детски... Или из этого детского озорства и выросла нынешняя ирония?.. Из всего прежнего выросла нынешняя Анна, только чёрточки, прежде едва приметные, вмиг разрослись в целостные свойства характера...
По одну сторону дороги – тёмное поле, на пару, незасеянное, по другую – лес тёмный – стеной стволов... Должно быть, хорошо в лесу теперь, ягоды первые, прохлада... Передать, что ли, просьбу – цепочкой – в государынину карету, чтобы остановили поезд хоть ненадолго... Ступить на травку, размяться...
Мадам д’Онуа ухватывает цепким глазом рассеянную улыбку своей питомицы. Эта, рассеянно-улыбчивая, чуть бесшабашно-равнодушная ко всему на свете, вдруг требующая подать пряников тарель до обеда, эта девочка похожа, должно быть, на своих бабок и тёток, все дни провождавших то в церкви, то в покоях столовых за кушаньем обильным, тучневших не в меру...
«Нет, – порешила Анна, – не надо передавать в царицыну карету просьбу об остановке...»
Но, право, что за путь, что за дорога такая! И сколько отец ни радеет, а всё кругом неладно! В самом простом и то неладно! Уж долго ли поправить дорогу?! А нет, ежели государь не возьмётся сам, не примется самолично за работами надзирать, ничего ведь не сделают! И отчего это?..
Всех троих девочек уже укачало. И мадам д’Онуа клевала носом. В дремоте ей чудилось что-то давнее, и от давности этой – близкое. Чьи-то руки, жёсткие, грубые мальчишечьи руки силком удерживают её, девчушку в короткой ещё юбочке, тащат в дом, в тёмную дверь... дом ощущается большим-большим... И в самый последний миг она видит с тоской, как резко и свободно уходит вверх от неё мощёная улица... И будто она уже тогда знала, как всё переменится в её жизни после тех дней... А ведь она тогда не знала... Но она не хочет памяти, не хочет всех этих воспоминаний о стыдном, тягостном, дурном существовании... Она мотает головой и просыпается, заставила себя проснуться...
Девочки спят, припав, привалившись друг к дружке... До чего хороша эта розовая юность... А у неё-то даже и зависти уже не осталось; так давно миновало её время, и юность, и зрелость, всё миновало... Но, право же, разве она плохо устроила свою жизнь под старость? Главное, конечно, успеть покинуть эту страну вовремя... Когда? Ну, это уж увидим...
Но что это, однако? Неужели ей чудится? Музыка!.. Нежными переливами несутся всё ближе и ближе звуки валторн и скрипок, флейта набирает силу... Да нет же, это вовсе не во сне!..
Анна пробуждается, резко вздрогнув. Флейта, словно близкий человеческий голос, его голос!.. Флейта звучит и говорит ей, с нею говорит... Кажется, флейта, приложенная к его губам, да, да, конечно же, к его губам, и сейчас, сейчас; и может сказать всё, что не высказывает он словами. Когда он говорит, его слова, они будто для него самого чужие, ничего на самом деле не говорящие. А флейта у его губ – она его, она для того, чтобы он мог истинно говорить...
Но откуда, почему?.. Утро, Маврушка, объяринное платье... Ах, Маврушка всё знала!.. Но как же сделать так, чтобы Анна знала всё прежде своих приближённых?.. И что всё это значит? Музыка, флейта... Как он здесь, на её пути?..
Лизета и Мавра Шепелева уже не спят. Наслаждаются гармоническими звуками.
– Ты знала, Лизета? Ты знаешь?
– Нет, нет... – Лизета поспешно отвечает и будто боится, что Анна не поверит ей. – Не знала, взаправду не знаю...
– Маврушка, ты знала, не отпирайся! Почему утром не сказала? Я тебе вот попомню платье объяринное!..
– Виновата... – бормочет Мавра... Но понимает, что цесаревна не сердится всерьёз...
– По правде, Мавра, ведь знала ты? Откуда? – вмешивается Лизета.
– Да случаем, вышел случай. Государынина Ягана Петрова Акулине сказывала, будто слыхать, что их высочество герцог Голштинский сбираются сделать увеселительную прогулку, от Москвы за несколько вёрст; об этом-де государь не приказывал, что не велено чинить...
И вдруг на всех троих девочек нападает отчаянный звонкий хохотун. Все три смеются взрывами тонкими и звонкими, это какой-то серебристый фейерверк смеха... И Анна смеётся веселее и беззаботнее всех... Покамест прочь все её заботы и замыслы, покамест прочь! Сейчас она увидит его!..
* * *
Бассевиц и Берхгольц полагали, что ничего ослушного не будет в подобной увеселительной поездке. Ведь совсем невеликое, небольшое удаление от Москвы. И поезд государыни и цесаревен едет мимо, но... возможно, и не остановится...
Наверняка знали, что не остановится. Бассевиц без колебания положил бы голову свою умную на плаху, ежели бы государыня с цесаревнами вступили в палатку герцога и сели бы за стол. Нет, Меншиков не таковский! Он будет из казны бочонками золото красть, но цесаревнам не позволит войти в холостую палатку голштинского герцога. Это повеление государя – сопровождать и благополучно доставить государеву супругу и дочерей в Санкт-Петербург, это Меншиков исполнит, как следует быть. Он знает, как показать усердие... Нет, эта поездка, это можно, возможно... В конце концов, это всего лишь проводы. Влюблённый герцог провожает в печали принцессу... Это* – можно...
Музыканты пошли от палатки нарядной ближе к дороге, к замедляющимся экипажам...
Герцог сам солировал на флейте.
Меншиков вышел ему навстречу из своей кареты. Не выйти было нельзя. Меншиков досадовал. Как он будет рассказывать обо всём этом государю? Скорее всего Пётр Алексеевич лишь посмеётся над этими наивными ухищрениями влюблённого герцога... А если нет? А если – гнев?..
Колеса меж тем скрипели. Экипажи один за другим останавливались. Герцог поклонился, отняв от губ флейту.
Но прежде чем успел Меншиков принять, то есть даже вернее было бы сказать, придумать, надумать какое-либо решение, он увидел бегущую девочку в юбках широких – башмачками быстро перебирала, будто одними носками остренькими башмачков. Это была Мавра Шепелева, Она не добежала к нему, приостановилась, будто переводя дыхание. Не совсем понимал, чего ей занадобилось. Но остановилась. И где-то от середины поезда, от кареты принцесс, медленно подошла Анна...
Меншиков никогда не отличался тонкостью чувств. Но тогда, едва глянув на Анну, он вовсе по-новому увидал её. Как она тоже остановилась, но так независимо, свободно, отдаляясь от Маврушки. Руки Анны были ещё детски худощавые и казались, это у многих девочек так кажется, слишком длинными. И в лице ещё сохранялась детскость. Но вместе с тем вдруг он увидал ясно и явственно такую определённость, такую!.. И при самом первом этом своём видении даже испугался, растерялся. Почему-то вспомнилась царевна Софья Алексеевна, как о ней рассказывали, как она входила уверенно в палаты, в какие до неё царевнам не положено было входить... И понял, почему вспомнилась. Потому что в этой девочке, в этой племяннице своей тётки, вдруг проглянуло... Независимость, определённость, всё то... и – вслед за тем – башмачок остроносый, крепко поставленный на ступеньку, на ступеньку трона...
И всё это было в цесаревне совсем не такое, как в матери её, в Екатерине Алексеевне, в той-то никогда не виделось определённости, устойчивости; ту и на трон занесло бы – всё равно не стал бы Ментиков пугаться. Господи! Да сам бы на трон посадил Екатерину Алексеевну, при ней-то ему не страшно, ему – лучше!..
А эта девочка приблизилась так прогулочно и величественно, и не обращая на него внимания. Приостановилась. И выражение было на лице – величественной приветливости. И – в этом самом выражении – такая теплота глубокая. И герцог, этот вечно потерянный юнец, сейчас словно бы воспринял всё от цесаревны. Поклонился с изяществом необыкновенным. Ловко! Меншиков едва не выбранился одобрительно... Анна отвечала церемониальным приседанием. Но в этом внезапном изяществе – его и в церемонности величественной её было что-то единяющее обоих... И эта теплота, теплота...
И кто бы посмел усмотреть во всём этом недозволенное?
Анна легко повернулась и пошла к своей карете, Маврушка – за ней. Всё это сделалось так скоро, что даже Ягана Петрова только добегала ж Меншикову и кричала:
– Александра Данилович!.. Александра Данилович! Государыня!..
И уже было ясное распоряжение государыни.
И поезд тронулся. И Меншиков сидел в своей карете...
Вереницей – кареты – проехали мимо музыкантов. Скрипачи и валторнисты играли. Герцог солировал...
* * *
И только когда проехала последняя карета и вот уже и отдалилась, только тогда сероглазый мальчик понял, что с ним на короткое время сделалось нечто особенное, такого с ним прежде не случалось; и ведь сделалось так мгновенно, будто и само собой; но теперь, когда миновало это мгновенное состояние, ему было не по себе. Но он словно бы вспомнил себя, совсем недавнего, такого комично влюблённого, всем – в насмешку... И вдруг и не думалось уже о принцессе, какая она была только что, и ведь тоже особенная, а думалось о себе. И думалось просто. И овладело единственное желание: быть простым, ясным, весёлым...
В палатке нарядной громко звучала немецкая речь. Берхгольц с любопытством поглядывал на своего худенького, сероглазого мальчика, чтобы после записать...
А мальчик был оживлён и сердечен, и был и не мальчик, а юноша, живой, простой и сердечный принц, желающий развлечь себя и приближённых.
Карл-Фридрих оживлённо подходил к своим спутникам, к слугам, рассыпал распоряжения и реплики...
– Поставьте сюда, Теодор!.. Нет, Якоб, заливное – сюда!..
Он похлопывал музыкантов по плечу и бросал го и дело:
– Отлично! Отлично!..
Он вдруг сделался весел, прост и уверен в себе в полной мере. Берхгольц подумал, что именно сейчас – и вдруг – проявилась, определилась истинная сущность герцога, вот он каков...
Сели за стол.
В стеклянных стаканах густо играло красное.
– Выпьем за этот ход быстротечного времени, ибо он дарит нам розы! – провозгласил герцог. И едва осушили первый стакан, тотчас произнёс второй тост: – А теперь – за это доброе вино, каждому из нас доброе вино – хороший товарищ и утешитель!
Холостая вольная пирушка удалась. Уже все чувствовали себя друзьями и равными. Щёки разгорелись...
– За Оттилию, Франц!..
– За Эммилину!..
Срывает он в полях цветы
И тайно слёзы льёт в тиши...
В краю родном, любовь моя,
Молись ты за меня!..
Музыканты грянули. Эрнст растянул полы кафтана и припрыгивал, гримасничая, изображая танцующую девицу. Долговязый Лотар Влох вертелся вокруг волчком...
Внезапно герцог почувствовал с ясностью, что эта обретённая им столь внезапно полная определённость и уверенность отдаляет его от Анны. И надо было напрячь мысли и чувства, и тогда сделается совсем понятно – почему. Но он также чувствовал, что если сделается понятно, то понимание будет слишком сложным, даже и непосильным. А он не хотел сложности, его суть была в том, чтобы хотеть простоты, простого хотеть; это он понимал о себе. И потому всё свёл к простому. Да, конечно, холостая пирушка и должна отдалять от этих меланхолических воздыханий о невесте, так и должно быть. Но ведь всё пристойно, вполне пристойно, абсолютно пристойно... Да, да, это всего лишь сторона жизни, одна из сторон его жизни. Это мужская жизнь!..
Но в глубине души он чувствовал, что на самом-то деле всё не так просто, нет, не так просто. Но он гнал это смутное и почти гнетущее чувство, вымывал это чувство из своей души новыми стаканами доброго красного...
* * *
От государыни было повеление. Сама верная и любимая государынина Ягана Петрова явилась проводить цесаревну Анну в покои государыни.
Ягана поглядывала. И в этом выражении плотнощекого лица, в уклончивых глазах, в лёгкой насмешливости сжатых губ Анна различала почтительность и будто Ягана принимала теперь цесаревну всерьёз. А прежде-то глядела на Анну как на малого несмышлёного ребёнка...
Государыня осталась наедине с дочерью. Екатерина сидела по-домашнему, клубок шерстяной скатился на пол, надвязывала пятку на чулке государя. Анна посмотрела на большой тёмный чулок на материных, чуть расставленных под юбкой широких коленях. Было сейчас покойно и уютно. Вспомнилось, как мать смеётся заразительно... Она ведь любит мать...
Чулок лежал на коленях, будто живое что-то и странное... Сделалось жутко почему-то... Что живое? Отрубленная нога? Нет. А будто чулок тёмный сам по себе живой... Память неуслужливо припугнула, оживила воспоминание о давнем деле Марьюшки, девицы Гамильтон., Отрубленная голова!..
Так ярко вдруг представилась красивая голова отдельно от красивого тела... За свою недолгую ещё жизнь Анна не видала ещё ни одной казни...
Анна почувствовала, как её всю будто шатнуло. Испугалась. Мысль смутная породилась от этого видения головы красавицы-детоубийцы – вот мать сейчас приметила, как пошатнулась Анна... А ежели мать подумает, что... В это мгновение Анна поняла, что значит болезненно стыдиться себя. Она стыдилась мучительно и болезненно, вдруг поняв, что эта смутная тень мысли о возможной – когда-нибудь! – беременности от него – не только страшна, но и приятна как-то. И даже смутно желалось, чтобы мать именно это самое и подумала...
Но мать глянула на неё уютно и домашне. Ах, мать всё поняла своей опытностью и простой любовью к дочери, всё-всё. Мать приподняла руку, откинулся полосатый рукав простого будничного платья, мать потыкала спицей в волосы вьющиеся тёмные, почесала голову...
– Подыми-ка мне, Аннушка, клубок...
Анна послушно подняла клубок и подала матери.
Мать не приглашала её присесть, но это было потому, что здесь, в материнских комнатах, девочка ведь была дома и могла ведь вставать и присаживаться и без приглашения или позволения...
– Ты что же, Аннушка, – в голосе матери не слышались угроза или осуждение, – ты что же, сама себе голова, сама всё решила?
Мать говорила неспешно и раздумчиво, по-русски, за многолетнее своё супружество она хорошо почувствовала язык, родной язык её любимого, её мужа.
Анна огляделась, остановившись в непринуждённой позе, чуть опираясь тонким, не детским, девическим уже телом на присогнутую правую ножку. Было хорошо, спокойно, было спокойное любопытство.
– Да, – отвечала Анна сдержанно, свободно и спокойно.
– Что же ты в нём-то... – Мать начала уютно, не договорила, посмотрела на Аннушку с любопытством и вдруг проронила: – На государя-то нашего не похож ведь, несходен...
Анна не верила ушам своим. Откуда, как узнала мать о потайных мыслях Аннушкиных, в коих будущий суженый прежде являлся сходным с отцом, с государем Петром... И в этой раздумчивости материного голоса было не одно лишь уютное спокойствие, но был ум, этот особливый женский ум... При девочках кто-то рассказал, как Алексей Петрович покойный глумился над отцом: батюшка-де полагает мою мачеху умной. Тогда Анна, помнится, подумала спокойно, что старший брат, пожалуй, был прав; никакого ума она не замечала в матери. Но теперь... Нет, мать умна, умна простым и прозорливым умом, как деревенская баба какая-нибудь. Но прежде Аннушка и не представляла себе подобного ума, а если бы и представила, презрела бы, наверное... Теперь же...
– Мы-то с отцом другое тебе ладили, – всё так же раздумчиво продолжала мать.
– Париж?.. – Аннушка живо перебила.
– А хотя бы... – Мать смотрела просто и будто все мысли Аннушкины видела и понимала. – Париж, королевна французская... – Мать это произнесла, вовсе и не убеждая, не пытаясь убедить, а будто просто, по-домашнему делясь своими мечтаниями.
– Нет, – Аннушка говорила просто и с твёрдостью. – Оставьте Лизете. Для дел государственных не всё ли едино, которая из нас!..
– Всё-то ведаешь! Умна... – Мать вздохнула тяжело, и тоже – по-бабьи. – Отец-то хворает...
Анна встрепенулась.
– Вести из похода?
– Нет, нет, не трепещись этак. Ишь! Ты подумай: годы наши. И я ведь не молоденька. Вот всё кровь приливает, голове трудно... Бог весть... Куда со своим-то сероглазым?..
Анна покраснела, но было всё равно. Господи! Как мать всё знает, всё-всё!.. «Сероглазый!..»
– Куда? – повторила мать раздумчиво и с какой-то безысходностью.
Анна невольно вслушалась в звучание её голоса. Не ослышалась ли? И вправду будто совета испрашивает мать у неё? У неё? У дочери невзрослой?.. И в этом «куда?», нет, не простое бабье раздумье о дочериной участи грядущей... Но что же? Мать спрашивает, ведомо ли самой Анне?.. Сказать решительно?
– Мне ведомо. Но каково на деле батюшкино решение, тебе знать лучше. – Замолчала круто, и – разом: – Я желаю государю жизни долгой, мы все – ничто в сравнении с ним! – горячо...
– Хорошо хоть понимаешь... Прежние-то цари русские объявляли наследников загодя...
– Отец знает...
Толсто приподнялась мать, протянула дочери руки полные... Аннушка послушно, как маленькая, привлеклась к материному теплу... Мать шептала... и будто была растерянна и ждала защиты...
– Не знает он! – И почти бабьим стоном сдавленным: – Не знает! Из кого выбирать-то? Вы с Лизеткой – две девки, да Петруша, внучок опального сына! А помощнички-то, «гнезда Петрова птенцы», знала бы каковы! А покойного Ивана Алексеича дочки, Прасковьины-то шалавы!.. Ах, что делать, что делать? Скажи!..
Это нежданное, искреннее «скажи!» словно бы подстегнуло Анну.
– Что делать? Отправить Лизету во Францию. Дочерям Ивана Алексеевича внушить ясно, что не пристало им и помышлять о троне российском... – разогналась было, но вдруг замолчала, заговорила медленнее: – Петрушу и сестру Наталью не обидим. Вырастим, будут себя знать, понимать. Завеса откинута отцовскими трудами, и мы теперь у мира всего – на глазах! Не те ныне времена, не прежние, когда в королевстве аглицком Мария, дщерь Генриха VIII[11]11
...Мария, дщерь Генриха VIII... – Английская династическая смута XVI в. во многом напоминает наше Смутное время. После смерти Генриха VIII его сын Эдуард (герой известного романа Марка Гиена «Принц и нищий») вскоре умер или был отравлен. Он завещал престол своей юной родственнице Джоанне Сеймур. Старшая дочь Генриха, Мария, прозванная Кровавой Мари, захватила власть и казнила юную Джоанну. В конце концов престол достался последней в династии Тюдоров, знаменитой королеве Елизавете.
[Закрыть], на плаху возвела роднину свою, Иоанну Сеймур; когда царевича малого, Дмитрия, убили в Угличе! Не те времена!..
Анна говорила с убеждением горячим и уверенно. Мать глядела на неё с неуверенностью и гордостью.
– Ой ли не те? – обронила по-бабьи тихо и недоверчиво.
– Не те! – с горячей твёрдостью настаивала Анна. – Отец... государь должен знать, должен измыслить нечто. Не для меня, вовсе нет. Я не власти хочу, не почёта... я... о благе русской державы!.. Пусть только отец измыслит, намыслит, как... как далее сохранить, продолжить его дело! Я пойму! Пусть только намыслит!
– Что же он тебе намыслит? – Мать почти горевала и не верила, ничему ведь не верила...
И отвечать надобно было со всею серьёзностью, веско. А так отвечать Анна и не могла. И никто не мог, никто, она чувствовала, и мать чувствовала... И самое страшное: даже и отец, великий отец, не мог. Не знал, не надумал ещё... как это намыслить в России... И... не успевал уже!.. Они обе знали!.. А надо было отвечать... С твёрдостью... уверенно…
– Что намыслит? – повторила мать.
– ...Парламент... – вырвалось... Первое было, что припомнилось. Недавно ведь только взялась размышлять об истории государств чужеземных, о русской истории...
– Па-арламент!.. – Мать горевала. – С этакими-то – парламент!..
Анна поняла без уточнений. Перед взором внутренним пролетела мгновенно, стасовалась колода – толстощёкие лица, шёлково-бархатные кафтаны, звёздчатые ордена, осанистость животов и локоновость париков – Головкин, Меншиков, Шафиров, Остерман, Матвеев, прочие... И не то чтобы они были сами по себе дурны, а были словно бы из другого времени и потому не могли понять отца, Отец будто из какого-то неведомого будущего забежал случайно, случайно шагнул назад, и потому тоже не всё понимал... Анне показалось, что отец мечется большими, широкими, почти судорожными шагами... и... тоже не всё, не всё понимает!.. А она, Аннушка, дочь, сейчас пытается нагнать его, но как его нагнать, ежели он и сам не ведает в точности, куда... А эти все... Припомнилось из детства, которое казалось уже совсем давним, как вместе с Лизетой строят на столе карточный дворец; и Лизетка, безобразница, подметив, как увлечена сестрица, как прилаживает, подравнивает... и тут Лизетка всё рушит озорной жёсткой ладошкой – на Аннушкины слёзы... Но нет, не так это будет. И те, что придут после отца, они даже и не будут рушить, нет, они будут строить далее; как надо будут строить; бессознательно будут действовать так, как велят место и время... «Они»? «Те, которые»? А что же она сама, Анна? Что же она? Разве не она?..
– Сероглазый твой разберёт ли тебя? – Мать спросила с этой бабьей безысходностью.
– У него – своё, свои владения. – Анна вновь говорила спокойно. – Править Россией он не будет.
– А что же он будет-то?
– Будет моим мужем, своими владениями будет править...
Это всё было детское, так мать это разумела. Но и сама ведь не могла ничего надумать. Было чувство, будто хватают за горло... и ведь было, было, кому ухватить!.. Боялась. Хотела предупредить дочь и... боялась. Был самый простой страх за свою жизнь, за это вот самое горло. Совсем не верила в то, что миновались тёмные времена убийств и смут. Совсем не верила...
И что оставалось? Только одно, материнское, верное, то, что она, кажется, могла наверняка...
– Ну, ступай, Аннушка, ступай к себе. И душу-то не тревожь. Я уж буду с ним поласковее... – Мать улыбнулась...
* * *
«Цесаревна хорошеет день ото дня, – записывал Берхгольц. – Герцог ведёт себя как истинный рыцарь. Но, увы! Как редко удаётся ему видеть её высочество... Однако при дворе с нами сделались любезны...»
Миновал 1723 год...
* * *
После многотрудного персидского похода государь болел. В старой столице, в Москве, должно было произойти торжественное коронование Екатерины Алексеевны. Пышность готовилась невиданная. Супруге государя предстояло венчаться на царство, официально сделаться императрицею, получить права на российский императорский престол!..
«Надо надеяться, что, с помощию Божиею, воспоследует всему желанный конец в коронацию»; – записывал Берхгольц...
Государь и государыня оставались милостивы к герцогу...
* * *
Толки о французском сватовстве не прекращались. В сущности, ни Бассевицу, ни Берхгольцу, ни даже многоумному Андрей Иванычу не было ясно вполне, за кого же отдаёт государь дочерей. И которую – за кого? Полная уверенность была лишь у одного герцога. Обострённые чувства влюблённого ясно твердили: «Она будет твоею». И порою казалось вдруг (и это пугало его, и он это теснил из чувств своих, из своего сознания), а всё же ведь казалось! Казалось, что ничего хорошего не будет в этом. Просто для жизни, для его обычной, обыденной, каждодневной жизни – «ничего хорошего не сулит это исполнение заветного желания. Но прогонял, прогонял...
* * *
Анна и Лизета отдалились друг от дружки. Прежде им случалось ссориться, тогда бывало отдаление, но надолго – никогда. Теперь же отдаление было какое-то естественное и безо всяких ссор девических...
Анна приказала сыскать и принести польские книги, оставшиеся ещё от царевны Софьи Алексеевны. Сидела в своих комнатах, наклонялась над страницами, подпиралась устало локотком. О чём думала? Будто и не замечала наступления весны и подготовки к большому торжеству...
А Лизета просто махнула рукой, белой своей ручкой, на все эти трудности, сложности, интриги. Стоит ли вникать в то, во что батюшка и сам, кажется, ещё не вник до конца. Теперь внутреннее некое ощущение верно подсказывало ей, что дальнейшая её судьба всё равно с Парижем связана не будет. И было и ещё одно верное чувство: ещё возможно оставаться весёлой, беззаботной, ей, Лизете, возможно. Да, возможно, что бы там ни творилось, всё равно возможно не задумываться о планах батюшки, и даже сплетни о матушке перестали тревожить Лизету. Чувство было ясное, верное: возможно обо всём этом не думать!..