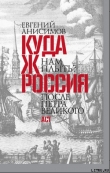Текст книги "Гром победы"
Автор книги: Фаина Гримберг
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 22 страниц)
Когда стояла поодаль от него, чувствовала себя выше его.
– Мы никуда не поедем из России, – повторила. – Скоро вы станете моим мужем. Мы должны доверять друг другу. Вам должны быть известны, вам не могут быть неизвестны намерения государя относительно меня, его старшей дочери...
Лицо молодого герцога, бледное, немного оживилось, чуть двинул кистью правой руки.
– Об этих намерениях толковали при жизни покойного государя. Ныне же я постоянно слышу толки о том, что наследником Вашей дражайшей матушки, да продлит Господь её дни, наследником её будет объявлен первый потомок государя по мужской линии, его внук Пётр Алексеевич...
Она чувствовала, как раздражение мешает ей держаться спокойно и судить здраво.
– Это ложь, герцог! Согласно указу отца, правитель означает себе наследника по своему желанию, но отнюдь не исходя из преимуществ потомства по мужской линии...
– Но я полагаю, будет справедливо иметь на всероссийском императорском престоле внука великого Петра... – Опустил глаза на скрещённые на коленях пальцы обеих рук...
Взгляд её невольно остановился на этом скрещении. Ей показалось, что оно двигается... двигается... к тёмной встопорщенности гульфика... Она почувствовала испуг, раздражилась на себя, на герцога...
– Помимо некоей абстрактной справедливости, существует справедливость во благо России! Я не намереваюсь отступаться от своих прав...
Она посмотрела на него совсем случайно, вовсе и не хотела смотреть, сердилась ведь, но всё же случайно посмотрела, глянула. И увидела, что ему больно. Нет, он не просто настаивал на исполнении своих каких-то, нелепых для неё желаний; ему было больно...
– Говорите! – сказала, почти закричала она ему решительно. – Я не хочу причинять Вам боль. В конце концов... Я люблю вас... – Отвернулась от него, диковато уткнула склонённое лицо в ладони, Она впервые признавалась ему в любви, впервые отвечала на все его прежние, многие уже признания. Но странно, именно сейчас она, кажется, любила его менее, чем когда бы то ни было...
Теперь не смотрела на него, но чувствовала, что он ободрился. Заговорил, однако, тихо, даже и робко:
– Я надеялся, что моя супруга будет моей герцогиней, поймёт меня и разделит со мной бремя долга, нашего общего долга перед нашими владениями...
– Фридрих, будьте благоразумны! – Она почти умоляла. – Вы понимали меня прежде... Я дочь императора всероссийского... Я имею свой долг, перед своею страной... Поймите!.. – Он молчал, слушал, но, кажется, осуждал... Она сама удивилась своим дальнейшим словам. – Моё воцарение поможет и Вам исполнить Ваш долг перед Шлезвигом... – Что это? Дивилась себе. Она заискивает, хитрит?.. – Я буду править своей страной, Вы будете заботиться о своих владениях... Наши дети... Наш сын объединит наши владения в одно...
– Я говорю Вам прямо и честно: я не верю и не хочу!..
– Что же тогда? Остаётся разрыв...
– Нет! Я люблю Вас!.. Пусть будет так... Я согласен, я не буду препятствовать Вам...
– А помогать?.. Помогать мне?..
– Я не могу обещать, не могу солгать Вам...
Но всё же теперь стало гораздо лучше, чище и проще...
Напряжённость мучительная уходила.
– Остерман, Андрей Иванович, совершенно оставил меня. И Вас также... – Теперь он говорил, как будто предостерегал, а ведь только что отказался помогать... – Остерман – государственный ум!..
– Фридрих, Фридрих! – Она произнесла нараспев, будто пробуя на вкус его имя. Покачала милой головкой черноволосой. – Я не собираюсь, – чуть насмешливо, – я не собираюсь всю мою дальнейшую жизнь оплакивать нерасположение ко мне дорогого моего Андрея Ивановича. И уверяю Вас, чем менее я буду горевать сейчас, тем более остаётся надежд на будущую его верную службу мне, именно мне. И он действительно государственный ум, я совершенно с Вами согласна. Но покамест свет клином не сошёлся на нашем Андрее Ивановиче. Прелестное русское выражение, не правда ли, «свет клином не сошёлся»... Хотите повторить?.. – Ах, сейчас она почти шалила и была так мила, сама того не сознавая...
– Свет клином не сошёлся, – повторил он послушно, поднялся и шагнул к ней.
Она почему-то всегда невольно пугалась, когда он шёл к ней, почему-то возникало ощущение нападения. Усилием воли заставила себя не откачнуться, не податься от него – назад...
– Я, кажется, заслужил своей покорностью, – теперь и он – шутливо, – я, кажется, заслужил своей покорностью... один поцелуй... – Должно быть, она не уследила – не смогла – за выражением своего лица, и лицо её выразило досаду, или ещё того хуже – испуг. Во всяком случае, он поспешно уточнил: – Ручку, Ваше высочество, всего лишь Вашу лилейную ручку...
Но ей совсем не хотелось. И она уже не боялась его и шаловливо спрятала обе руки за спину. Но посмотрела на него ласково.
– Послушайте, герцог, Вам что-то было нужно от меня. Вы ведь пришли сегодня вовсе не для того, чтобы просить о поцелуе руки...
– Нужно?.. Да... – Он и вправду забыл и не мог сосредоточиться и вспомнить.
– Вы говорили о свадьбе... – И тут она мгновенно поняла, что именно ему нужно. Да денег же, чего ещё! И как это глупо всё вышло, весь этот разговор! И будто она хочет сама задобрить его. И теперь она не сможет отказать ему...
И вдруг он, с этим любовным пониманием, которое могло столь внезапно, столь неожиданно осенять его, произнёс легко и просто:
– Да, Вы правы. Я хотел попросить у Вас денег. Я хотел нанять дом для нашего житья после свадьбы. Я знал, что вы получили часть Вашего приданого. Я для этого шёл к Вам. Но теперь, после нашего разговора, всё иначе. Я не прошу у Вас денег. Подобная моя просьба сейчас унизила бы и меня и, что ещё хуже и страшнее для меня, подобная моя просьба унизила бы Вас!..
Анна быстро протянула ему руку...
– Целуйте!
– С полным правом? – спросил он, уже склоняя голову.
– Да!..
Губы его приложились нежно и сильно...
* * *
В конце апреля герцог переехал в одно из самых красивых жилищ Санкт-Петербурга, во дворец графа Апраксина, заново графом отделанный и обмеблированный. За аренду граф запросил три тысячи рублей в год, однако согласился поверить в долг. Ныне, впрочем, дома этого вы не отыщете при всём желании, ибо на месте его возведён Зимний дворец.
Герцог настоятельно просил графа не говорить о неуплате, и оттого приближённые герцога ничего не знали и полагали, что он воспользовался деньгами невесты. Просить у неё денег он отправился по настоянию Бассевица.
Граф Апраксин держал своё слово и о своём одолжении герцогу не говорил. Однако всем ведь было известно, что денег у герцога нет. И потому при дворе полагали, что деньги взяты у принцессы. Об этом толковали с достаточной ядовитостью, язвили по поводу бедности герцога и притворно жалели Анну.
Лизета заметила Анне, что это весьма неосмотрительно: позволять герцогу запускать руку в приданое.
– С чего ты взяла? Он не просил у меня денег...
– А толкуют...
– Больше слушай! Клянусь тебе: он не просил!..
– Хочешь, Анна, я стану говорить повсюду, что он, нет, не просил у тебя твоих денег?
– Ты милая, Лизета, и добра ко мне. Но не надо говорить, ничего не надо говорить. Мне все эти мелочи, все эти мелочные сплетни надоели...
* * *
...21 мая 1725 года... 21 мая 1725 года... Близилось...
Это было хорошо – её уговор с герцогом. Он не будет мешаться в её дела. Но вместе с тем она знает: если ей будет грозить серьёзная опасность, он кинется спасать её. Это всё было хорошо.
Держала совет с Францем Матвеевичем. Ах, как она ещё наивна и не знает многого, многого!.. Вспоминала все свои горделивые суждения о благе государства и стыдилась самой себя. Ведь о таких высоких материях мыслила, не понимая самого простого. Не понимала, да, не понимала. И ведь никто не подсказал. Отец? А зачем он должен был ей это подсказывать? Ведь он намеревался оставить ей престол по закону. Андрей Иванович? А уж этот тем более не обязан был учить её ничему излишнему... И только теперь поняла: деньги прежде всего нужны для войск. Сразу вспомнила два полка, окружившие дворец в день воцарения матери... Деньги, награды, чины – это для офицеров и генералов, это на водку и вино – солдатам... И много денег – на подкуп. Многих надобно, придётся подкупить...
Но покамест денег было мало, очень мало. За получение денег предстояла борьба, она чувствовала...
– Я настоятельно советовал бы Вам, Ваше высочество, как можно скорее добиться от Сената выплаты всей оговорённой в брачном контракте суммы...
Она и сама волновалась.
– Как может быть воля государя не исполнена?
– Я не сказал, что она не будет исполнена вовсе. Но нам необходимо, чтобы она была исполнена как можно скорее...
– Вы чего-то недоговариваете? Готовятся перемены, препятствия?..
– Покамест и сам ясно не понимаю, но полагаю, да.
– Что же делать?
– Бомбардировать господ сенаторов прошениями. – Он пожал плечами.
– Всё это странно мне. Ведь Сенат, насколько мне известно, против Меншикова.
– Против Меншикова ещё не означает, увы, что непременно за Вас, Ваше высочество. Простите мне мою прямоту.
– Не просите прощения. Именно прямота мне и необходима сейчас. Но, по-моему, засыпать Сенат прошениями о выдаче денег – бессмысленно. Это только будет увеличивать самые разнообразные подозрения в отношении меня... Я буду думать. Думайте и вы...
* * *
Мадам д’Онуа советовала своё, осторожно, пытаясь говорить намёками...
– Герцог влюблён в Вас, Ваше высочество, и его любовь всё возрастает...
– Ах, что мне до этого сейчас! Это прекрасно – его любовь, но это мне не поможет!..
– Влюблённый мужчина способен на очень многое... И надо думать, любовь герцога лишь ещё возрастёт после свадьбы...
– Он беден. У него нет денег. Вы это знаете.
– Разумное поведение молодой супруги, её разумные отказы и дозволения... Её умение, её знание, когда следует охотно пойти навстречу желаниям мужа, а когда...
– Оставьте, оставьте! Я не хочу слышать! Это гадко!.. Должна оставаться в этой ужасной жизни хотя бы одна сфера, где ещё возможно не притворяться, не рассчитывать! Или все эти мелочные расчёты, интриги непременно должны распространяться и на супружескую постель?.. – Она сердилась, а сама уже знала, понимала печально: да, должны, должны... И остывала, спрашивала примирительно: – Хорошо, я не спорю с Вами, но объясните мне, каким образом герцог при самой большой любви ко мне добудет деньги? Он беден как церковная крыса!..
– Влюблённый молодой супруг способен на Многое...
– На что же именно? Ворваться с обнажённой шпагой в Сенат и потребовать немедленной выплаты?
– Я не знаю. И было бы ложью с моей стороны притвориться сейчас, будто я знаю. Повторю только: любовь способна на чудеса...
– Оставьте меня одну. Свадьба через неделю. Я не сплю ночи напролёт. Под венцом на меня страшно будет смотреть!..
Мадам д’Онуа покорно уходила. Анна спохватывалась и решала, что не следует, не должно отталкивать верных людей своими капризами и нерасположением.
«Наутро подарю ей браслет, тот серебряный с большой жемчужиной...»
И действительно дарила. А ночами ломала голову...
«Любовь способна делать чудеса? Только не любовь Фридриха! Да, худенький, сероглазый, пожалуй, способен будет спасти, выручить её в какой-то самый последний из последних моментов, когда всё полетит в тартарары... Но возвести на престол – нет, на это его любовь не способна, как бы она там ни возросла после свадьбы...»
Она заметила, что чем ближе день бракосочетания и соответственно первая брачная ночь, тем менее она об этом думает. Скорее бы! Пройти через это, понять, осознать, и тогда, по осознании, продолжить движение к намеченной дели... Продолжить!..
* * *
Мать снова лежала больная и опасалась, что даже не будет в состоянии присутствовать при венчании. Мать призвала Анну. Анна явилась к ней, досадуя: следовало самой просить об аудиенции, показать, что она озабочена здоровьем матери...
Екатерина Алексеевна лежала на большой постели, выглядела скверно. Но после всего, что пережила Анна с нездоровьем и смертью отца, она уже не могла так глубоко переживать болезнь матери.
Мать охала, кряхтела и говорила несвязно. Что-то сказала о советах, которые должна бы подать дочери перед замужеством. «Неужели и это ещё придётся перенести? – подумалось Анне. – Нет, только не материнские советы! Довольно уклончивых суждений мадам д’Онуа о возрастающей после брака любви...»
– Я благодарна Вам, матушка, Ваше величество, но я никак не желала бы затруднять Вас в болезни Вашей... – Анна подумала, что это будет дурно истолковано, если матери не будет при венчании... – Я очень желала бы Вашего драгоценного присутствия в церкви...
– Да уж буду, буду, ползком приползу... Ведь старшую дочь замуж-то выдаю!.. Орден особливый прикажу... Ты на меня-то надейся, родная, надейся, желанная...
«Да ведь это моя мать... Это моя мать!.. Кого просить, как не её!..» – Не успела додумать, а уже вырвалось:
– Матушка! Я знаю, вы от всего сердца желаете мне добра. Посодействуйте! Прикажите! Пусть в Сенате распорядятся выплатить мне положенные деньги!..
– Да они разве не выплатили? – спросила мать опасливо.
Неужели не знает?
– Выплатили малую часть...
– Да на что тебе?.. – заохала мать, закряхтела. – Герцогишко твой – мот-мотыга! Не повенчался ещё, а уж деньги тянет и мотает!.. Ты ему воли-то не давай большой...
Так! Мать, разумеется, знает о выплате малой части денег, и все сплетни и толки матери ведомы. И сейчас мать снова прячется за эту удобную маску, харю маскарадную больной старухи, кряхтящей, охающей и несвязно бормочущей. И содействовать скорейшей выплате денег мать не будет, это ясно. И Меншикова мать боится, и с чего бы ей перестать бояться его... И, вероятно, весь этот разговор с дочерью она ему передаст. Быть может, она нарочно позвала Анну: светлейший князь приказал императрице, он желает знать, как настроена принцесса... Ну, так вот же тебе, подлец!..
– Деньги должны быть выплачены. Это записано в брачном договоре, скреплённом собственноручною подписью императора всероссийского. Сенат медлит, не желает, манкирует выплатить положенную сумму? Что же, об этом будет известно в иностранных государствах. Пусть иностранные государи ведают о презрении российских сенаторов к дочери великого государя, первого императора России, и её супругу!..
И ещё не успев договорить, Анна встретила округлившиеся глаза матери своим взглядом, растерянным, должно быть, и сердитым. И поняла, что всякое проявление её, Анниной энергии, Анниного желания действовать пугают мать предельно. Мать не намеревается вдумываться, пытаться понять, да и не умеет; она просто пугается и делается от испуга жёсткой, злой и недоверчивой простолюдинкой. Анна не должна была говорить... Но как теперь поправить дело?.. «Когда же я выучусь владеть собой?» Вспомнились писания госпожи Ламбер. Конечно, в них жизнь не представала настолько гнусной и низменной, но владеть собой госпожа Ламбер учила...
– Простите, матушка! Я взволнована предстоящим бракосочетанием. Разумеется, я ничего не стану предпринимать относительно выплаты денег. Вы можете положиться на моё слово...
Но мать простилась с ней холодно...
«Она права, – думалось Анне. – Это невозможно – полагаться на слово, на обещания человека, срывающегося под воздействием мгновенного возбуждения нервов. Это невозможно!.. Понять себя и владеть собою – вот единственное спасение!..»
* * *
Анне доставили подарки жениха к свадьбе – золотые часы, турецкую шаль, яхонтовый перстень, осыпанный бриллиантами. Из приданого, назначенного в договоре, цесаревна получила вещами: бриллиантовый гарнитур, серебряный нахтиш – туалетный столик с зеркалом, столовое и чайное серебро, ещё золотые украшения, украшенные драгоценными камнями.
Наступило наконец 21 мая 1725 года. Венчание происходило около полудня в Троицкой церкви на Петербургской стороне. Как полагалось по обычаю, невеста подъехала первой. Анна была совершенно спокойна. Она признавалась себе самой, что, видимо, просто-напросто устала волноваться, тревожиться, и... потому и успокоилась совершенно. Она была в белом глазетовом платье. На волосах напудренных – венок из красных роз, выращенных в оранжерее Летнего сада. Невеста была настолько красива, что невозможно было не залюбоваться ею искренне. Нарядный, серьёзный жених с торжественною робостью исполнял всё, что требовалось исполнять при венчании, – брал невесту за руку, наклонял голову, шёл и останавливался. По окончании обряда епископ Феофан Прокопович произнёс пастырское благословение.
Присутствие императрицы увеличило парадность и торжественность обряда. Впрочем, дамы находили меж собою, что выглядит Екатерина Алексеевна весьма дурно. Более пожилые ещё помнили её совсем юною, пышною красавицей, и сейчас покачивали пудреными причёсками и перешёптывались.
Именно в ознаменование торжества бракосочетания старшей своей дочери с герцогом Голштинским Екатерина I учредила орден Александра Невского.
* * *
...Государь скончался не так уж давно, однако многие его начинания уже успели забыться. Прежде всего, конечно, подобная участь постигла все попытки хоть как-то смягчить, сгладить суровое деление общества на сословия. Об ассамблеях теперь не было и помину; идеалом времяпрепровождения для российских аристократов сделались всевозможные светские собрания, балы и вечера парижских гостиных и салонов...
К свадебному обеду Анна переоделась. И второй раз переоделась к вечернему балу. Вечером она явилась изумительной – сверкая белым атласом и крупными алмазами убора. Молодой супруг оделся в розовый шёлковый костюм и был в пышном парике с голубою лентой. Парадные апартаменты сияли тысячами свечей. Императрица величественно восседала на блестящем троне. В огромном зале танцевало более пятисот гостей.
Танцы сменялись беспрестанно: за менуэтом последовал англез, за ними – контрданс и аллеманд. Непринуждённости петровских ассамблей уже не было, она сменилась горделивым осознанием пышности и богатства...
Кажется, впервые за последнее (столь длительное для неё) время Анна чувствовала себя весёлою. Живо наслаждаясь изящною точностью своих движений, она прошла с герцогом менуэт. Ей припомнилось, как ненавидела она этот прелестный танец... как давно! Каким ребёнком она была! Тогда менуэт означал для неё возможность разлуки с любимым. Теперь ей захотелось отыскать взглядом Лизету, улыбнуться ей. Анна огляделась, но так и не смогла найти сестру среди множества танцующих.
* * *
Герцогу вся свадьба представлялась одним праздничным, живым, пышно и красиво колеблющимся цветником, Обряд православного венчания тронул и умилил его. Накануне свадебного торжества герцог вновь обратился к любезному графу Апраксину и взял у последнего в долг ещё довольно большую сумму. Странное, какое-то торжественное легкомыслие овладело душою сероглазого мальчика. Он доставлял себе самую искреннюю радость, раздавая подарки направо и налево – своим приближённым, русским слугам – всем, всем... Было чувство полнейшего, сладостного счастья. Душа пела одною песенною фразой, стихотворною строкой, где-то, когда-то читанной, слышанной: «Она моя! Она моя!» – «Sie ist meine!»
* * *
Присутствие молодых на позднем ужине после бала не предполагалось. Они должны были отправиться из дворца в свой дом, в спальню.
Ещё совсем недавно именно первая брачная ночь, первое пребывание молодых супругов вдвоём, в одной постели, и являлось наиважнейшим моментом свадебных торжеств. Бывало, все напряжённо ждали у дверей опочивальни, и установление девственности невесты встречалось безоглядным необузданным весельем. Однако старые времена миновались, нравы сменились и смягчились. И теперь предполагалось, что первая брачная ночь может интересовать лишь самих молодых супругов.
Но Анна не испытала страха, даже оставшись с мужем наедине в тёмной карете. Напротив, было чувство облегчения. Она ведь немного побаивалась возможных ещё наставлений матери и мадам д’Онуа. Но теперь эта опасность миновала, ничто досадное и докучное более не грозит ей.
Он не пытался обнять её, поцеловать. Он даже сидел в некотором отдалении. Она прислушалась чутко, пыталась уловить его дыхание. Но он и дышал так тихо, неслышно. Его спокойствие совершенно передалось ей.
Они спокойно – рука об руку – вошли в спальню, в «свою» общую спальню. Свечей было всего две, подсвечники серебряные. Спальня казалась очень большою и тёмною, и чуть душною. Постель тоже была огромная, надобно было всходить по ступенькам.
Поверх нижней перины положен был пуховик из гагачьего пуха, подушки все были в жёлтых атласных наволоках – китайский атлас. Наволоки и постельный занавес обшиты были дорогими французскими кружевами – point d’Alancon – прекрасными, алансонскими. Такими же кружевами была украшена и батистовая сорочка новобрачной...
Молодой супруг погасил свечи, наложив на язычки пламени серебряный колпачок. Теперь, без свечей, стало светлее. Молодые виделись в своём белом дезабилье смутными светлыми и тонкими фигурками...
Ей совершенно не было страшно. Он молчал, но в молчании его ощущались бережность и напряжение страсти. Уже самые первые его прикосновения убедили её в том, что он хорошо знает, как и что надобно сделать. Он действительно знал. И пусть опыт его общения с женщинами покамест ограничивался женщинами продажными, однако воспринял он не грубость, но многие умения. В эту, первую их ночь Анна прежде всего насладилась приятным этим ощущением его внимательности к ней. Она совершенно расслабилась и отдавалась приятным ласкам его. И даже в какой-то момент ощутила никогда не ведомое ей прежде возбуждение, сама простёрла руки и обняла его крепко и страстно...
И с той поры она – с каждою ночью, проведённою с ним, – открывала для себя всё новые и новые наслаждения брачной жизни. И вскоре уже дивилась – как могла она совсем ещё недавно не знать ничего этого, какою бедною она была... А после пришла и мысль о том, сколь трудно, будучи столь счастливою своим супружеством, заниматься ещё чем бы то ни было...
Герцог позвонил в колокольчик серебряный. Служанка подала широкий поднос китайского чёрного лака – ранний завтрак – холодная говядина, ломти белого пшеничного хлеба, ещё тёплого, сладкий творожный пирог, вино в серебряных больших бокалах...
Было необыкновенно приятно подкрепляться рядом с ним. Прежде довольно разговорчивый (пожалуй, ей казалось так), теперь он сделался молчалив; и были так приятны знаки внимания, оказываемые им, – как он дружески протягивал ей на вилке серебряной лакомые кусочки, и нежно смотрел, как она пригубливает из своего бокала, и она с улыбкой протягивала бокал свой ему, и он отпивал там, где прикасались её губы...
Первые месяцы прошли в каком-то розово-голубом тумане радостных увеселений, поздравлений, подарков, празднеств... Она не запомнила никаких слов, ничего не запомнила... Один лишь этот радостный, радужный, мягкий, обволакивающий розово-голубой туман...
* * *
Очнулась она внезапно. Вдруг стала сознавать окружающее. Они плыли по Ладожскому каналу. То была поездка словно бы с целью почтить память великого Петра. Ладожский канал был ведь любимым детищем сего неутомимого государя-строителя.
На ночлег остановились в деревне Лаве, в просторной избе старосты. Семья оказалась многодетная, но Анна повелела не удалять детей. Весь вечер она провела с ними и с женою хозяина. Отведала простую пищу – кашу и тюрю, спрашивала хозяйку о крестьянской жизни. Девочек же, малых хозяйских дочек, молодая герцогиня попросила спеть ей. Сначала они робели, но затем рассмелились, стали друг против дружки двумя рядками и запели тонкими голосками – вышагивая – рядок к рядку: «Ой, мы просо сеяли, сеяли...»
Анна Петровна сидела на лавке, скрестив руки в светлых шёлковых рукавах на груди, и слушала. Русские её корни прояснялись перед нею – вглубь, вглубь; вживе ощущала она своих бабку и прабабку, как езжали в колымагах с малолетними царевнами и царевичами на богомолье, останавливался царский поезд, высаживался особливый дьяк, покупал на торгу для царского семейства калачи, горячие блины, горох в стручках...
Герцог слушал пение маленьких детей с непонятною ему самому тревогой. Тотчас вспомнил мужское пение в темноте и свои чувства тогдашние. И теперь он чувствовал, что завершилась прежняя его жизнь и никогда уже более не бывать ему попросту Карлом-Фридрихом Шлезвиг-Гольштайн-Готторпским; он уже нечто иное совсем, странно и навеки связанное с этим деревенским русским домом, с этим потрескиванием лучины, с этими тонкими поющими детскими голосами...
Наутро дети снова пели молодой герцогине. Она одарила эту семью деньгами и подарками...
* * *
Но даже и самый приятный сон завершиться должен полным пробуждением. И ежели не пробудиться самому, тогда и пробудить могут, опрокинув, например, на сладко дремлющего ушат холодной воды...
Новый 1726 год и начался для Анны Петровны таким вот неладным пробуждением. Впрочем, разве Франц Матвеевич не предполагал нечто подобное? При императрице учреждён был из её ближайших сторонников Верховный тайный совет. Цель создания такового учреждения была совершенно ясна – Меншиков желал ослабить влияние Сената. Для Анны же это новейшее державное учреждение означало новые проволочки. Теперь и вовсе неясно было, кто должен принять решение о выплате ей оговорённых в брачном контракте денег. Сенаторы могли спокойно передавать прошения молодой герцогини «верховникам», «верховники» – вновь сенаторам... А светлейший князь Ментиков, который мог бы мгновенно всё решить, и вовсе устранялся, будто и не имел касательства к данному делу.
Зима выдалась холодная. Анна пробудилась окончательно и начала отчаиваться. А были причины... Конечно же, деньги не будут выплачены вовсе, этого можно ожидать. Контракт? Подпись самого государя? Но время великого Петра столь мгновенно отдалилось, преобразилось в предание, в легенду... Царили сила и произвол. Желания и пожелания умершего уже не значили ничего. Всем и вся заправляла воля сильных живых...
Анне приходило на ум исполнить угрозу свою. Говорила же матери перед свадьбой... Но теперь отрезвляла себя холодно. С чего она взяла, будто в Европе, там, на Западе, – некое царство справедливости и права! Им-то что до непременного исполнения желаний покойного Петра? Они будут подстраиваться, подлаживаться к победителю...
Но для неё ещё не было возможно простое смирение, примирение с обстоятельствами. Невозможно было просто смириться и ничего не предпринимать. Вновь и вновь ломала голову... Наконец решилась...
Но, пожалуй, оставаясь в девицах, она бы никогда на это не решилась. Однако недолгая ещё женская жизнь, это некое распознавание, узнавание возможностей своего телесного состава сделали её, неприметно для неё самой, существом уверенным в определённой своей силе, вселили даже смутные некие надежды...
Приказала закладывать парижскую карету закрытую. Выбрала день, когда герцог с вечера ещё выехал на охоту по приглашению светлейшего Меншикова. Охота не обещала быть серьёзной, скорее детское, юношеское развлечение; участвовали государевы внуки, дочери самого Меншикова, дети Долгоруковых, Лизета и жених её Бишоф. Утром ей пришлось выдержать несвязные тревожные вопросы мужа о её здоровье, когда она сказала ему, что чувствует лёгкую головную боль и потому не поедет на охоту...
Его растерянность, его тревожная улыбка, тотчас показавшаяся ей улыбкой глуповатой... Эта тягостная и тотчас прискучившая ей необходимость успокаивать его, и тоже бессвязными фразами... Конечно же, она поняла, о чём он подумал, – о её возможной, вероятной беременности. Она и сама порою задумывалась об этом, даже пыталась готовить себя к подобному, совсем новому для неё состоянию. Но сейчас её почему-то возмутила одна лишь возможность подобных мыслей его – о ней. Почему-то оскорбительно ей показалось это. Но надобно было улыбаться и отсылать его на охоту, и говорить несвязно, что ей хочется побыть одной, одной, одной... И когда он (наконец-то!) уехал, и приказала заложить карету и мадам д’Онуа поспешно одевала её... И вдруг возможная беременность показалась чем-то ужасным, отвратительным, унизительным!..
И – уже в карете – докучные мысли – а любит ли она его по-прежнему? Ах да, разумеется, любит! Но никакая взаимная супружеская любовь, никакие ласки, никакое дружество не заменят ей... чего не заменят?.. Ах, чего-то более важного, более значимого... Чего же? Власти? Славы, быть может?.. Ах, нет, нет... Не заменят чего-то такого, в чём живут ум и сердце иначе, нежели в любви, иначе...
* * *
Но эта поездка – это был жест полнейшего отчаянья, это было глупо!..
Она поехала прямо к нему, вооружённая одною лишь этой своей новой определённостью. Она знала, что утрами он дома, работает. Лучше бы она прежде посоветовалась с мадам д’Онуа и Францем Матвеевичем!..
Приехала. Приказала доложить о себе. Тотчас явилась Марфа Ивановна и держалась с молодой герцогиней даже и подобострастно, показывая, однако, всем своим видом, что подобострастие это – одно лишь притворство во имя неких высших государственных интересов, интересов её супруга Андрея Ивановича. Марфа Ивановна села с гостьей в гостиной комнате и немедля послала слугу в кабинет – известить самого Андрея Ивановича. Заговорила о каких-то предстоящих балах и приёмах. Анне пришлось сделать вид, будто не изнывает от нетерпения, пришлось отвечать и даже самой что-то говорить о туалетах и каретах...
Слуга явился и в поклоне застыл в дверях. Марфа Ивановна подошла к нему, будто встревоженная. Обменялись несколькими словами, затем слуга ушёл, а хозяйка воротилась к гостье.
– Андрей Иванович покорнейше просит прощения. Нынешним утром не может принять Вас, дражайшая. Увы, дела!..
Анна почувствовала, как лицо загорелось. И прежде случалось ей залиться румянцем – стыдливости ли, гнева... Но это не был румянец. Какой румянец! Это было истинное пламя! Щекам сделалось больно, словно от настоящего огня... И – едва слыша свои слова – произнесла:
– Я подожду!..
Пламя отступило. Теперь всё равно. Теперь она не уйдёт отсюда, не поговорив с ним. Даже глупость, начатую раз, следует довести до конца!.. Осмелятся ли выгнать её, выставить на улицу дочь государя, цесаревну всероссийскую?..
Марфа Ивановна посмотрела с некоторым испугом.
– Не желаете ли кофию откушать? Андрей Иванович рано изволит, а я, грешная...
– Да, желаю. Прикажите подать... – Собственный голос услышался Анне отрывистым, почти лающим, почти визгливым...