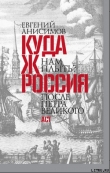Текст книги "Гром победы"
Автор книги: Фаина Гримберг
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц)
И деньги он взял ещё – ведь уговорено было – от неведомого заказчика его любовной страсти-сласти. Но он-то знал, что от Остермана, от Андрей Иваныча. И почему бы и не взять деньги! И мать его, через которую деньги и были переданы, тоже так полагала. Почему бы и не взять! Всё равно ведь он ничего дурного никогда цесаревне сотворить не может, одно лишь хорошее, верное.
И надумалось ночью... И тоже – безоглядность и расчёт смешались. Заговорил после того, жаркого, пышного, ночного... Когда приустали... Заговорил и рассказал всё, как было передано через мать предложение, и как согласился... и даже – искренность несла, поднимала – не потаил, что когда соглашался, тогда ведь ещё не любил её...
– А теперь? – вопросила серьёзно.
– Теперь – сама знаешь! – И занежил в объятии...
– Но кто же это, Алёшенька, посмел матушке твоей предложить этакую пакость?
– Кто? Али я не сказал?
– Не сказывал ещё. А может, потаить желаешь?
– Я – от тебя?! Запамятовал. Прости. А кто посмел предложить, сама легко догадаешься – твой враг, Андрей Иванович Остерман. Кому ещё!..
Разнеживал в объятии. Она задумалась. Приметила, что разнеживающее это мужеское объятие вовсе и не разнеживало её до потери разума, а, напротив, пробуждало её мысль; будто оно-то и было ей нужно, это тело живое, молодое, крепкое, юношеское, оно-то и было ей надобно, и соединившись, совокупившись с этаким телом, сделалась она полноценным существом, обрела всё, что следовало для полноценности обрести; и тогда и мысль её совсем пробудилась, изострилась, зоркой сделалась... И теперь она думала, прикидывала.
– Откуда же известно, что Остерман – враг мне?
Это даже и занимало её сейчас. Это было почти комично. Она о себе знала, что она не любит, даже и ненавидит Андрея Ивановича. Да, она давненько не скрывала своей ненависти даже и от него самого... А впрочем, «давненько», «давным-давно» – очень относительное определение и для её жизни, и для всей истории русской. Ей-то девятнадцати нет, и всё, что зовут на Руси «давним», почитай, вчера было!.. Но ненависти своей к нему она не скрывала. Оно так и есть. А он, Андрей Иванович? Неужели и он возненавидел её? Новой своей изострённой в этом совокуплении с молодым крепким мужским телом мыслью она сознавала, что нет, не похоже это на него. Она его поняла. Её ненависть к нему уже была – род любви. Она созрела теперь (это у каждого свой путь к зрелости), и вот она созрела, она была теперь женщина, политик; она чувствовала, что именно она – будущая правительница державы. Но не улетала мечтаниями в небеса, не намеревалась обольщаться или, напротив, упадать духом. Она уже знала, что идёт по дороге непростой, по дороге крутой. И знала, что у неё достанет дыхания взойти. И по этой дороге она пойдёт, ни в чём себе не отказывая; и не просто потому, что она – сластёна-сладострастница, но потому, что это – мужские живые молодые тела – её пища, пища для её плоти и разума, она без этого не будет жить, это – её мир и она всё возьмёт себе из этого мира...
Но Андрей Иванович-то, Андрей Иванович, которого было так интересно ненавидеть... И чтобы он... этакое предложение... Невозможно!.. Она подумала, что Андрей Иванович, конечно, и осторожен, и умён, но в чём-то он куда простодушнее её, совсем ещё юной женщины. Взять хотя бы его поведение с молодым императором. Лично взялся надзирать за образованием, учением Петра Алексеевича, с Мавриным и этим чёрным Ганнибалом беседы вёл, план учения расписал, на заседания Верховного совета звал мальчишку – смех! Спроси кто Лизету, она бы тотчас высказалась: не станет Пётр II тратить время на учение, и Ванюшка, и даже сестрица Наташка, да все будут ему в этом весёлом безделиц потакать. И всё так и вышло! Где ныне Маврин и арап? Засланы куда-то к чёрту на кулички, в Сибирь, что ли, на инженерные работы, не поймёшь!.. Лишь бы от дворца подальше со своим надоедливым ученьем. Тут и Андрей Иванович смекнул, рукой махнул, заосторожничал и оставил свои прожекты, как сотворить правителя из мальчишки, дорвавшегося до вольного веселья...
Боль и нежность будто шевельнулись в груди Лизетиной, она ведь способна была на чувства сильные и глубокие, и странно: эти её чувства не имели никакого отношения к обычной плотской любви с мужчинами. Нежно и с болью она могла вспомнить Анну, сестру. И с нежностью и болью порою думала о маленьком Аннушкином сыне, о неведомом Петрушеньке. Она уж дважды распорядилась отослать в Киль игрушки русские – пестро расписанную бочечку на колёсиках, лошадок деревянных, свистулечки... Нет, она не могла сейчас догадаться о том, как поминал с некоторой грустью Андрей Иванович Анну и свои уроки – ей, вот тогда-то он ведь и ощутил, какое это наслаждение: учить будущего государя, государыню. И что же? Нет, – сам себе сказал, – надобно понимать, что невозможно повторить другой раз единожды пережитое... Об этой его памяти и грусти Лизета не догадалась. Но что-то, что-то она всё же почувствовала. И боль, и нежность будто шевельнулись в груди...
Нет, нет, Андрей Иванович, он простодушный, и он порядочный, он очень нравственный (вот это усиливало ненависть Лизетину). И он добрый. Правда! Стрешневы, родня его по жене, по Марфе Ивановне, так те просто на руках его носят, преданы ему безоговорочно. О самой Марфе что и говорить! Ноги ему обмывает и воду пьёт!.. Подобное рабское преклонение иных замужних женщин перед мужьями смешило Лизету. Она этого не понимала и не принимала. Ей – мужчина для преклонения перед ним – её – не нужен был...
Но чтобы Андрей Иванович подсунул ей любовника низкого происхождения для того, чтобы выставить её на посмешище, поставить вне общества?! Да ему, в его честную, нравственную голову подобная тонкость чтобы явилась? Ну, подыскать для неё ещё какого-нибудь немецкого принца в женихи, на это Остермана станет. Но тонкости, ядовитости… Нет, здесь женская рука... Но кто?.. Однако сначала она разберётся с Остерманом... Всем известно, слава Богу, что она – его враг искренний... Откуда же такое: Остерман – ей – враг? Да он и ненавидеть-то не умеет!..
– Откуда же известно, что Остерман – враг мне?
– Голицыны...
Голицыны? Да, они против Андрея Ивановича... Алёша меж тем продолжает:
– Ты скажи только, я ведь его и придушить могу! Вот этими вот руками!..
А руки хороши!..
– Дурачок мой! В Сибири захотел проветриться? Или уж прямиком на плаху?
– Это забота не твоя. Твоя забота – приказать, а я исполню...
– Приказать? Я тебе ничего дурного приказывать не стану. Ты матушку свою пошли мне...
– Да она-то и мне ведь не сказалась кто. Я уж сам догадался, кому другому, как не Андрей Иванычу...
– И всё ж ты мне её пошли, беспременно. Это покамест и есть мой тебе приказ...
* * *
Можно было бы и самой попытаться разгадать эту тайность. Разметать пред внутренним взором своим – колодой пёстрых карт – лики всех, всех – княгинь, княжон и прочих. И додумываться – которая... Но Лизете вовсе не желалось проводить время в этой изощрённой умственной забаве. Она подумала по-простому: существует та, которой всё известно, госпожа Климентова. И надобно, чтобы госпожа Климентова разобрала: ей более по пути с Лизетой и сыном своим, нежели с теми, неведомыми пока Лизете заказчицами... И госпожа Климентова поймёт, Лизета знала. И давно (давно?) Лизета приметила, что её, Лизетин, путь – непростой и крутой, оно так, но без этих разных умственных таинственностей, без... И вдруг – невольно – мысль уходила в эту неведомую даль, и тогда понималось смутно, что она и сама по себе – путь, образец – для кого-то, для другой какой-то женщины, будущей правительницы, ещё неведомой, не рождённой ещё...
Госпожа Климентова, конечно, всё рассказала, и даже и без жеманства. Поняла всё как надобно и потому и рассказала. И теперь Лизета знала – кто. Знала и поняла потому, и поняла, что именно госпожу Климентову надлежит связать исполнением тонкого и серьёзного поручения. Именно связанная госпожа Климентова и будет молчать – всегда.
И всё было возложено на госпожу Климентову, она должна была добыть то, что следовало добыть; и это добытое она же должна была подмешать незаметно...
– Значит, кофейницы – обе?
– Да, Ваше высочество, – угодливо, с покорством.
– А ты действуй, исходя из познаний своих. Вот знаешь нечто, ну и действуй...
И Лизета подумала о том самом, что следовало добыть. На миг промелькнуло в памяти – Полинка, болезнь, страх... Но промелькнуло – и тотчас исчезло. Цесаревна была не из тех, кого подолгу, изощрённо мучит прошлое...
Сначала госпожа Климентова немного удивилась про себя: почему цесаревна не приказала ту, виновницу, заказчицу... Почему – совсем другую, и кажется, и не имевшую касательства... Но нет, нет, цесаревна права, права!.. Далее мысли госпожи Климентовой не пошли. Она знала (жизнь выучила её), до какого предела следует разгонять свои мыслительные способности, где следует их сдерживать, останавливать, для своей же выгоды... И потому она не стала голову ломать над тем, что же это такое: месть это, и если месть, то кому и зачем, с какой целью?.. (Вопрос мог быть именно: зачем, какова цель; а вовсе не вопрос: за что? Как будто ясно было, за что. Хотя... не слишком ли суровое наказание предназначалось?..) Но госпожа Климентова ни о чём подобном раздумывать не стала...
Что же касается Лизеты... Месть?.. Да, узнав, кто, она разозлилась, раздосадовалась. Но ненавидеть – этих? Растрачивать на них силы своей ненависти? Вот уж нет! С неё довольно Андрея Ивановича!.. Она быстро опомнилась и распорядилась, просто распорядилась, как распоряжается хорошая хозяйка о разборке кладовых и уборке комнат. Всё бесполезное для неё, всё никчёмное, всё, что может повредить ей, – долой, прочь... Одна могла быть досадна и опасна, её – потому – прочь, а другую, ту, заказчицу... Пусть повертится, поворочается, попрыгает, как ёрш на сковороде!..
И в самом скором времени двор был потрясён печальным известием: скоропостижно, в селе Всесвятском, куда заехала в семейство своей товарки, грузинской царевны, и вот скоропостижно скончалась во Всесвятском цесаревна Наталья Алексеевна. От простудной горячки. Молодой государь был в отчаянии непритворном, он так любил единственную сестру! Долгоруковы утешничали неотступно, уж и развлекали его и отвлекали. А от Голицыных и княгини Юсуповой раскатывались толки и слухи: одни уверяли потаённо, будто никакой горячки простудной и не было вовсе, а цесаревна, принуждённая скрываться во Всесвятском, погибла от плодогонного зелья... Но кто же?.. О, герцог де Лириа, вот обольститель!.. Другие утверждали столь же потаённо, что вовсе всё было иначе: всему виною соперничество!.. Грузинское семейство позарилось на браке наследным принцем испанским, цесаревну просто-напросто убрали, отравили... В любом случае роль герцога де Лириа... По личному желанию и распоряжению молодого государя герцогу пришлось покинуть Российское государство спешно…
* * *
...Дашенькина яркая восточная красота создавала о ней ложное впечатление, Она могла показаться уверенной в себе, даже самоуверенной, и сильной. Но на самом деле она была всего лишь избалованной, самолюбивой, немного капризной девочкой. Свои знания о жизни действительной почерпывала она из книг французских и немецких, а также из сплетен, случайно и не случайно услышанных. Трудно было описать её ужас и растерянность, когда Наташе внезапно сделалось дурно. С приездом и отъездом госпожи Климентовой, с кофием, который они пили втроём, Дашенька никак не соотнесла Наташину внезапную болезнь. Да, они пили кофе втроём; Дашенькина матушка, особа несколько спесивая, гордая знатностью своей, ни за что бы не стала выходить к какой-то баронессе из выскочек. И не вышла. Но это было даже и хорошо. Дашеньке вовсе и не хотелось, чтобы матушка выходила. Матушка дурно говорила по-русски и по-французски, однако её бездонные чёрные глаза способны были внезапно – озарением – увидеть многое с такою прозорливостью...
Но кроме кофия втроём, была и короткая беседа вдвоём, с глазу на глаз, когда Климентова получила ещё деньги и сообщила Дашеньке, что, кажется, дело продвинулось успешно и Елизавет Петровна намеревается покинуть Москву.
– Государь совершенно охладел к ней.
– Мне известно...
Дашенька хотела было расспросить подробнее об отношениях цесаревны Лизеты с Шубиным, но всё же сочла подобные расспросы дурным тоном для девицы. А тянуло расспросить. И она эту тягу приняла за пустое, дурное и праздное любопытство, которое надлежит подавлять. А на самом деле тяга эта была тем самым уже известным нам «чутьём». Было, было чутьё и у Дашеньки. Но она не почувствовала, не поняла...
Семейство имело собственного лекаря, но он как раз находился в Москве. Тотчас послали за ним. Однако, примчавшись поспешно, застал он лишь похолодевший труп юной девушки, Он расспросил о признаках внезапной болезни... Резкая сыпь, тошнота, рвота, беспамятство. Это походило на корь, на некоторые разновидности простудной горячки...
– Ничего другого нельзя предположить. Видно хорошее телосложение покойной цесаревны, при таком телосложении бывает весьма здравым и телесный состав. Страдала ли она периодическими болями, недомоганиями?
Нет, нет, подобного за нею не зналось...
Дашенька боялась глядеть в глаза своей матушки, которая несомненно нечто чувствовала. Нечто чувствовала и сама Дашенька. И отец их. Но только брат Георгий сумел выразить это уже общее чувствование в речи ясной и краткой. Он сказал, что ежели эта смерть – смерть неестественная, то более удачной возможности повергнуть их семейство во прах не сыскалось бы никогда. Теперь, когда цесаревна внезапно скончалась у них, в отсутствие лекаря, и скрыть это отсутствие уже нельзя, они ведь открыто за лекарем посылали; и теперь нечего рассчитывать на выгодную женитьбу и продвижение по службе его, Георгия, и с перспективами Дашенькиных успехов в свете и блестящего замужества придётся распрощаться. И кто знает, на какой срок... Он говорил спокойно и даже и сухо. Родители замерли, оцепенели.
Замерла и Дашенька. Она поняла теперь, что в тот самый капкан попалась, который расставила для другой... Но Дашеньке было всё же легче, нежели её матушке, отцу и брату. Ей уже и не так страшна была грозящая опала, лишь бы матушка не поняла, не догадалась!.. Позднее, уже после торжественного погребения, на котором они даже не смогли присутствовать, этого не желал государь, и вот позднее они делали предположения, но нет, не узнали. Клубок не был слишком запутанным, однако не распутали. Впрочем, все силы ушли на то, чтобы избежать* дальней ссылки, на то, чтобы опала ограничилась сидением в подмосковном Всесвятском...
Опала этого семейства продлилась почему-то почти до середины тридцатых годов, до начала второй половины царствования Анны Иоанновны. Любопытно, что по воцарении своём Елизавета не чинила им, кажется, никаких видимых препон. Однако разбирая факты, можно прийти к выводу о вполне удавшейся мести Елизаветы данному семейству. Георгий Грузинский с женою и сыновьями годами жил почти безвыездно в своём волжском имении Лысково, при дворе он не являлся. Царевна Дарья, не в молодых уже годах, вышла замуж за Андрея Николаевича Янькова, совсем не годившегося ей по знатности и даже и небогатого. Это был добродушный невежественный человек, страдавший от непомерной своей толщины. Супруги вели отшельническую жизнь в самом отдалённом из своих имений. Детей у них не было. И лишь при Екатерине II потомки грузинского царя, отдавшегося в русское подданство, являются вновь во всём блеске при дворе...
* * *
...Елизавет Петровна устроила в своих покоях нечто вроде прощального приёма. Да, о ней и о её низкородном любовнике раздувались самые неимоверные сплетни. Да, государь охладел к ней, фактически он наложил на неё опалу. Но она всё устроила так, будто никакой опалы и нет, будто это она сама, по своей воле удаляется от двора. И было крайне любопытно побывать на подобном прощальном приёме. К тому же известно было, что цесаревна принимает обворожительно!..
Она сидела рядом с изящной фарфоровой статуэткой в голубом, оправленном серебристыми блондовыми кружевами туалете. Но куколка живая была, кивала высокой пудреной причёской, и на лице имела то выражение изящной искренности, участливости и одновременно – некоторой рассеянности, которое бывает столь свойственно женщине светской. Цесаревна виделась не менее изящной, но округлость щёк и приподнятых лифом бледного палевого платья грудей, крупность всего тела и сочная розовость губ придавали ей черты величия...
Собеседница её была леди Рондо[28]28
...леди Рондо – супруга английского посланника, автор интересных записок и писем.
[Закрыть], супруга английского посланника. На безупречном английском цесаревна вела беседу, исполненную такого такта и такой лёгкости и в то же время такой учтивой откровенности...
– Я сознательно бегу света, – говорила цесаревна, – я не способна к интригам, и свет не прощает мне эту неспособность. Искренних друзей, понимающих, разумных, – она посмотрела на леди Рондо значительно, – увы, их слишком мало... И вся эта пустая светская суета, вся мишура... Моя душа взыскует буколической простоты... мирная сельская жизнь, покой... скромные радости...
* * *
Но действительно, как мало могут понимать люди! Её житьё в Покровской и Александровской слободах толковали по-разному. И многие даже поверили в то, во что она хотела, чтобы верили. Пусть верят, будто она настолько распущенна, или настолько простодушна, или настолько легкомысленна, что даже не в состоянии скрыть свою пристрастность к простолюдину. Пусть верят, будто она из одного легкомыслия упустила возможность сделаться супругой молодого императора. Пусть, пусть верят!..
Никто не понял истины. И даже Андрей Иванович – нет, не понял. Ну, он-то не понял, потому что сейчас не приглядывается к ней. Сейчас ему важнее ладить с Долгоруковыми, Катеньку вот-вот объявят государевой невестой гласно...
А Лизете истина открылась через гвардейца юного, через его нехитрый разум в крепком его теле живом. Конечно, не скажешь, будто истина эта – совсем уж секретная, тайная. Все вроде бы знают, что солдаты – сила, потому что вооружены, и потому, если желаешь добиться успеха (ну сами знаете, в чём!), склоняй солдат на свою сторону... Да, но как? Нет, напрасно полагают, будто довольно швырнуть с брезгливой гримасой деньги, сыпануть золотом в ранцы – и всё сделается само собой! Не-ет! Тебя должны любить!
У отца это выходило ненарочно, оно так. Шагал вместе со своими солдатами, плыл со своими матросами; надобен был, ну и шагал по дороге пыльной, и подымался на палубу. Уважить хотел – запросто входил в избу, садился на лавку и угощался пирогом с морковью. Притворства не было а нем, он искал себе товарищей в делах своих. И разумел дела – и солдатское, и корабельное, и как законы писать. Она знала, что не разумеет и никогда не будет разуметь ничего подобного, но это не смущало её, не повергало в хаос противоречивых мыслей и сомнений. Было ясно: она – дочь императора, и значит, – наследница, и, значит, будет императрицей. Она чувствовала, что самое важное сейчас – держаться, удержаться на троне. А корабль державный, он как-нибудь поплывёт, не развалится; отец о себе не думал – корабль снастил; теперь настала пора государям и государыням более думать о себе, нежели о государстве; оно ведь так и положено... Только бы взойти на трон и удержаться, держаться!..
А солдаты, офицеры – молодые, здоровые, сильные, отборные... Зелёные пуговицы Преображенского, синие – Семёновского полка... Штыки вокруг дворца в день воцарения матери, императрицы Екатерины I... Но её кто бы стал любить – слишком больна, слаба, растолстела, обвисла в родах; слишком видели её зависимость от Меншикова... А Меншиков, светлейший? Что же второй раз не стали за него полки? А потому, что он был уже не «свой своим», а просто зарвавшийся, заспесивившийся выскочка. Таких не любят, таких уже готова толпа истоптать, до смерти изволочить. «Ежели ты такой же, как мы, почему тогда ты – наверху и помыкаешь нами? Нет уж, падай, падай в грязь! Вали его, топчи, ребята!» А всё потому, что надобно во всём соблюдать меру. «Да, я спустилась, сошла к вам, мне с вами хорошо, умилитесь же, но помните, насколько я выше вас». А чего – простые души – пирогами оделишь из своих рук – после всё тебе простят, хоть шубу из них шей, одно будут помнить, какая добрая да простая была – пирогами самолично угостила.
Да, да, вот так и надобно: я – как вы; для меня житьё ваше, оно, может, идеал недостижимый, уж я бы побросала кринолины да кареты золочёные – советники не дают, злые немцы!.. Да, так надобно, и только так себя разуметь...
Но всего важнее для неё были гвардейцы – зелёные мундиры – друзья Алёши. Вот спасибо девчонке Дашеньке – удружила Лизете! Его в полку любили за простой и понятный нрав, и ничего такого, что могли бы его товарищи счесть подлостью и предательством, он никогда не совершал. Но это совсем не было просто: явиться им «своей», доброй, простой, открытой любовницей их друга; напомнить им искусно об отце, так разумевшем их воинские дела и нужды; но при всём при этом надобно было для них сделаться почти богинею (Венерой?), высшим существом, желанной императрицей, которая осыплет милостями, потому что понимает... И здесь простым притворством нельзя было ничего добиться. Нет, надобно было с удовольствием, с самой искренней радостью, с самым естественным дыханием жить этой жизнью! Именно так, а не с брезгливой, притворной миной...
И она так и жила – с удовольствием, с наслаждением искренним. Утром, в дезабилье, садилась у нахтиша и надевала шутейно на свои пышные власы Алёшкину гвардейскую треуголку. Груди наружу вываливались из распашного ночного платья – солдатка! Но – императрица! И желалось гвардейцу вскинуть эту пышную царственную красавицу на руки, на свои здоровые солдатские руки, и – взнести на трон. Такая должна быть на троне.
И знала, как* – уважать их. Но и тут не притворялась, жила с удовольствием. Каждый гвардеец мог свободно взойти на крыльцо её деревянного на каменном фундаменте слободского дома с именинным пирогом в узелке. И матушка-цесаревна пирог принимала с любезностью, и чарку анисовки подносила из своих белых ручек, и деньгу на медном подносе. И за здоровье родильницы выпьет. И крёстная мать чуть не всем младенцам, гостьей почётной пирует на крестинах...
Сидела в спальне – гродетуровый шлафрок алой тафтой опушён – укладку разбирала. Вдвоём с верной Маврой разглядывали, перебирали... Он вошёл, не постучавшись, – кафтан мундирный зелёный. Руку за спину завёл... Вскрикнула шутливо, притворно, запахнулась... Догадливая Маврушка – тотчас за дверь...
Цесаревна нахмурилась.
– Пошто явился? Уйди!
Смутился, но – руку из-за спины – и протянул ей яблоко.
Нахмурилась пуще, непритворно, ударила его по руке. Яблоко крепкое тюкнулось на иол.
– Да за что же, Лизета? Порадовать хотел тебя...
– Забыл, что яблок не терплю? Так и несёт от тебя яблочным духом! Прочь!
– Да я не знал. Ты не говорила мне.
Посмотрела испытующе.
– Не врёшь?
– Крест святой!
– Прощаю, только вперёд помни!
Он наклонился, поднял яблоко и кинул в окошко. Она засмеялась – с такою покорностью склонялась эта сильная фигура за маленьким яблоком...
А яблок она не любила по самой простой причине: всё яблок хотелось, когда затяжелела. А после – невзлюбила яблоки. Почему – не задумывалась, а невзлюбила, и всё!..
Посмеялась и велела ему сесть к ней близко. Он сел и загляделся на разложенные наряды... Шлафрок голубой камчатный, шлафрок байбарековый с белой опушкой, шубка жёлтая тафтяная на беличьем меху – пуговки серебряные, шубка камчатная вишнёвая на заячьем меху, корсеты, фонтажи, чепцы, косыночки, платки, шитые серебром, платки шёлковые, платки, кружевом отделанные, рукавички жёлтые лайковые, шапочка соболья – верх пунцового бархата, соболя шейные:..
– Что? Много всего? Как тебе видится-кажется? – спросила жёстко.
Попытался угадать, какой ответ будет ей по нраву. Наряды были хороши, и он подумал, что будет хорошо, если он похвалит. Хотел успокоить её. Видел, что его эта неловкость с яблоком переменила её настроение. Но ведь она ему прежде о яблоках и вправду не говорила...
– Да, – отвечал, – много. И всё хорошее, к лицу и по тебе.
Но она не успокоилась, не повеселела.
– По мне, говоришь? Эта нищета записная по мне? Таково ли должно быть – моё? Меншиков сколько покрал из матушкиных сундуков! А сколько у Наташки-покойницы всего, что от матушки моей осталось! Катьке Долгоруковой пойдёт!..
– Не пойдёт им впрок чужое, – сказал тихо.
Если бы он стал возмущаться и поддерживать её громко и размахивая руками, это могло бы показаться ей притворным, но тихий его голос воздействовал.
– Не гляди на эти тряпки, – ласково повернула его лицо к себе.
– Сама знаешь, я за твоё право готов на всё! – с горячностью, но всё так же тихо.
– Молчи покамест, не время ещё. Ох, как оно важно, Алёша, время своё вовремя почуять! Молчи, я тебе ничего не говорила, молчи!
– Да наши, гвардейские, горой за тебя!
– Верю. Но о моих словах тебе молчи. Сам знаешь: кто не в свой черёд сунется – безголовым повалится! А в свой черёд... – Она позволила себе унестись в мечтаниях, разнеживаясь его близостью. – Как жить ещё будем, Алёша! Сервизы сыщу матушкины – батюшка дарил ей серебряные – крышки на блюдах презамысловатые, знаешь ли, наподобие кабаньей головы, кочна капустного, а то наподобие окорока, и до того искусно... В Петергофе затеи заведу! Батюшка дворец свой именовал Монплезиром. Да я тебе скажу: видывала я дома с убранством побогаче. Нет, я особливый Монплезир построю, малый изящный домик, там пиры заведу – вечернее кушанье. Я, знаешь ведь, посты строго соблюдаю, но – хитра! Стоит только дождаться первого часа следующего, непостного уже дня, и ужин возможно сервировать скоромный. В постные дни, в среду и в пяток, у меня вечерний стол поздний будет, после полуночи, зато как пировать будем!..
Он почти млел, сомлевал почти от её голоса, от её простых зримых мечтаний, от этого её «будем»!..
* * *
В слободском житье порядки были самые немудрёные у Елизавет Петровны. Девки и лакеи возились в передней, играли в носки и в тычки, пробегали бегом через цесаревнины покои. А ей хоть бы что! Знай хохочет. А хлопнет по затылку кого, так оно и надобно! Они и сами понимают, что цесаревна милостива не в меру, что их бы похлеще! Ну и тоже смеются...
Она выходила к девкам в хоровод не только потому, что так было нужно для её пользы, для её выгоды, но и потому, что ей сделалось занятно, интересно. Хоровод был важное дело. Девки собирались нарядные, в кокошниках – околыши пёстрые, в душегреях. За руки ходили торжественно, чинно...
Цвели, цвели цветики
Лазорливые,
Укрывали горушки
Все каменнаи.
Широкой долинушки
Не укрыли.
В широкой долинушке
Дорожка лежит...
И матушка ведь любила гудошниц и песенниц. И бабок и прабабок веселили, должно быть, в теремном житье девичьими песнями и хороводами...
Она почти входила в эту роль, почти верила, что и она на самом деле – девка-сирота, без отца-матери – некому на ум наставить, но в хороводе ведь не хуже отецких дочерей поёт голосисто... Ей далось сочинять не только стихи, русские стихи о любви, но и песни для пения, песни девические хороводные...
Во селе, селе Покровском,
Середь улицы большой,
Расплясались, разыгрались
Красны девки меж собой...
Очень её занимало, как это в стихах последнее слово в строке созвучно ложится на другое последнее слово в другой строке и выходит складно: «учинилась» – «вселилась», «вселити» – «быти», «умерщвляет» – «не знает»... Но если так возможно в стихах, стало быть, и в песнях оно возможно... Так развивалась русская рифма и рождались первые русские рифмованные, но в народном стиле стихи[29]29
…первые русские рифмованные, но в народном стиле стихи... – Стихи Елизаветы Петровны приводит в своём «Словаре достопамятных людей» Бантыш-Каменский.
[Закрыть]... Вот уж воистину: чью голову озаряет?.. А нам бы чью хотелось? Не цесаревнину, будущей императрицы, разгульной девки голову? Другую какую? Получше? Почище? Поскромнее?..
* * *
Ждала своего времени. Предчувствовала. Но не было ясно как. Представляла себе, воображала, как молодой император совсем заигрывается, закруживается в вихре веселья. И тут – сверкают штыки её гвардейцев и... Но император был, увы, не сам по себе, не один. За ним теснились хищной стаей Долгоруковы, Голицыны, Андрей Иванович со своими Стрешневыми... Ждать, покамест они все сцепятся и друг другу горло передерут? А сколько ещё придётся ждать? Годы идут. Молодость её уходит... В деревянном домишке пролетают дни, вечера, какие надо бы – на пиры, танцы, охоту...
Гвардейцы были – её, за неё. Но она знала: ещё рано, ещё не время строить заговор. Чего-то недоставало. Да, сейчас она была со своими гвардейцами, но слишком в отдалении от большого света. Нельзя было так. Да, она понимала, ей недостаёт сильной партии, её партии, в свете. И для того, чтобы строить подобную партию, собирать, составлять, надобно было вернуться в общество.
Но и для этого возвращения время ещё не настало.
А судьба меж тем настраивала по-новому инструменты, для нового крещендо, чтобы люди-актёры на маскараде борьбы за власть не скучали бы и прыгали бы повыше и позанятнее.
На этот раз не было никакой внезапности. Болезнь была самая обычная, хотя и протекала тяжело. Молодой император захворал оспой.
Лизета по-быстрому перебирала возможности действий. Надобно ли? И если надобно, то как? Оспа может изуродовать страшно. А ведь ходят, ходят слухи, будто объявленная гласно государева невеста, мраморная Катенька, ныне осыпанная бриллиантами, задаренная сверх всякой меры, на деле не такой уж и хладный мрамор. Живая! Не любит будущего супруга. Это красивого юношу она не любит. А что скажет о рябом, изуродованном оспою? Конечно, Долгоруковы встанут стеной. Посмей Катенька словечко сказать, да они свяжут её верёвками, рот заткнут, в церковь к венчанию на верёвках приволокут. Но после... После венчания... Останется ли юная императрица верна рябому, нелюбимому мужу? Как может измениться характер Петра Алексеевича под влиянием внезапного уродства? Нет, нет, надобно ожидать скандала. Лизета состроила план вот какой. После свадьбы Его величества она возвращается. В Москву. Далее? Сойтись ли с племянником, сделаться ли его любовницей? Нет, этого не надобно, пожалуй. Будет лучше, если она глядеться будет обиженною, а не преуспевающей. Появиться в обществе скромной, связь с Алёшенькой напоказ не выставлять. Партию свою... Далее... Дожидаться скандала не придётся долго. Скоро, скорёхонько скандал с молодою императрицей должен произойти. Что ещё? Способствовать вместе со своей партией этому скандалу. Устроить так, чтобы поскорее молодая супруга изменила мужу-государю и чтобы это поскорее открылось. Войти к ней в доверие, быть обворожительной. В обществе быть со всеми обворожительной. И вот когда скандал разразится, вот тогда... Переворот! Штыки вокруг дворца... А для того, чтобы это сделалось скорее, не порывать с гвардейцами ни в коем случае! Алёшу при себе держать...