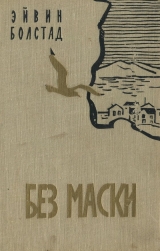
Текст книги "Без маски"
Автор книги: Эйвин Болстад
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц)
…Тёрбер уже давно договорился с Кристианом, что тот возьмет его с собою на станцию, когда станет отвозить туда овощи. Со станции старик собирался написать домой: встретил, мол, друга юности, а тот пригласил его на несколько дней в город. Он высчитал точно: на свои сбережения он сможет пробыть в городе восемнадцать дней.
На следующее утро Кристиан подъехал к дому и стал торопить Рагну и дочь, которые укутывали Тёрбера, точно грудного младенца.
– Не забывай, что ты уже не молод, – говорила Рагна мужу.
Они покатили на станцию, и в тот же день, после обеда, Тёрбер сел в поезд. Он сразу же почувствовал, что начал жить той жизнью, по которой томился столько лет. Поздней ночью он приехал в город и снял комнату в небольшом отеле.
…Еще не пробило семь, а Тёрбер уже на ногах. Он стоит у причалов, наблюдая за судами. Далеко в море виден могучий лайнер. На верфи начинается хлопотливый день. Раздается утренний гудок. Тёрбер давно уже ждет его. И всё вокруг сразу приходит в движение. Старик чувствует себя частицей толпы, этих торопливо бегущих людей, которых сразу же поглощают огромные тяжелые ворота. Когда-то он тоже ходил сюда: приносил отцу кофе. Отец всегда при этом спрашивал, как у него нынче дела в школе. Потом гладил его по щеке и говорил: «Ты далеко пойдешь, мой мальчик!»
Тёрбер расхаживает по пристани. Он старается держаться подальше от тяжелых грузовиков, появляющихся там, где их меньше всего ожидаешь.
Разнообразные звуки сливаются в гул, который как будто надвигается сразу со всех сторон. В голове Тёрбера словно гудит ветер. Но ему это по душе. Маленькие моторные лодки с урчаньем несутся по морю, врезываясь в волну, мягко обнимающую их борта. «Прочь с дороги!» – рычат они. Тёрбер глядит на них с легкой улыбкой.
Надо бы найти какой-нибудь ящик и присесть. Медленно движутся буксиры, таща за собою баржи. На последней барже верхом на рулевой стеньге сидит человек, приблизительно одних лет с Тёрбером, и что-то кричит с баржи на берег; ему отвечают. Этот старик – одно целое с городом, он его неотъемлемая часть. Он не захотел стать всего-навсего престарелым тестем в доме своей дочери, не зажил на покое. Вот он сидит там, раскуривая трубку, и, как видно, вполне доволен жизнью. Тёрбер глядит на него просветленным взглядом. Ему кажется, он видит, как этот старик сидит в воскресенье у себя дома, окруженный детьми и внуками. И даже если зрение его теперь ослабло, а руки утратили прежнюю силу, он всё равно не боится, что его немощная старость отразится на бюджете семьи.
Тёрбер видит, как баржа медленно исчезает в глубине фьорда, и лишь тогда поднимается и бредет в город. На улицах еще не чувствуется большого оживления, но они уже стряхивают с себя сон. Утреннее солнце ярко освещает скамьи в парке; теплые лучи, как любящие руки, мягко ложатся на лицо Тёрбера. Он сидит и прислушивается. Сейчас город проснется. Улицы заполнятся людьми, которые каждый день появляются на них в одно и то же время. Когда-то и он был частью этой толпы, которая каждое утро приводит в движение колесо жизни. На плечах этих людей – весь труд и заботы человечества; но они скромны, среди них нет героев, и у них нет никаких богатств. Гигантской машине жизни они отдают свои мускулы, кровь, тело…
Он сидит с закрытыми глазами и прислушивается к знакомому людскому гулу. Так проходит некоторое время. Затем гул стихает – и на улицах слышен лишь обычный дневной шум.
Тёрбер воображает, что у него сегодня свободный день: ему не нужно идти в контору; он будет долго бродить по городу. Цветочные клумбы в парках напоминают сверкающие драгоценные камни. Усыпанные гравием дорожки гостеприимно стелются под сенью густой листвы деревьев. Он идет по ним, и – странное дело! – здесь он чувствует себя ближе к природе, чем там, в долине, где стоит его дом.
Тёрбер ходит по улицам, прислушиваясь к шуму голосов и топоту шагов. Он бросается в уличный водоворот и бредет без цели. И он чувствует, как тоска, мучившая его так страшно в последние годы, медленно исчезает.
Тёрбер движется словно погруженный в глубокий сон. Каждая улица кажется ему родной, он чувствует себя здесь как дома. Его никто не знает, но он знает всех окружающих и знает всё о них, так как бессчетное количество раз видел все эти картины по ночам, во сне. Всё здесь знакомо ему: каждая дверная задвижка, каждый фонарь, все облезлые стены домов и скрипучие ступеньки лестниц.
А вот и знакомый дом. Здесь ничто не изменилось. То же шаткое крыльцо и предательская яма около ступеней. Он невольно останавливается в раздумье. Действительно ли это было здесь? Да, несомненно. Всё осталось по-прежнему. Тот же гул голосов, смех, крики. Вот хлопает парадная дверь, женщина что-то кричит из окна, детский голос отвечает ей. По улице проезжает телега, хозяйки идут с сумками и бидонами. Здесь, на улице, отголоски тысячи судеб, здесь всегда что-нибудь происходит. Ему чудится, что дома разговаривают с ним, а он им отвечает.
Так он блуждал по городу целый день и снова ощущал себя его частицей. Ему казалось, что здесь легче дышится. Он чуть не расхохотался, вспомнив озабоченное лицо их деревенского врача. Никогда не чувствовал он себя здоровее, чем сейчас.
На углу стояла группа мальчишек. Ему захотелось присоединиться к ним. Двое влюбленных шли вдоль пристани, размахивая купальными костюмами. Время от времени они смотрели друг другу в глаза так, словно кроме них здесь никого не было. Да на них и вправду никто не обращал внимания. Только Тёрбер некоторое время шел за ними, потому что он был так же влюблен, как они. Он догнал их и, словно на диковинную картину, уставился на темноглазую усталую красавицу. Лишь к концу дня он почувствовал голод и отправился в свой прежний ресторан. Здесь тоже почти ничто не изменилось.
Позднее он пошел осматривать новую часть города. Он шел медленно, оглядываясь, и в его памяти вставал город таким, каким он был прежде. Кое-что старик припоминал с трудом, но всё-таки многое ему удалось вспомнить. Квартал за кварталом поднимался город, исчезали пустыри, вырастали огромные бетонные здания, улицы превратились в широкие асфальтированные бульвары. Всё это было построено уже много лет назад, но для Тёрбера родилось только сейчас. Он начал осматривать всё по порядку.
Городской воздух казался ему особенным. Дело было вовсе не в заводском дыме или запахе бензина. Тёрбера покоряло биение напряженного пульса городской жизни. Песнь бетонных громад была так не похожа на песнь одетых лесом гор. Но песнь эта была песнью борьбы. Отражение этой борьбы он читал на лицах людей, которые ехали в переполненных трамваях, выходили погреться на солнышке. В голосе у них звенели песни и смех. Их подвижные лица отражали день и жизнь иначе, не так, как он привык наблюдать это в деревне. И от этого у него становилось тепло на сердце! Так удивительно красивы были эти люди. Они были частью единого целого, частью этого прекрасного города.
Под самый вечер он отправился пригородным поездом в горы, сошел у большого ресторана и занял столик. Он ни с кем не разговаривал, если не считать кельнера, обменявшегося с ним несколькими словами. Но ему казалось, что он близок со всеми, кто заполняет ресторан. Он чувствовал себя частицей этого праздничного сборища. Потом он взглянул вниз, на город, и у него перехватило дыхание. Здесь ему нужно было жить; пусть его даже и ожидали бы невзгоды, но только здесь, здесь! Он сидел и не мог налюбоваться картиной расстилавшегося перед ним города. Контуры тысяч крыш, гладкие шпили красивых церквей, огромные здания, громады заводов, школы, респектабельное здание университета, бульвары, парки, напоминающие цветущие букеты, – всё это было так просто и красиво! В это мгновение Тёрбер не согласился бы променять самое жалкое нищенское ложе здесь, в городе, на самую богатую усадьбу в долине.
Город раскинулся внизу, шумный и живописный. Его дыхание было исполнено удивительных звуков, и казалось, что его застилает дымка вечно горящего жертвенного костра. Мало-помалу шум стихал. Некоторое время с вершины горы всё было видно отчетливо. Но затем серая мгла стала окутывать город; она всё сгущалась. Это продолжалось несколько минут. Наконец где-то зажегся одинокий огонек, за ним – еще один. Потом огни стали быстро загораться один за другим, и вскоре весь город погрузился в море непрерывно движущихся сверкающих блесток…
Кельнер постоял некоторое время, глядя на безмолвного, пристально глядящего вдаль человека. Вдруг он увидел, что голова старика упала на грудь. Кельнер быстро приблизился, положил руку на плечо незнакомца и испуганно отпрянул. Потом наклонился и заглянул в остекленевшие глаза.
Тёрбера похоронили на кладбище, где покоились его родители. Мальчик его приехал издалека и стоял над могилой рядом с матерью.
Но одного они так никогда и не смогли понять: для чего он утаивал деньги, которые присылал сын?
«Ректор еще не пришел!»
(Перевод Л. Брауде)
«Fred, where are you?»[19] – эта фраза знакома каждому школьнику Норвегии. Ее можно найти в учебнике английского языка для начинающих. А учебник этот написан ректором[20] Кнудом Олаи Брекке.
Несомненно, мы преисполнились бы еще большим уважением к Лайену, как называли ректора мы, ученики, если бы знали, что книга его переведена на многие иностранные языки и произвела переворот в области преподавания языка.
Впрочем, Лайена и без того очень уважали. И вовсе не за его ученость. Чего стоила, например, одна его представительная фигура, внушавшая такое почтение! Рослый, очень статный, он уверенно шествовал, высоко подняв голову и слегка выворачивая наружу носки. У него была седая бородка клинышком и седые усы, и, что весьма важно, он носил очки со сверкающими стеклами, которые метали молнии, стоило ректору повернуть голову. Глаза его за стеклами очков были очень бдительны. Поговаривали даже, что эти глаза обладают большой проницательностью. Возможно, так оно и было на самом деле. Но весьма приятно то, что выражение бдительности и проницательности изредка сменялось улыбкой, которую буквально излучали его глаза.
Это было весьма внушительное зрелище, когда ректор в своем прекрасно облегающем черном сюртуке, черном котелке и самых сверкающих в мире ботинках пересекал городскую площадь.
Лайен во всех отношениях подходил для должности ректора. И, самое главное, он почти не вмешивался в личные дела учеников. Да, Лайен был человеком уважаемым и безупречным…
В ту пору, когда я ходил в третий класс бергенской соборной школы, я жил в доме, носившем громкое название «Горное гнездо». Он находился как раз посредине Скансесвингене, и, чтобы попасть в школу, мне приходилось спускаться вниз узкими переулками по бесконечным каменным ступенькам и отвесным склонам… Затем надо было еще преодолеть улицу Биспенгатен и холм. С него можно было просто съехать вниз. У подножья холма дорога сворачивала направо. Затем оставалось последнее препятствие: надо было спуститься вниз на улицу Кунгоскаргатен, перевести дух, остановившись у фонарного столба, и одновременно со звонком пронестись пулей через старинные сводчатые ворота школы. Всё наше время было рассчитано с точностью до одной секунды. Выбиваясь из сил по дороге в школу, мы заранее знали, опаздываем мы или нет. Один раз можно было позволить себе роскошь опоздать. Разумеется, с солидным оправдательным документом в кармане. Опоздав два раза, провинившийся должен был явиться в школу на следующий день за час до начала занятий. Три опоздания влекли за собой целую неделю такого удовольствия.
Мой двоюродный брат Лейф жил как раз по дороге в «Горное гнездо». Каждое утро мы вместе с ним останавливались на улице Биспенгатен, чтобы немного передохнуть, а уже потом ринуться в решающее утреннее сражение за секунды. И горе тому, кто стоял тогда на нашем пути…
А как сладко нам спалось в те времена! В особенности когда накануне до позднего вечера играешь во дворе в «охотников» и «пиратов». О эти блаженные минуты по утрам, когда глаза готовы снова сомкнуться, а строгие наказания уже поджидают тебя и злобно хихикают отовсюду! О эти блаженные минуты в пору твоего детства, когда ты вырастаешь из одежды, а башмаки становятся тебе малы, когда ломается голос и ты можешь петь на два голоса! О эти утра – будь они прокляты, когда глаза смыкаются, а уши глухи к доброжелательным возгласам всех твоих родственников…
Случилось так, что гроза улицы Биспенгатен, то есть я и Лейф, мой двоюродный брат, опоздали два раза. Нас предупредили: если мы еще хоть раз опоздаем, нам придется целую неделю являться в школу на час раньше. Ну и ну!
Вскоре после этого строгого предупреждения, которое непременно заставило бы призадуматься многих более благоразумных мальчиков, случилось несчастье. В какой-то совсем краткий миг глаза мои сомкнулись сами собой. Как раз та самая минутка, которую никак нельзя было терять, была безвозвратно потеряна. Дамоклов меч несчастья колыхался на ниточке, готовый вот-вот оборваться. Ну, а когда человек торопится, беда, как известно, не ходит одна. От штанов отскочила чрезвычайно важная пуговица. Та самая единственная пуговица, которая еще удерживала штаны на месте. Но времени хватило ровно настолько, чтобы правой рукой крепко ухватиться за сваливающиеся штаны, левой вцепиться в ранец, стремглав выскочить через дверь, предусмотрительно открытую чьими-то услужливыми руками, и скатиться вниз по лестнице. Пылкие возгласы и пожелания всех родственников неслись мне вдогонку. Ведь стоит опоздать еще один раз, и всей семье придется вставать по утрам на целый час раньше.
Входная дверь с шумом захлопнулась за мной. Она как бы вытолкнула меня на свежий воздух, навстречу прекрасному весеннему дню. Вниз по спуску! Через холм Питтерхойген! А ну, прибавь ходу! Быстрее! Вниз по узкому переулку! Осторожней, крутой обрыв! Дальше! Дальше!.. Во всю силу легких мчишься вперед, пыхтя как паровоз. Ох, дух захватывает! Наконец-то начало улицы Биспенгатен. Сегодня не удастся даже передохнуть. Лязгнули зубы… Из глаз посыпались искры. Кепка съехала на один глаз. Рыжие волосы встали дыбом. Спереди и сзади расстегнулись пуговицы… А ты несешься вперед, словно одинокий Арнльот Геллине[21], крепко сжимая одной рукой пояс штанов, а другой придерживая школьный ранец. Ужасное положение для человека, который вынужден бежать так, словно дело идет о жизни и смерти.
За спиной послышался рев, и я понял, даже не оглянувшись, что Лейф слишком круто взял поворот и ткнулся носом в землю. Учебники рассыпались вокруг него веером. Но что поделаешь! Я ничем не мог помочь ему. Он сам виноват. Дело шло о спасении жизни. Спасайся, кто может! Башмаки с загнутыми носками, которые никогда не выйдут из моды в городе, где полным-полно узких переулков и крутых обрывов, помогали брать подъем быстрыми темпами. Лейф, прихрамывая, изо всех сил поспевал за мной. Ему приходилось поторапливаться…
Мы пронеслись мимо молочной, и за нашей спиной тотчас послышался крик: «Ой!» Какая-то девочка быстро отступила в сторону, – у ног ее разлилась молочная лужа с осколками разбитой бутылки. Размахивая ранцами, мы промчались дальше со скоростью ветра, совершили неуклюжий прыжок и, словно во время скачки с препятствиями, перескочили через кучу ведер, как раз в тот момент, когда возчик нагнулся было, чтобы погрузить их в ящики, стоявшие на телеге. Мы сбили с возчика кепку, проскользнули прямо под головой его лошади, которая встала на дыбы, заржала и отпрянула к окну дома, так что ящики чуть не очутились в спальне какого-то капитана.
Сначала этот капитан чертыхался на чем свет стоит, а потом принялся «свистать всех на палубу». За нашей спиной слышались отборные проклятия. Но мы невозмутимо пронеслись мимо дома ректора, а наши ноги изо всех сил работали, стараясь во что бы то ни стало не нарушать законов тяготения.
У самых дверей дома ректора мне пришлось зажать покрепче штаны, которые уже сползли на несколько дюймов. Была минута, когда я считал битву проигранной, мне казалось, что штаны у меня вот-вот сползут. Но, совершив смелый прыжок, я подтянул их, встал на правую ногу, переступил с нее на левую, и, не уменьшая скорости, с новыми силами понесся дальше, по-прежнему не выпуская из рук пояса штанов. Затем я бросился вперед, совершенно не думая ни о физических законах, ни о тяготении, ни о чёрте, ни о его бабушке.
Теперь мы мчались уже на всех парах.
У самого нижнего спуска рядом со старой школой мы повернули под прямым углом, словно на крутом повороте, держа тело в неподвижном состоянии, между тем как ноги продолжали нестись вперед с головокружительной быстротой. А затем мы выпрямились в нужный момент (ах, если бы в наши дни кто-нибудь владел техникой этого дела!) и, перепрыгнув через глубокую яму, преодолели последнее препятствие. Ну, теперь нам ничего не страшно!
Разом была нарушена утренняя тишина: крик Лейфа потряс воздух. Да, момент был воистину трагическим. Лейф взвыл:
– Через забор! Ректор еще не пришел!
Вдоль холма тянулся забор. В нем была калитка, ключ от которой хранился у ректора (как мы завидовали ему!). Прыжок через этот забор экономил как раз недостававшие нам обычно секунды. Само собой разумеется, что часто нам не помогал даже забор. А ведь последнее предупреждение было чрезвычайно серьезным. А тут еще эти штаны! Несчастье не подчиняется никаким законам.
Врезавшись в громадную песчаную насыпь, мы затормозили, как два паровоза. Мне было уже не до штанов! Спастись можно только перемахнув через забор. Это необходимо, если даже спасение будет достигнуто ценой разодранной рубашки. Мы перебросили тяжелые ранцы через забор. Прыжок! Бух! (Штаны быстро сползли до самых башмаков.) Пальцы судорожно вцепились в край забора. Неуклюжий бросок левой ноги, легкое прикосновение кончиков пальцев к краю забора, и… все силы вложены в одно-единственное движение: гоп! через забор! Падаю! Да, это мы умели! В те времена мы еще сохранили кое-какие остатки первобытного инстинкта. Мы согнулись в три погибели в воздухе и, как котята, упали вниз. Но только было мы собрались схватить наши ранцы, как с ясного неба грянул гром. Мы окаменели. Перед нашими глазами словно из-под земли выросли два самых сверкающих в мире черных ботинка. В том, кто их владелец, ошибиться было абсолютно невозможно.
Стоя на коленях, мы как зачарованные смотрели на эти ботинки. И оба думали одно: если мы так и останемся стоять неподвижно, как каменные изваяния, то непременно свершится чудо или что-нибудь в этом роде. Может, он не заметит нас или не поверит глазам своим и пойдет дальше. Но секунды шли, а ботинки будто приросли к земле, и мы не слыхали ни единого звука. В конце концов положение стало просто критическим. Необходимо было что-то предпринять! Медленно-медленно поднимали мы наши широко открытые, блестящие и, как мы в глубине души надеялись, невинные глаза на прекрасно отутюженные брюки ректора и добрались наконец до полы его черного сюртука. Взор наш медленно, – о, как медленно! – скользил по его животу и груди, в отчаянии остановился на белом воротничке, поблуждал по бородке клинышком и наконец задержался на мечущих молнии стеклах очков, сквозь которые и глаза теперь тоже метали грозные молнии. Но рассказы об ужасах Иерусалима и падении стен Иерихонских были ничто по сравнению с картиной вандализма, которую узрели наши очи, очи четырнадцатилетних юнцов. Черный, безупречно чистый котелок ректора, яркий символ респектабельности, был надвинут, нет, не надвинут, а скорее придавлен, нет, даже не придавлен, нет, сбит на лоб и закрывал один глаз. И, о ужас, всё было ясно как день: позорное дело совершил один из наших тяжелых школьных ранцев в этот роковой для нас час.
Лайен был потрясен. Может быть, даже испуган. Почем мы знаем? Мы были лишь два невинных школяра, которые вели ожесточенную борьбу за секунды. И вот мы лежали повергнутые ниц, а Лайен со сбитым на ухо котелком, молча стоял над нами в позе Катона. Он был возмущен и молча отдувался. Вид его был весьма красноречив: можно было подумать, что он идет с какой-то попойки и не в силах без посторонней помощи найти свой дом. Это зрелище повергло нас в бездну глубочайшего унижения. С этого момента земля казалась нам единственным надежным прибежищем.
Лайен несколько раз перевел дух, облизнул губы кончиком языка. Его грудь непрерывно вздымалась и опускалась. Казалось, он не в состоянии был найти единственно правильные и наиболее меткие выражения, достойно осуждающие наше преступление, дабы оно на веки вечные запечатлелось в анналах нашей мятежной мальчишеской совести. Губы ректора тряслись, усы дрожали. И вдруг из его груди вырвался крик, громогласный крик:
– Нет, ректор пришел!
О ужас! Мы не знали, куда нам деваться от стыда. Не было местечка, где мы могли бы зарыться головой в песок. Неестественно скорчившись, мы стояли на четвереньках, подобно херувимам, высеченным из камня, с задранными кверху головами и выпученными глазами. Легкий ветерок колыхал лохмотья наших разодранных рубашек, которые выбились из-за пояса. Мы были совершенно уничтожены. Нам оставалось лишь воздать благодарность за подаренную нам некогда жизнь. Жаль только, что она была столь коротка.
Лайен стоял, всё еще отдуваясь. Его котелок по-прежнему был сдвинут на ухо. Он не сделал ни малейшей попытки спасти свое достоинство.
Но тут что-то непонятное произошло за стеклами его очков. Лайен замигал глазами и тихо, почти доверительно, точь-в-точь, как говорят между собой уличные мальчишки, сказал:
– До звонка осталось еще несколько секунд!
Жизнь снова вернулась к нам, словно по мановению волшебной палочки. Мы сразу вспомнили о школе, о строгом предупреждении и вскочили как недорезанные поросята. Я поднял свалившиеся было штаны, прижал к груди ранец и, подняв столб гравия и песка, пустился бежать. Высунув язык и не обращая уже никакого внимания на ректора, я бросился на мост, задрожавший у меня под ногами. Подгоняемый могучим дыханием Лейфа, бежавшего сзади, я превзошел самого себя в этой трагической борьбе за секунды только что наступившего дня. Я высоко подпрыгивал на черно-белых каменных плитах школьного двора, молниеносно обогнул колонну, проскользнул под рукой учителя Буббюена, который важно и невозмутимо шествовал с книгами под мышкой по направлению к классной комнате. И вот я уже хлопнул дверью, пролез сквозь толпу мальчиков, стоявших в проходе, и бросился за парту. Лейф проделал то же самое. Спасены!
Мы расстегнули воротнички. Лица наши были в поту. В глазах застыл смертельный ужас.
Мы с трудом переводили дыхание, но постепенно сердце начало успокаиваться. Потом мы кивнули друг другу головой: и сегодня нам тоже удалось вывернуться.
О, какое блаженное чувство! Чувство освобождения, чувство покоя! Чувство благополучия!
Тот, кого не раз в течение целой недели заставляли являться в школу на час раньше, поймет нас. Что же касается других ленивых душ, которые приплетались в школу не пролив ни единой капли пота, то рассказ двух грешников пройдет мимо них!
Где-то далеко-далеко раздавался могучий голос учителя Буббюена. Он докладывал о второй пунической войне. Но наши мысли были далеко. Их предметом по-прежнему был ректор. Мы не переставали удивляться его странному поведению. Мы в недоумении качали головами и, черт с ней, с пунической войной, чесали затылки, поглаживали подбородки. Нет, мы так и не поняли, в чем дело. Мы надолго замолчали.
Но тут из груди Лейфа вырвался такой крик, что в классе раздалось эхо:
– Эй, ты, ведь он смеялся!
А мой ответ прозвучал еще громче:
– Вот дьявол!
Между молотом и наковальней
(Перевод Ф. Золотаревской)
Холму уже давно казалось, что за его соседом Гранстрёмом ходит по пятам какой-то человек. Но сегодня он окончательно убедился в этом. И хотя сердце его готово было выскочить от страха, он повернулся и прошел метров двадцать следом за таинственным незнакомцем.
Когда Гранстрём задержался у витрины, человек тоже замедлил шаг и стал что-то разглядывать в соседнем окне. Когда Гранстрём встретил знакомого и остановился поболтать с ним, человек тоже остановился и не тронулся с места, пока Гранстрём не пошел дальше.
Да, теперь Холм был уверен: Гранстрёма в чем-то подозревают. Но в чем? И кто? О Гранстрёме ходили разные слухи. Ему ничего не стоило вступить в беседу с немцами; он не избегал их. И в последнее время часто можно было слышать его беспечный смех, словно фашистская оккупация его нисколько не касалась. Говорили, что он вел какие-то дела с немцами, а однажды, когда в городе гастролировал немецкий ансамбль, он отправился на концерт, хотя в зале не было ни одного норвежца; там собрались одни лишь нацисты и самые подлые их прислужники.
Кому теперь можно было верить? Служил ли Гранстрём в тайной полиции? Нет! Нет! Холм не мог этому поверить. Гранстрём просто ни рыба ни мясо! Но и это тоже было своего рода предательством.
Правда, Холм хорошо знал Гранстрёма. Черт возьми, ведь репутация его была безупречна. Но… да, в этом «но» – всё дело. В нынешнее время никому нельзя доверять. Почему каждый день арестовывают то одного, то другого? Видимо, их выдает какой-нибудь доносчик. Но кто он? Может, Грагнстрём? Тогда, если Холм вздумает его предупредить, то угодит прямо в петлю. А посоветоваться не с кем. Он, Холм, затаился в своей скорлупе и сидит там в страхе, не смея пошевелиться. Да, в страхе! Он – трус, ему не хватает мужества. Вся трагедия в том, что он знает об этом и презирает себя. Сколько раз, читая в газетах о смертных приговорах патриотам, в числе которых были и его близкие знакомые, он чувствовал словно удар по лицу. Ему казалось, что в этом была доля и его вины. Ведь он ничего не делал для борьбы с захватчиками! И то, что он не находил в себе сил для героических поступков, которые ежедневно совершали подпольщики, не могло служить ему оправданием. Когда он думал об истязаниях и пытках в гестапо, его охватывала дрожь. Он не был уверен в себе и боялся, что, попавшись, может не выдержать и выдать товарищей, настоящих, мужественных героев, которые принесли бы в тысячу раз больше пользы, нежели он. Но и это всё же не было оправданием. Правда, он иногда помогал распространять нелегальные газеты и время от времени ночь или две прятал у себя борцов Сопротивления. Но это не могло идти в счет. А теперь? Что он должен делать? Что?
Сульвей проснулась среди ночи оттого, что муж осторожно приподнялся на локте. Она сделала вид, что спит, но сердце у нее сильно забилось. Сульвей услышала, как он тихонько выбрался из постели и на цыпочках прошел в гостиную. И только тогда она повернулась и стала тревожно вглядываться вглубь слабо освещенной комнаты, напряженно прислушиваясь к его движениям в гостиной. Вдруг раздался легкий щелчок его автоматической табакерки, в которой он теперь хранил снотворные таблетки. Сульвей быстро легла и зажмурила глаза. Холм остановился у постели, нагнулся над женой и, вглядываясь в ее лицо, тихонько погладил ее по щеке. Затем он залез обратно под одеяло, свернулся клубком и тяжело вздохнул. Вздох прозвучал словно подавленный стон. Спустя некоторое время Холм уснул. Но Сульвей до утра не смыкала глаз. Приподнявшись на подушках, она стала разглядывать лицо мужа. Он спал тяжело, грудь его судорожно поднималась от вздохов. Бисеринки пота выступили у него на лбу; время от времени он жалобно, словно ребенок, всхлипывал.
Сульвей лежала, не отрывая от него глаз. Что всё это значит? Что творится с ним в последние дни? Она вспоминала случаи, когда жена и дети даже не догадывались о подпольной деятельности главы семьи, пока не случалось самое ужасное и нацисты ночью не врывались к ним в дом. И она думала о том, что, быть может, ей также предстоит в скором будущем жить в одиночестве, стоять в определенные дни у неприступных тюремных стен, не смея взглянуть на далекое зарешеченное окно. А потом – ссылка, концлагерь… Нет! Этого не может быть. Ведь Хьелль всего-навсего мирный домосед. Но… разве мало жен, которые рассуждали так же, как она? Они были в полной уверенности, что муж играет у приятеля в бридж, а он в это время подготавливал взрыв на железной дороге. Они думали, что муж отправился в горы на увеселительную прогулку, а он, вместо этого, расклеивал листовки или занимался какой-нибудь другой, полной смертельной опасности работой…
И давно ли Хьелль принимает эти таблетки? Что его мучит?..
За завтраком Хьелль Холм выглядел усталым и невыспавшимся. Время от времени он выпрямлялся и запрокидывал назад голову, точно ему не хватало воздуху. «Это всё погода», – сказал он извиняющимся тоном. Затем он принялся за утренние газеты. И тогда лишь пришел в себя окончательно. Сульвей с удивлением смотрела, как он лихорадочно пробегал глазами по строчкам. Он искал всякие незначительные сообщения, мелочи, пустяки, в которых жена не видела ничего особенного. Однако муж умел читать между строк в сообщениях нацистской газеты.
– Я забыл тебе сказать, – внезапно начал он. – На днях я встретил старого фронтового друга. Я просил его заглянуть к нам. Это, знаешь ли, чудесный парень. Душа нараспашку. Я ему вполне доверяю.
Сульвей вздрогнула, но быстро взяла себя в руки.
– Да, доверяю! – повторил он с ударением. – Я считаю, что все мы, норвежцы, которые ненавидят нацистов, должны больше доверять друг другу.
– Кто он? – спросила Сульвей.
– Его зовут Кристиан. В апрельские дни сорокового года мы вместе пробирались через горы. Война была проиграна, немцы наступали нам на пятки, и мы чуть не попали в окружение.
Хьелль Холм пошел на войну добровольцем. Но тогда он не испытывал страха. Умереть в бою – ничто по сравнению с чувством неуверенности в себе, которое может возникнуть на подпольной работе. На войне он не боялся, что из-за своей слабости навлечет беду на других.
Сульвей молча глядела на него. Может быть, спросить его обо всем прямо? Сказать, что он злоупотребляет снотворным? Просить, чтобы он доверился ей? О нет, сейчас не время доверять кому бы то ни было. Не время вторгаться в тайники души любимого человека. Хотя раньше у них никогда не бывало тайн друг от друга. Но в нынешние дни между любящими воздвигнута стена, лучше всего молчать и ждать. Молчать и ждать!
Спустя некоторое время Хьелль Холм быстро шел по направлению к станции. Чем ближе он подходил к платформе, тем сильнее чувствовал нежелание встречаться со своими коллегами… Вот они все стоят кружком, наклонив головы друг к другу.
Он спросил:
– Что нового?
Наступило молчание. Потом все осторожно оглянулись назад, а Свенсен прошептал:





