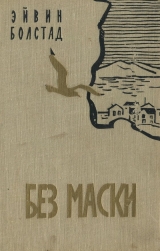
Текст книги "Без маски"
Автор книги: Эйвин Болстад
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц)
Пер Гранбаккен отправился в Канаду. Одни говорили, что он там разорился вконец, другие – что он содержал небольшую лесопилку в канадских лесах, а третьи утверждали, что он добывал себе пропитание ловлей лососей на Аляске.
Прекрасная усадьба, которую Пер привел было в образцовый порядок, теперь пришла в запустение. Старый Клинбергер распродал скот и всю живность, а в сараях ржавел и портился сельскохозяйственный инвентарь. У старика была куча денег и вдобавок совершенно поразительная экономка. Такого чудища жителям округи никогда еще не доводилось видеть. Росту в ней было добрых два метра без каблуков. У нее были пышные, могучие формы, крошечные ножки и иссиня-черные волосы. А под носом росли усы, которым мог бы позавидовать любой конфирмант. Перед большими праздниками экономка сбривала усы, и тогда она становилась красивой. Речь ее походила на воронье карканье; понять что-либо было невозможно, но обычно она подкрепляла свои слова красноречивыми жестами, так что одно компенсировало другое. Клинбергер называл ее «сеньорита».
Местная знать стала в конце концов удостаивать приветствиями чудаковатого богача. Но в гости к нему никто не являлся, и мало-помалу жители долины вовсе утратили интерес к усадьбе Гранбаккен.
Но тут случилось необыкновенное. В Гранбаккене появилось привидение. Хуанита сама рассказывала об этом в лавочке. При этом она пришла в такое волнение и до того усердно жестикулировала, что даже смахнула с крюка висевшую под потолком связку ведер. Но никто не рассмеялся. Ведь дело-то оказывалось нешуточное! Как только часы начинали бить полночь, привидение стучалось в ворота Гранбаккена, и тут начиналась чертовщина! Хуже всего было то, что привидение взяло себе моду до смерти пугать обитателей усадьбы. Среди ночи вдруг слышался отдаленный хохот, который, казалось, доносился из подвала. Но вдруг… жуткий смех проникал с улицы, через толстые бревенчатые стены дома, и тут же раздавались завывания на чердаке. Однако старый Клинбергер не давал себе труда даже подняться с постели. Однажды, когда привидение хохотало в коридоре у самой его спальни, он тихонько подкрался к дверям, рывком распахнул их, разразился во тьму ответным презрительным хохотом и запустил башмаком в зеркало. После этого он, сердито ворча, лег в кровать и тут же уснул, несмотря на то, что привидение продолжало выть и хохотать в замочную скважину. Что же касается Хуаниты, то она положила на пороге своей комнаты страничку из Священного писания и теперь чувствовала себя в полной безопасности. Но покоя и сна всё равно не было, потому что завывания и оглушительный хохот неслись со всех концов дома. Привидение продолжало бродить по всем закоулкам и хохотать.
Окончив свой рассказ, Хуанита тут же отправилась на телеграф и отослала дочери Клинбергера Сири телеграмму в сто сорок шесть слов.
И вот, через несколько дней, в субботу, из вагона поезда выпорхнула светловолосая красотка с целой кучей чемоданов и бросилась на грудь амазонки из Гранбаккена. Парни разинули рты. Вот это девушка! Они украдкой поглядывали друг на друга. Все предчувствовали, что мирному житью в долине настал конец. Не одна крепкая мужская дружба даст теперь трещину. С этого времени многие юнцы начали чистить зубы, бриться и тайком одеколониться. Некоторые дошли до того, что вздумали аккуратно стричь ногти. А кое-кто стал даже следить за своей прической. Уж это было точно известно.
Соперничество в долине разыгралось вовсю. Сири была цветущая и веселая девушка. Она так лихо кружилась в танце на субботних гуляньях, что у ее кавалеров только ветер свистел в ушах. И к тому же она ни капельки не боялась пьяниц. Однажды некий пришлый задира, которому вздумалось покрасоваться, позволил себе с ней какую-то вольность. И тогда Сири приемом джиу-джитсу во мгновение ока уложила его на пороге двери. Но парень оказался молодцом. Сразу же протрезвев, он поднялся и оглядел Сири с ног до головы. После этого он вытащил из заднего кармана бутылку водки и, вылив содержимое на ступеньки, лестницы, швырнул бутылку в траву. Затем он застегнул куртку на все пуговицы, пригладил волосы и с поклоном подошел к Сири. Он с большой почтительностью кружил Сири в танце, но мало-помалу они пошли всё быстрее и быстрее и наконец заняли весь круг. Вдруг Юн стал наяривать на своем аккордеоне какое-то буйное американское гоп-ца-ца, и Сири, поддразнивая своего партнера, прошлась перед ним в лихой чечётке. Тут парень тоже начал выкидывать всякие коленца. И танец вышел почище голливудского рок-н-ролла. Сири дышала всё прерывистей, а ее партнер расходился всё пуще. Тогда девушка впервые с интересом взглянула на него. И что же она увидела? У него были фальшивые усы! Вероятно, какой-нибудь скрывающийся самогонщик. Но всё-таки он был очень красив. Впрочем, особенно долго ей не пришлось его рассматривать, потому что она выбилась из сил и остановилась. В ту же минуту незнакомый танцор исчез. Погруженная в глубокую задумчивость, Сири шла домой в окружении своих поклонников. Брови ее хмурились. Она даже не слышала, что говорили ей влюбленные кавалеры. Дома ее ожидало привидение, которое становилось всё более нахальным.
В ночь под Новый год некоторые парни предложили Сири покараулить ее дом, чтобы слабые, беззащитные женщины могли хоть немного повеселиться. Сири поблагодарила и приняла их предложение, но с условием, что они помогут ей поймать привидение.
И вот небольшая рота храбрецов явилась во двор усадьбы Гранбаккен, предварительно запасшись подкрепляющими средствами, припрятанными под жилетом и в карманах. Молодцы острили и балагурили наперебой. Но хорохорились они оттого, что их была целая гурьба, а Сири стояла тут же, на лестнице. Вдруг появился старый Клинбергер. Ковыляя, поднялся он на ступеньки, обозрел войско Сири, разразился жутким оглушительным хохотом и ушел, даже не поздоровавшись. После этого кое-кто невольно потянулся к карману, но заставил себя подавить страх, потому что сейчас необходимо было показать себя настоящим мужчиной. Впрочем, они опять пали духом, едва только услышали распоряжения Сири. Один был послан на сеновал, другого отправили в мрачный, темный хлев, где таились всякие ползучие гады. А некоторым достался подвал, походивший, по рассказам Хуаниты, на катакомбы, с урнами и скелетами в нишах, о которых в полночную пору и подумать-то страшно. На долю ученика кузнеца, богатыря Йорна, выпало караулить во втором этаже. В коридорах, в каждой комнате огромного дома сидело по парню. Им был дан строжайший наказ схватить привидение, связать его и доставить к Сири. В награду победителю была обеспечена благодарность молодой хозяйки, а может быть, даже ее сердце.
И вот каждый поплелся на свой пост. Отправлялись они со смехом и прибаутками, но как только остались в одиночестве, их сразу же начали одолевать всякие страхи. Храбрецы вздрагивали при каждом шорохе, при каждом мышином писке или кошачьем мяуканье.
А на дворе в эту ночь стоял лютый мороз. На небе полыхало северное сияние. Стужа с такой силой обрушилась на дом, что каждое бревно жалобно скрипело от холода. Никогда не думали парни, что новогодняя ночь может тянуться так долго.
Еще не было и половины двенадцатого, а Ларс Уле, что сидел в хлеву, уже успел опорожнить свою бутылку. Но это ни капельки не подействовало, – в каждом углу ему мерещились чьи-то шаги и шорох. То же самое было со всеми остальными вояками. Они то и дело чиркали спичками, чтобы взглянуть на часы. Но от мерцающего огонька по стенам начинали плясать тени, и сердце уходило в пятки. Йорн, зажигая спичку, держал перед нею обрывок бумаги.
Наконец время подошло к двенадцати.
В нижней гостиной с глухим урчаньем начали бить старинные стенные часы. И едва только в ночи раздались первые тяжелые удары, все молодцы повскакивали со своих мест. Лapc Уле, прижавшись спиной к стене, испуганно озирался по сторонам.
Казалось, будто весь Гранбаккен в страхе и напряжении прислушивается: откуда раздастся сатанинский хохот? Ларс Уле отыскал где-то старый черенок от лопаты и теперь судорожно сжимал его в руках. Вдруг ему почудилось, что в хлеву кто-то есть. Луна тускло светила в запыленное оконце. Ларс Уле различил в пустом стойле какую-то тень. А потом что-то белое мелькнуло у выхода. Нет, это, должно быть, обман зрения. Но… ведь он ясно слышал медленные шаги… И вдруг над самым его ухом раздался хохот. Он доносился с улицы через разбитое окно, которое Ларс Уле как раз присмотрел себе на тот случай, если ему придется срочно покинуть хлев. Подскочив от неожиданности, Ларс Уле повернулся и с такой силой треснул рукояткой лопаты по кирпичной стене, что сверху на него свалилась конская упряжь с бубенцами, с головы до ног опутав ремнями и веревками. Чем больше он старался высвободиться, тем сильнее запутывался. И всё это время не переставая звенели бубенцы, как будто удалые кони мчали свадебный поезд по гладкому льду. Далеко по всей округе разносился зычный голос Ларса Уле, а в близлежащих домах из каждого окна торчала чья-нибудь голова. В усадьбе соседа из окна комнаты старшей дочери высунулись почему-то даже две головы, что послужило причиной семейной баталии этой же ночью.
Все кавалеры ринулись во двор.
– Поймал его? – что есть мочи вопил насмерть перепуганный Йорн, размахивая топором над головой.
Вслед за ним примчалась вся ватага. Ларс Уле стоял на четвереньках, уткнувшись головой в навоз, и, сражаясь с конской упряжью, орал дурным голосом. Сири навела на парня карманный фонарик и попросила его взять тоном ниже.
В то время как они пытались освободить беднягу от ремня, дикий хохот грянул из гостиной. Сири снова стала командовать, и все, словно перепуганные мыши, бросились к дому. Ларс Уле меж тем задал стрекача. Он несся по улице, всё еще пытаясь сорвать с себя упряжь, а бубенцы оглушительно звенели, возвещая всему живому о его приближении.
Сири, как заправский командир, расставила парней по местам. На этот раз все постарались запастись смертоносным оружием. Йорн сжимал в руках топор и вилы, а в зубах – столовый нож. Еще несколько вил он захватил с собою наверх и положил их перед собой. Вдруг хохот раздался в саду. Финн Уле и Юн-верзила стали потихоньку спускаться из окна. Но не успел Юн-верзила ступить на землю, как получил удар прямо в лицо чем-то мягким и липким. Услышав крик, Финн Уле выпрыгнул вслед за ним и упал прямо на Юна, который, сомлев, растянулся на траве. Сири с револьвером в руке вихрем слетела с лестницы. Из спальни Хуаниты раздавались стоны и жалобный плач. Притихшие кавалеры стояли во дворе. Теперь уж чаша была переполнена. Финн Уле и Юн-верзила такими красками расписали привидение, что оно казалось всем страшнее тролля из Хельдальского леса. Сири ткнулась носом в щеку Юна-верзилы.
– В тебя плеснули кислым молоком, – заявила она убежденно. – Все по местам!
Однако храбрецы, стыдливо понурив головы, один за другим скользнули за ворота. Во дворе остался только Йорн со своим оружием. Он судорожно глотнул воздух, но не двинулся с места.
– Спасибо тебе, Йорн, – ласково сказала Сири. – Ступай наверх, а остальное я возьму на себя. – И громко продолжала: – Я обойду с револьвером вокруг дома и как только услышу шорох или замечу какое-нибудь движение, буду стрелять!
Они вздрогнули, услышав громкий хохот отца Сири из нижней комнаты.
После этого Йорн, еще больше побледнев, отправился наверх, а Сири двинулась вокруг дома, держа наготове револьвер со взведенным курком. Теперь вся эта история не казалась ей такой уж забавной. Обогнув последний угол, Сири пошла, тесно прижимаясь к стене. Из-за этого она споткнулась о выступ веранды и полетела носом в землю, нечаянно нажав курок. Грянул выстрел. Сири вздрогнула и закрыла руками лицо. Оно было всё перемазано кислым молоком. Мокрая швабра, лежавшая около веранды, угодила ей в рот. В эту минуту послышались тяжелые шаги за углом. Какой-то человек гнался за ней по пятам! Сири быстро схватила швабру и, едва только парень показался из-за угла, бросилась на него, размахивая своим оружием. Тогда он изменил курс и одним духом взлетел вверх по лестнице, словно ласточка в погоне за комаром. А богатырь Йорн выпрыгнул из окна второго этажа и побежал по холмам, блея от страха, точно баран.
Как раз в это время в усадьбе соседа по окончании баталии пили за здоровье дочкиного кавалера. Жених держал в одной руке стакан с вином, а другой поддерживал штаны. Подтяжки свисали у него пониже пояса. Когда он услышал, вопли пробегавшего мимо богатыря, рука его, поддерживавшая штаны, от неожиданности разжалась…
А Сири между тем осталась один на один со страшным гранбаккенским привидением. И это вовсе не радовало ее. Когда она, с револьвером в вытянутой руке, поднималась вверх по лестнице, из своей комнаты вышла Хуанита. Старая амазонка дрожала от страха и беспрестанно крестилась. Но настроена она была очень воинственно и сыпала угрозами направо и налево. В руке она держала кочергу. Хуанита, не говоря ни слова, протянула тонкий шнур над верхней ступенькой, чуть повыше пола, и привязала его к перилам. После этого она, приложив палец к губам, бесшумно втащила Сири к себе в комнату. Тут обе женщины застыли в ожидании, крепко сжав кулаки. Прошло несколько долгих минут. Потом они услышали хохот наверху. Кто-то медленно шел по направлению к лестнице. Хуанита так крепко сжала руку Сири, что синяк на коже девушки не проходил недели две. Позднее, указывая на него, некоторые недоверчиво говорили, что дело тут, должно быть, вовсе не в Хуаните!
Привидение прошло мимо комнаты, в которой они сидели. И, тут послышался неимоверный грохот, а затем вопли, стоны, проклятья и ругань.
– Привидение не стало бы ругаться, как извозчик! – закричала Хуанита так громко, что усы у нее задрожали. С этими словами она рванула дверь и бросилась из комнаты. В самом низу лестницы, почти съехав на пол, лежало белое привидение и жалобно вопило.
– Вставай, – закричала Сири, – а не то буду стрелять!
Человек вскочил и попытался было улизнуть. Тогда Сири пальнула в него, и по воплю, раздавшемуся вслед за выстрелом, поняла, что попала в цель. Человек совсем обезумел. Не раздумывая, он бросился в спальню старика Клинбергера и, прихрамывая, подбежал к окну. Но тут старик вскочил с постели.
– Так ты и мне не даешь покоя, хохотун проклятый! – закричал он.
Призрак, лихорадочно отодвигая оконные задвижки, отвечал ему замогильным голосом:
– Я дух Гудлейка-изгнанника, и нет мне покоя в могиле!
– Ну вот сейчас я, черт побери, угощу тебя снотворной пилюлей!
Тут Клинбергер, схватив со столика ночник – старинную фарфоровую вазу, в которую была вмонтирована лампочка, запустил ею в голову Гудлейка. Тот без единого звука рухнул на пол. В это время Сири и Хуанита осторожно вошли в комнату и остановились над распростертым призраком.
– Кровь, – сказала Хуанита, указывая на его голову и руку.
Сири сорвала с человека простыню. Привидение оказалось весьма пригожим парнем. И вдруг Сири признала в нем того самого кавалера с фальшивыми усами, что танцевал с нею в субботу на гулянье. Она принялась усердно хлопотать над ним. Хуанита промывала рану на его голове, а Сири смазывала йодом его ногу. Но парень внезапно пришел в себя и завопил что есть мочи:
– Ай-ай-ай! Убили вы человека, и ладно. Зачем же еще мучить его после смерти?
И вдруг, увидев Сири, разом умолк. Но, видно, он был не из робкого десятка, потому что поднял руку и нежно погладил Сири по щеке. Она отпрянула. Затем снова быстро наклонилась над ним, заглянула ему в глаза и положила руку ему на лоб.
– У тебя жар? – спросила Сири.
– Да, – простонал он и, приподнявшись на локте, поцеловал ее в щеку. Потом опять упал навзничь. – Я брежу!
– Да он просто самозванец, а вовсе не привидение, – сказала Хуанита. – Позвонить ленсману?
– Что это угодило мне в голову? – спросил парень, очнувшись.
– Старая безвкусная ваза, – ответил Клинбергер.
Он зажег сигару, предложил другую привидению и любезно дал ему прикурить.
Парень взглянул на вазу. Из нее торчала какая-то свернутая трубкой бумага. С загоревшимися глазами он протянул руку, взял позолоченные гербовые листы и распрямил их. Потом издал восторженный клич, вскочил на ноги, но тут же повалился обратно, прямо на руки Хуаните. Кровь ручьем потекла из его раны. Сири снова захлопотала вокруг него, а Хуанита, крепко зажав его в своих лапищах, приказала девушке:
– Промой ему как следует рану! А ты, привидение, не ори, будь мужчиной!
– Завещание! – воскликнул Пер Гранбаккен и потерял сознание. Сири торопливо заканчивала перевязку.
А потом они праздновали встречу Нового года. Перу Гранбаккену пришлось рассказать, как он надеялся запугать и прогнать из дома старика и женщин, а потом купить усадьбу за бесценок. В Канаде он трудился до седьмого пота, и ему удалось собрать немного денег.
Он долго пролежал в постели, и Сири ничего не оставалось, как ухаживать за ним. А старый Клинбергер вынужден был без конца слушать рассказы Пера о том, как он отвадил от дома всех кавалеров Сири.
Свадьба состоялась спустя полгода, и первенцу при крещении дали имя Пер Спёк[18] Гранбаккен. Мальчик был красив, как истинное дитя любви. И жители долины со знанием дела заявляли, что в этом нет ничего удивительного!
Одинокие
(Перевод Л. Брауде)
Улица казалась мрачной и пустынной. Женщина медленно приближалась к дому, уже на расстоянии представляя себе, как эта серая каменная громада поглотит ее. И чем ближе она подходила к дому, тем сильнее охватывал ее привычный страх одиночества. Страх перед своей пустой комнатой. Страх перед своим жалким существованием. Страх перед своей бессмысленной жизнью.
Она понимала, что многим живется не лучше, чем ей. Но всё-таки ей казалось, что улица, дом и комната преграждали путь только ей, давали резкий отпор ее жажде жизни и любви. И иногда жизнь казалась ей бессмысленно убогой и бесперспективной, тупиком, из которого нет выхода. Ей казалось, что даже тусклые огни уличных фонарей, даже мокрые камни мостовой, даже одинокие прохожие были ее врагами.
А этот дюжий полицейский, этот человек в мундире! Он спокойно стоял на одном и том же месте, возле уличного фонаря, и казалось, будто его огромная тень навечно застыла на стене дома. О, как ненавидела она его холодный, оценивающий взгляд, его равнодушие! О, как хотелось ей сказать ему, что она была всего-навсего безопасным зверьком, одним из тех, за кем следить не надо. Но больше всего ей хотелось, чтобы он в чем-нибудь заподозрил ее! Тогда, быть может, он зашевелится и его застывшая тень на стене тоже начнет двигаться. Ей хотелось, чтобы он обернулся, сделал ей замечание, даже повел в полицейский участок. Только бы он обратил на нее внимание. Пусть даже он сочтет ее опасной преступницей! Пусть – убийцей! Всё лучше, чем это убогое существование, эти вечные сковородка и чайник, этот вечный, гнетущий ее страх. Страх перед одиночеством из вечера в вечер, когда она сидит за остывшей чашкой чая, слушая дурацкое радио и глядя на пустую кровать.
И это ее одинокое окно! Окно, возле которого она стояла, глядя на улицу в долгие томительные вечера, когда огни города, словно сверкающая паутина, мерцали перед ней, а яркие фары автомобилей озаряли улицы и залитые светом бульвары под сенью деревьев. Ей казалось: она различает темную зелень этих деревьев, вдыхает аромат их дремлющей листвы, упивается роскошью магазинных витрин и слышит звонкий смех.
Всего этого жаждала ее юная душа. Но было в ней и нечто стариковское, и прежде всего – отречение от жизни. Ведь она каждый вечер запрещала себе приближаться к окну! И всё-таки после долгой и мучительной борьбы она снова подходила к нему. Как человек, тайно предающийся пороку, погружалась она в этот недоступный мир мечты, ненавидя его, боясь и горько раскаиваясь в своей слабости.
Столько раз она стояла у своего окна, наблюдая всю эту воображаемую жизнь, что эта жизнь навеки запечатлелась в ее душе! Сколько раз она думала, что и она, как равная среди равных, идет по улице вместе с толпой этих людей, живущих полной жизнью! Сколько раз она всё снова и снова надеялась, что кто-нибудь из них поднимется к ней и уведет ее за собой, навстречу этой жизни, или принесет жизнь с собой в ее одинокую комнатку. Но время шло, и всё оставалось по-старому: та же сковородка, та же одинокая постель, а на потолке вечные отсветы автомобильных фар. Влюбленные медленно проезжали в автомобилях, и это еще сильнее заставляло ее чувствовать свое одиночество. Она была наедине со своими мыслями, бесплодными мыслями, которые никогда не оставляли ее.
Почему она была одинока? Почему? Она понимала, что так же красива и так же достойна любви, как и любая другая женщина. В счастливые минуты она казалась себе лучше многих знакомых ей девушек. Она изучала себя в зеркале: в простом будничном платье или в лучшем выходном (чтобы купить его, она дважды отказывалась от летнего отдыха), а чаще – совсем обнаженной. Больше всего ей нравились ее руки. Хороши были и плечи, такие мягкие и нежные. И крепкие маленькие груди, мягкий округлый живот и пышные бедра, переходившие в длинные, стройные ноги.
И всё же! Одна устрашающая мысль о том, что она может потерять власть над собой, леденила ей кровь, и она больше всего боролась именно с тем, чего так страстно желала. Если бы ее зеркало умело говорить! Если бы ее окно могло рассказать всё то, что она поверяла лишь автомобильным фарам, бросавшим отсветы на ее белый потолок…
Тени! Одни лишь тени, безжизненные, навязчивые и мрачные, отчетливые и проницательные! Как они были схожи с тенью могучего полицейского, стоявшего с таким равнодушным и суровым видом на углу улицы…
Нет, видно, никогда не удастся ей встретить человека, который поможет ей осуществить всё то, о чем она мечтала, глядя на улицу. Никогда, никогда…
В такие минуты она бывала близка к тому, чтобы открыть газовый кран. Да он, кстати, был совсем под рукой. Она могла достать его, протянув левую руку. И она могла погасить лампу, чтобы в комнате воцарилась темнота, лежать, глядя на отсветы, бегающие по потолку, и прислушиваться к шуму улицы. Она не боялась смерти. Но она боялась, что может испугаться ее.
И она говорила самой себе: «Ты вовсе уж не такая храбрая! Ты не знаешь самоё себя!..»
В такие вечера рука ее непроизвольно тянулась к газовому крану. Одно лишь короткое движение, и она будет свободна. Свободна? От чего?..
Но рука, лежавшая на газовом кране, эта прекрасная узкая рука с длинными чуткими пальцами, так и оставалась лежать. И отсветы всё снова и снова двигались по потолку. И снова слышала она звонок в дверь соседней квартиры, и снова совсем близко от нее раздавался женский смех… Этот смех говорил ей о многом. Она не прислушивалась, она не желала прислушиваться, но всё равно этот громкий смех доходил до ее слуха, так же как и до слуха того, кому он был предназначен.
А она была совсем одна в своей маленькой комнатке.
Однажды утром она увидела эту ставшую ей ненавистной женщину, которая так громко смеялась. Женщина вышла из дверей квартиры соседа. Лицо у нее было заспанное, а сама она – вовсе уж не такая нарядная, какой казалась раньше одинокой девушке за стеной. И еще она заметила ее неприбранные волосы. Губы были накрашены некрасиво и, как видно, наспех, но глаза, ее глаза! Как они были красноречивы!
Девушка смотрела, как та, другая, направляется к лифту, и оглядывала ее с головы до ног… «До чего вульгарна», – думала она с чувством какого-то грустного удовлетворения. И всё же… когда потом она снова стояла у окна, ей показалось, что именно с этой женщиной ей следовало бы побеседовать, а быть может и познакомиться поближе…
Но вот в ее жизнь тоже вошла сказка, о какой она мечтала. Она встретила его, одного-единственного на свете человека.
Иногда по вечерам ей случалось выходить из дому. Это бывало, правда, редко, но всё-таки иногда случалось.
Быть может, в этот вечер она была красивее, чем обычно. Трудно сказать. Она в самом деле была красива и чувствовала это. Вечер принадлежал ей. Существовали ли для нее окружающие? Ощущала ли она связь с людьми? Интересовалась ли их жизненными судьбами?
Да, люди интересовали ее.
Как всегда, проходя по улице, она и в этот вечер заглядывала в окна. В чужих комнатах жили незнакомые люди. Там они любили. Там рождались их дети. Там расхаживала хозяйка дома, прыгал шалун, а старая бабушка вязала чулок. Там царил покой семейного очага, покой настоящего счастья.
Вернувшись домой, она вновь подошла к окну. Казалось, душа ее была переполнена до краев. Там, внизу, на стене дома по-прежнему застыла тень – огромная, угрожающая и невозмутимая, как скала. Ей казалось, что тень этой фигуры, закованной в броню мундира, всё растет и растет, поднимается всё выше и выше… И вдруг она поняла, что под маской холодного достоинства может скрываться живая человеческая душа. Ведь и она все эти годы, скрывала свою душу под такой же маской…
Она стояла у окна, и на нее падал свет. Так случилось впервые. Обычно она гасила лампу, когда подходила к окну. Но сегодня она этого не сделала. Поэтому ее силуэт на фоне окна был хорошо виден с улицы.
А полицейский, стоя на своем углу, думал: «Ты одна из тех чертовски счастливых женщин, что живут полной жизнью и радуются своему существованию. Ты – совсем не то, что я – неподвижная фигура в мундире, статуя на углу улицы. Черт бы побрал тебя и таких, как ты!.. О, ты знаешь, что красива, ты знаешь себе цену! Я видел это, когда ты проходила мимо! Как насмешливо смотришь ты на меня! Ты хорошо знаешь, что я стою здесь, возле фонарного столба, как раз в то время, когда ты возвращаешься домой! Ты хорошо знаешь это, ты это подметила, и ты хочешь помучить меня. Ты дьявол в юбке, ты издеваешься над моим одиночеством. Теперь я вижу тебя. Ты стоишь там и смотришь на этот город. Он – твой, и все приключения в этом городе – твои, и вся жизнь, бьющая ключом, – твоя.
Он с ненавистью смотрел на женщину, которую давно любил. Но он считал, что она презирает его.
И вот случилось то, чего не могла предопределить никакая судьба, то, чему не могла помешать никакая сила.
Виновата во всем была оконная рама, которая уже давно болталась на петлях! Тишину ночи внезапно прорезал резкий крик. Рама сорвалась с петель, и девушка едва успела подхватить ее. Тяжелая рама тянула ее вниз. А там, на улице, она смутно различала тени, какие-то большие, похожие на парящих летучих мышей, тени. Она чувствовала, что вот-вот вывалится из окна. И тогда она закричала. А он – он стоял точно вкопанный. Сначала он вовсе не понимал, что происходит, а потом услышал протяжный крик, похожий на крик одинокой чайки над безлюдным морем. Ему приходилось слышать такие крики раньше, когда он еще ходил в море.
И тогда он побежал наверх…
Дверь была открыта настежь, а она, обессиленная, едва удерживала раму в руках. Он схватил ее в объятия. Оконная рама с треском полетела вниз.
Дрожа как осиновый лист, она прижималась к нему. Они не услышали, с каким звоном ударилась о тротуар оконная рама, не услышали доносившихся с улицы криков. Они не шевелились. Они только держали друг друга в объятиях…
Когда сознание снова вернулось к ней и комната снова стала прежней, ее собственной комнатой, она, сама не понимая, что говорит, сказала, словно обращаясь к старому другу:
– Ты ведь меня совсем не знаешь!
Он шепнул ей на ухо:
– Я знаю тебя много-много лет!..
Он говорил и говорил… Его слова медленно, будто кровь, растекались по жилам, проникали в ее душу, и вот снова долгое объятие. Потом руки его разжались… Усталая и счастливая, точно малый ребенок, который прижимается к своему отцу, она пробормотала:
– А рама?
– Она упала на улицу, – ответил он. – Посмотри, вон она лежит внизу, разбитая вдребезги, сломанная, словно наша прежняя ужасная жизнь. Но она никого не убила. Нам повезло.
Они перегнулись через подоконник и посмотрели вниз. Но мерцающие автомобильные фары уже больше не существовали для них. Город был обычным городом, и, когда они отвернулись от него, оба они очутились в своей собственной комнате, – комнате, принадлежавшей им обоим.
Венера и картофель с селедкой
(Перевод Ф. Золотаревской)
По улице Нёрребругаде в Копенгагене шли трое мужчин. Они были до крайности не похожи друг на друга. Человек, шедший посредине, нес под мышкой мольберт. Это был маленький, коренастый крепыш с непомерно широкими плечами, длинными руками и крупным носом. Слева от него шел некий худосочный отпрыск интеллигентного семейства, всем своим обликом напоминавший изнеженное оранжерейное растение. Третий был чуть полноватым, рослым мужчиной в нечищеных ботинках и свисающих гармоникой брюках. Он был писатель.
– Нет, теперь с этим покончено, – сказал Кай, потрясая мольбертом. – Лучше быть добросовестным литографом, чем исписавшимся художником.
Стиг замахал длинными, тонкими руками.
– Чепуха! – закричал он так громко, что на него стали оглядываться прохожие. – Это критики исписались, а не ты. Они слишком долго пробавлялись старыми картинами. В искусстве царит косность, и мы, к сожалению, не скоро еще ее преодолеем!
Стиг говорил тоном маститого знатока живописи. Но тем не менее факт оставался фактом: картины Кая опять не были приняты на выставку. В последние годы их вежливо, но решительно отклоняли.
Сигурд молчал, хотя понимал, какую боль испытывает идущий рядом с ним человек. Он хорошо знал своего друга. Кай был не из тех, кто мог заняться каким-нибудь другим делом и начать жизнь заново. Он принадлежал к числу тех людей, которые скорее предпочтут без громких слов прервать неудавшуюся жизнь, чем постоянно терзаться воспоминаниями о своих былых успехах.
Они свернули в боковую улочку, на которой находилось маленькое кафе. Его посещали главным образом грузчики и шофёры. В витрине на блюде красовалась жареная сельдь. Вокруг нее с жужжанием носились мухи.
Кай заказал хлеб с сыром и селедку с молодым картофелем. Они уселись за шаткий столик и застыли в задумчивом молчании: Сигурд никогда не отличался особой разговорчивостью, а Стиг не мог подыскать тему для беседы. Кай сидел с видом человека, решившегося на что-то страшное. Он был пугающе спокоен.
Кафе было пусто, только за соседним столиком сидело несколько молодых женщин. Они были, как видно, из тех, кого мужчины обычно пренебрежительно называют «девочки». Перед ними стояли пустые чашки из-под кофе. Одна из женщин скручивала сигарету из окурков, найденных в пепельнице. Рядом с нею сидела девушка лет семнадцати. На первый взгляд она не казалась красавицей, но, когда в нее вглядывались повнимательней, в ее облике обнаруживалось нечто волнующее и неуловимо привлекательное. Она сидела неподвижно, а затем слегка шевельнулась, и друзьям почудилось, будто от нее к их столику пробежала электрическая искра. Она переводила свой спокойный взор с одного на другого: с Сигурда на Стига, со Стига на Кая. Наконец глаза ее остановились на Кае. Взгляд ее не был вызывающим, его скорее можно было назвать испытующим, критическим, требовательным.





