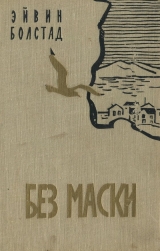
Текст книги "Без маски"
Автор книги: Эйвин Болстад
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц)
Она поняла, что должна уехать отсюда во что бы то ни стало. А если уж она принимала какое-нибудь решение, то никто не в силах был ее отговорить. Мать вспоминала свою собственную молодость и молчала. Отец недели две поворчал, а затем принялся мастерить дочери дорожный сундучок, красивее которого никто не видывал в этих краях. Закончив работу, отец разрисовал сундучок розами так, как только он один умел это делать. Некий путешественник, по имени Педер Асбьёрнсен[15], знаток рыбной ловли и любитель народных сказок, непременно хотел купить этот сундучок. Но не тут-то было! Он ему, конечно, не достался. Взамен мать стала потчевать гостя норвежскими сказками и преданиями. Уж этим-то она ему, верно, угодила! Ведь он, этот Педер Асбьёрнсен, был просто помешан на всем норвежском и был даже настолько глуп, что называл себя Петер[16]. А это уж и вовсе не христианское имя, как говорил их пастор. Пастор у них был человек знающий: он не раз ездил в Копенгаген и запросто рассказывал о площади Ратуши, Амалиенборге[17] и о премьере королевского балета, хотя на последней-то уж он наверняка никогда не бывал.
«Плоха та птица, что всё время сидит в своем гнезде», – говорил Педер, знаток рыбной ловли и любитель норвежских сказок.
С пастором Анна была не так уж хорошо знакома, но и то немногое, что она о нем знала, пригодилось ей в городе. Оказалось, что в семействе Лёвендалов царили такие же порядки и рассказывались такие же истории, только на другой лад. Анна скоро поняла, что здесь, в доме Лёвендалов, ее тоже не ждет ничего хорошего, но выбирать в городе было особенно не из чего, если только девушка не хотела попасть на улицу, как тысячи других. Один из видных городских коммерсантов так прямо и сказал девушке продавщице, просившей о небольшой прибавке к жалованью: «Если тебе недостает жалованья у меня в магазине, то ты можешь найти другой выход из положения…»
Анна всё это знала. И молчала. Смех давно уже замер на ее губах. Две кроны в месяц да поношенное платье были ее жалованьем. А тут еще отец в письме просил купить ему бруски для кос. С четырех часов пополудни и до самого вечера время у нее было свободно. Разумеется, за исключением тех дней, когда давались званые обеды, которые были необходимы Лёвендалу для успешного ведения его дел и на которые он охощо тратился. Тогда уж Анна бывала занята круглые сутки, вплоть до следующего вечера. Госпожа слабым голосом уговаривала ее ложиться спать, но Анне приходилось браться за щетки, тряпку и ведро с водой, а в это время из верхних комнат слышались крики Лёвендала: он требовал пива и камфарных капель. После таких обедов хозяин не выходил из уборной, и стоны его, раздававшиеся во всем доме, можно было бы сравнить разве что с хором иерусалимских плакальщиков. Анна, словно кролик, шмыгала взад и вперед по дому с тряпкой и шваброй, убирала блевотину с пола и постелей, очищала от грязи стены. И в благодарность за это ее осыпали градом ругательств, придуманных специально для прислуги целыми поколениями господ.
Могут подумать, что всё это лишало мужества смышленую девушку, когда-то весело отплясывавшую по субботам у деревенской околицы. Возможно, так оно и было, – никто не знал, о чем Анна думала. Но домой она ничего не писала о своих невзгодах. Напротив, просиживая долгими ночами за письмами и исписывая целые горы бумаги, она сообщала родителям, как хорошо ей здесь живется: ей уже два раза прибавляли жалованье, и пусть отец даже не думает возвращать ей деньги за бруски для кос (Анна умолчала о том, что истратила на них все свои сбережения). А когда она приедет домой, то уж не забудет маму, потому что мама… Но тут Анна вспомнила, что хотя мать ее и была лучше всех, но отец тоже был славным человеком, и ей не хотелось его обижать. К тому же он сделал дочери красивый сундучок, за который богач Эйлерт Сюнн предлагал Анне кучу денег.
Анна хорошо знала, что отец и мать живут этими письмами.
Незадолго перед отъездом Анны из дому мать сама рассказала дочери, как однажды, много лет назад, когда в доме нечего было есть и у нее от голода уже начало мутиться в голове, ей пришлось пойти…
«И эти деньги спасли мне жизнь, – рассказывала мать. – Но если бы ты знала, как я потом боялась, потому что (тут мать понизила голос) есть такие французские болезни… их уж потом ни за какие деньги не вылечишь…»
Подруги не раз приглашали Анну погулять в город, Анна была здоровая, крепкая и стройная, как весенняя березка. Конечно, ей часто хотелось пойти. Но у нее была рассудительная голова и одно очень ценное качество: она умела мгновенно взвесить все «за» и «против». До сих пор она была «против». Щёки ее потеряли былую округлость, но зато талия стала более стройной, а походка более легкой.
«Она не в состоянии спрятать свои прелести за броней неприступности», – сказал один художник после нескольких бутылок вина. Это было незадолго до того как хозяин отказал этому художнику от дома за его «бунтарские идеи», а сам стал покупать его картины через третьи руки.
Приближалось рождество, однако у Анны не было ни малейшей надежды доехать на праздник домой, в Удален…
И вот случилось так, что один из весьма влиятельных коммерческих собратов старого Лёвендала по совершенно непонятной причине пригласил всё семейство праздновать рождество у него в доме. О том, что коммерсант этот обанкротился и задумал женить своего сына на второй дочери Лёвендала, стало известно только позднее.
Лёвендал сразу же ухватился за это приглашение обеими руками. Это почти обеспечивало ему доступ на придворный бал, о котором жена его давно мечтала. В порыве великодушия хозяин разрешил Анне ехать на рождество домой и даже снабдил ее деньгами на дорогу. Такое великодушие было тем более похвально, что как раз в это самое время в доме пропала серебряная чайная ложечка, отыскавшаяся лишь через несколько дней. Разрешение хозяина ошеломило Анну. Хотя жилось ей всё хуже, но она писала домой всё больше и больше писем, и в них самыми яркими красками описывала свою жизнь в городе. Она любила яркие краски так же, как ее отец. Ведь он был художником.
И вот она стоит на улице. В руках у нее деревянный сундучок. Она уговорилась ехать домой в санях одного зажиточного крестьянина, которого случайно встретила в городе. Он приезжал сюда на месяц, чтобы вкусить «прелестей жизни». Анна полагала, что ей удастся держать его в пути на расстоянии, а если он начнет приставать к ней, она пустит в ход ногти. Ведь он совсем ослабел от пьянства…
Но еще одна вещь смущала ее: письма к матери!
Правда, она потратила немало часов, чтобы принарядить себя в дорогу. Но… где всё то, что она обещала привезти домой? Подарки! По крайней мере, хороший подарок для матери. В те немногие ночи, когда Анна была свободна от хлопот и ей удавалось лечь в постель, она непрестанно думала о том, как найти выход. От дум у нее кружилась голова. Она не могла приехать домой без осязаемого, видимого доказательства того, что письма ее были правдивыми. Дело тут не в правде, плевать ей на это! Но она не сможет перенести молчаливого, понимающего взгляда матери, которая сразу догадается, как всё обстоит на самом деле. Никакие ласковые уговоры, никакие знаки внимания, никакие слова не смогут залечить рану. А что если бы этот деревенский богатей захотел?.. Если… ох, нет, нет! Только не этот последний выход. Старый извечный выход для всех бедных девушек.
Она шла по городу, неся в руках свой маленький сундучок. Улицы были полны лёвендалов, парами и в одиночку ехавших в санях, нагруженных пакетами. Многие везли с собой на облучке грума, у которого только и было дела, что соскочить у подъезда и открыть дверь, хотя часто ее можно было просто-напросто толкнуть ногой. Витрины были полны рождественских подарков. Анне хотелось рассмотреть их все до единого. И она стала мечтать. Вот этот? Нет, лучше вон тот. А этот как раз подойдет для матери. Нет, нет, вот тут гораздо лучше! И вон там тоже, и там, и там!.. Анна протиснулась вперед. Теперь она была как во сне. Всё окружающее исчезло. Она снова чувствовала себя во власти экстаза, который зародился в ней еще тогда, когда она начала писать матери первые фантастические письма. Она, как и тогда, вовсе не думала о себе. О нет! Только одна мысль зрела в ней постепенно, но с непреодолимой силой: уберечь от горя мать, сделать всё для того, чтобы матери не пришлось смотреть на нее понимающим, печальным взглядом.
Ах, если бы она могла заставить себя пойти на улицу!.. Но это было бы окончательным падением, гибелью…
Казалось, что-то толкнуло ее и вовлекло в магазин. Во всяком случае, это получилось само собой. И вот она, уже ничего не соображая, вошла туда напряженной, деревянной походкой, с глазами, полными отчаяния… В магазине все сразу же обратили на нее внимание. И директор, и его помощник, и продавщицы – все не спускали с нее глаз. О, им знаком этот тип людей! И действительно. Стоя на виду у всех, Анна не отрываясь глядела на одну из шалей, разложенных на прилавке. Шаль эта была далеко не самой красивой. И даже не самой дорогой. Но она сверкала всеми цветами радуги, и для Анны, которая унаследовала от отца любовь к ярким краскам, эта шаль засияла словно солнце во мраке. Девушка сунула ее в свой сундучок, не делая ни малейшей попытки как-нибудь скрыть свой поступок…
Через полчаса здоровенный, изрядно подвыпивший полицейский вывел Анну из магазина. Камера, в которую она попала, была холодной и сырой. Скотину и ту у них в деревне держат в лучшем помещении. Еще бы! Ведь крестьяне поставляют молоко в город для лёвендалов, которые требуют, чтобы за коровами был хороший уход, потому что их дети будут пить молоко от этих коров!
Анна сидела на своем сундучке. Так всё это и должно было кончиться. Теперь мать узнает не только о ее бедности; теперь ее дочь, вдобавок ко всему, попала в тюрьму. Машина правосудия движется пока еще очень медленно. Никому не хочется заниматься неприятными делами в канун Нового года. Нас учили с детства, что в чудесное время рождества все должны быть добры друг к другу. Будем же добры и к мальчику из булочной, и к мальчику из цветочного магазина, и к старому Тобиасу, от которого несет навозом, потому что он дни и ночи проводит в конюшне. Пусть старый Тобиас тоже получит скиллинг и повеселится. Позаботимся о том, чтобы были полны наши кладовые! Будем же добры! Не надо злиться и ворчать. Откроем наши сердца. Будем хоть немного людьми!
Но вор не имеет права на сочувствие. Это было бы непедагогично. И особенно в солидном магазине! Какой вдохновляющий пример для всех других! Не говоря уже о «персонале». А что если все они, вместо того чтобы заниматься первоклассным обслуживанием, сами начнут «заимствовать» вещи, в надежде на сочувствие? Нет, нет и нет!
Для Анны остается только один путь, когда ее выпустят отсюда. Туда, на дно фьорда, где никто уже не сможет ее отыскать. Это решено!..
Улицы были пусты. Из плотно закрытых окон просачивались звуки веселых рождественских песен. Голоса были то звонкие, то хриплые. Слышался радостный смех…
Гадюка жалит самое себя
(Перевод Л. Брауде)
Это случилось пять дней спустя после взрыва, уничтожившего половину оконных стекол в городе, и приблизительно за месяц до грозного воздушного налета. Быстро обогнув большое здание в центре города, коммерсант Хурдевик очутился в рабочем квартале, где как раз закрывали деревянными ставнями витрины магазинов.
Коммерсант Хурдевик (хотя это и трудно представить) был в это утро более раздражен, чем обычно. В сущности, он был всего-навсего комиссионером, но называл себя теперь коммерсантом. Ведь его дело так разрослось за последние годы! Да и людей, которые столь сурово осуждали бы военные прибыли, как Хурдевик, было совсем немного. Мир, в котором приходилось жить, внушал отвращение. Падение нравов коснулось многих слоев населения. Так, по крайней мере, казалось коммерсанту Хурдевику, а он не стеснялся говорить об этом и другу и недругу. Коммерсант Хурдевик не шел на компромисс ни с кем, абсолютно ни с кем.
Но наиболее чувствителен он бывал по утрам. Сильнее всего это проявлялось тогда, когда ему нездоровилось и не на ком было сорвать свою злость. У него была не в порядке печень. Жена Хурдевика, зная об этом, смертельно боялась приступов его болезни. А в это утро печень особенно давала себя знать. Коммерсант Хурдевик внезапно споткнулся о вылетевшие оконные рамы. Он перешагнул через них и снова устремился вперед. Вдруг он приосанился. Густые брови его сдвинулись, а губы сжались. Навстречу Хурдевику шел комиссионер Лассен. В отличие от Хурдевика он по-прежнему оставался всего-навсего комиссионером и у него был довольно потрепанный вид.
Комиссионер Лассен хотел было приветливо пожелать доброго утра человеку, с которым время от времени его связывали деловые отношения, но улыбка на его лице быстро сменилась гримасой удивления. Коммерсант Хурдевик с быстротой молнии промчался мимо него. Он смерил комиссионера Лассена взглядом, выражавшим всё то ледяное презрение, какое только в состоянии был вложить в свой взор такой самоуверенный человек, как Хурдевик. Коммерсант Хурдевик с полным удовлетворением констатировал, что комиссионер Лассен буквально отпрянул назад и застыл на месте, слегка приподняв шляпу. На тротуаре как раз толпилось множество людей, обративших внимание на эту сцену. Некоторые даже обернулись и внимательно посмотрели на Лассена. Багрово-красный и глубоко взволнованный, он сделал несколько неуверенных шагов вперед, а коммерсант Хурдевик с видом победителя прошествовал дальше. Он чувствовал себя так, словно, презрев опасность, оказал посильную помощь фронту.
Комиссионеру же Лассену казалось, что весь город стал свидетелем его позора. У него день тоже начался неважно. Но не потому, что ему досаждала печень или какие-нибудь другие болезни. Слава богу, он здоров как бык. Но дома у них вышел весь хлеб, а кошелек его был довольно тощим. Лассен не в состоянии был купить на черном рынке бутылку водки и выменять ее на хлеб и муку. К тому же маленький Алф заболел бронхитом. В общем, одно к одному! А тут еще эта история с Хурдевиком! Что он мог ему сделать или, вернее, что он сделал ему такого обидного, что Хурдевик не пожелал поздороваться? Но нет дыма без огня, и, видно, какие-то слухи навлекли беду на голову Лассена. Какие именно?.. А быть может, его приняли за кого-то другого? Чья-то месть? Нет, ни то, ни другое, ни третье. Комиссионер Лассен жил слишком замкнуто в кругу своей маленькой семьи. Правда, он занимался иногда перепиской бумаг, но знали об этом совсем немногие, да и не было в этой работе ничего предосудительного.
Лассен пустился вдогонку за Хурдевиком, обогнал его и, обернувшись к нему, спросил:
– Скажите, Хурдевик, почему вы не пожелали поздороваться со мной?
Хурдевик удивленно взглянул на него. Он не ожидал такого нападения. Но он выпрямился и твердо ответил:
– Я не здороваюсь с такими, как вы. Причина, как я полагаю, вам известна. У меня нет ничего общего с теми, кто открыто появляется в ресторанах вместе с подозрительными личностями, как это делаете вы. Надеюсь, вы понимаете меня?
Хурдевик хотел продолжать свой путь, но комиссионер Лассен настаивал:
– Скажите, на что вы намекаете?
Коммерсант Хурдевик выпрямился и принял величественный вид. Рядом с маленьким Лассеном крупная фигура Хурдевика – чемпиона-лыжника – казалась огромной. Стоило ему дунуть, и Лассен слетел бы с тротуара. Но Хурдевик лишь слегка наклонился и в обычном своем вежливо-ироническом тоне сказал:
– Не будете ли вы столь любезны пропустить меня, господин Лассен?
Хурдевик двинулся дальше, и Лассену против воли пришлось посторониться.
Он стоял и смотрел вслед могучей фигуре удалявшегося коммерсанта, облачённого в отлично сшитое, новое, как с иголочки, черное пальто.
Лассен плотнее зажал под мышкой пустой портфель и поспешно засеменил домой. Ему казалось, будто все люди в городе сразу стали смотреть на него другими глазами. Правда, он всё снова и снова уговаривал самого себя, что все его знакомые – люди достойные, что никакая сплетня не в состоянии затронуть его доброе имя, повредить ему, причинить ему зло, что… Бесполезные утешения, он тихо выругался. Дело было совсем не в этом. Но если теперь ему придется испытующе вглядываться в глаза других людей или увидеть хоть тень сомнения на чьем-нибудь лице… О, ему-то известно, чем грозит подобная история и как она может превратить жизнь в сущий ад. Ведь он видел, как Холма уволили из-за какой-то болтливой конторщицы. А разве не ясно, как день: Асбьёрн стал человеконенавистником из-за постоянных опасений, что люди не доверяют ему…
Лаура сразу же заметила по лицу Лассена: что-то стряслось. Она заставила его рассказать всю историю. Выслушав ее, Лаура коротко сказала:
– Сплетню надо немедленно пресечь, дай-ка я подумаю… – Потом быстро добавила: – Кристен Пойс… иди к нему…
Через полчаса он уже взбирался по крутой лестнице и стучал в ветхую кухонную дверь.
– Кто там? – спросил голос за дверью.
– Это – я… Лассен, – ответил комиссионер, задумчиво поглаживая обросшие щетиной щёки. Кто его знает, сколько понадобится времени, чтобы от слов Кристена Пойса рассеялся страх Лассена.
– А, это ты, дохлая креветка, – сказал Пойс на своем певучем северном диалекте. – Заходи; а я было подумал, что это… гм… Ну, заходи и выпей-ка чашечку настоящего черного кофе, да съешь ломоть хлеба с ржавой селедкой. Масла мы давно не видим.
Пока длился монолог, комиссионер Лассен успел войти в комнату.
– Какие новости? – спросил Пойс из кухни, где он возился с кофейником, чашками и ложками.
– Никаких, – ответил Лассен, – кроме тех, что хлебница пуста, а все старые возможности раздобыть хлеб кончились.
Пойс протяжно свистнул, вытащил свой бумажник, протянул Лассену крупную кредитку и быстро сказал:
– Нет… не отказывайся, возьми, мне прислали немного денег с севера. Всё в порядке.
Пойс стоял и смотрел на Лассена. Что-то с ним неладно!
– Хе, ты ведь знаешь, человеку, которого только что выпустили из тюрьмы, живется не очень-то богато. Но жена сходила на почту за посылкой, а на пристани для меня приготовлен целый ящик малосольной трески. Такому прожоре, как ты, малосольная треска придется по вкусу, верно? Ты ведь кожа да кости. А тебе надо набить чем-нибудь брюхо, чтобы достало сил прокормить ребят да старуху, верно?
Лассен сердито развел руками и хотел что-то сказать, но Пойс перебил его:
– Кстати, ты что, собственно, хотел мне рассказать?
Лассена не надо было переспрашивать дважды. Залпом выпалил он всю историю с Хурдевиком. А напоследок сказал:
– Понимаешь, Кристен, если я не заткну Хурдевику рот, то через несколько дней жизнь моя станет адом. Ты знаешь этого типа: ему непременно нужно рассказывать, ему непременно нужно о чем-нибудь говорить, он любит быть в центре внимания. Ты должен мне помочь. Ты сидел в тюрьме и…
– …И, как пить дать, снова угожу туда, – подхватил Пойс. – За мной, черт возьми, идет слежка. Теперь им уже известно, что ты побывал у меня. Я не имею права объяснить тебе суть дела, но через несколько дней мы с женой исчезнем, а тебе лучше всего поменять шрифт твоей машинки, и чем скорее, тем лучше. Если ты продолжаешь писать… гм… Итак…
Комиссионер Лассен сказал:
– Я не придаю значения всем этим пустякам, черт с ними, но если ты уедешь, то мне ведь не удастся заставить замолчать Хурдевика. Мне кажется, что ты – вне всяких подозрений.
Пойс свистнул, как всегда, когда ему приходила в голову какая-нибудь неожиданная мысль. Потом он решительно сказал:
– Хорошо; если ты так болезненно к этому относишься, я готов сопровождать тебя. Мы отправимся к нему и заставим его сказать, откуда идут эти слухи. Идем!..
Пойс надел синюю рабочую куртку прямо через голову, не расстегивая. Столяра-модельщика Пойса хорошо знали в городе. Он был одним из лучших шахматистов страны, дирижировал хором и был, что называется, мастер на все руки.
Пойс и Лассен быстро шли по улице. Вскоре они уже входили в казавшуюся заброшенной контору Хурдевика, где, как видно, были приостановлены все дела. На самом же деле биржевые спекуляции коммерсанта еще до войны, в период гонки вооружений, приносили в эту контору баснословные прибыли. Не бросил он своих спекуляций и сейчас, хотя, будучи любителем красивых фраз, говорил: «Если нам удастся сохранить то, чем мы владели до девятого апреля, я буду очень рад, а понятие о справедливости сильно возрастет в моих глазах. В противном случае справедливости не существует вообще». Видно, коммерсант Хурдевик был честнейшим в мире человеком.
Однако при виде Кристена Пойса кровь прилила у него к щекам. Он быстро взглянул на расстроенное лицо Лассена. Пойс положил шляпу на письменный стол и прямо приступил к делу:
– Я хочу знать, откуда у вас эти сведения о Лассене, Хурдевик. Я говорю совершенно серьезно. Мы были добрыми друзьями в туристском комитете и в обществе «Охрана лесов», но…
Коммерсант Хурдевик выпрямился:
– Вы что, хотите принудить меня выдать уважаемого и почтенного человека?..
– Вовсе мы этого не хотим, – холодно прервал его Пойс. – Но мы хотим знать источники вашей информации. Только этого мы и хотим.
Хурдевик поперхнулся. Лоб его покрылся испариной, и он неохотно сказал:
– Хорошо; следовательно, я должен выдать своего друга, но… да, так вот. Говорят, что тебя, Лассен, видели в ресторане в обществе гестаповцев. Я не знал, Пойс, что вы – добрый друг Лассена…
– Источники, источники! – нетерпеливо прервал его Пойс. – Нас интересуют только источники, а свои извинения вы сможете принести потом. Итак?
Пойс быстро взглянул на Лассена, и тот с ужасом увидел: во взгляде друга появилось что-то новое. Лассен облизал сухие губы кончиком языка.
То, что простой модельщик осмеливается так разговаривать с ним, было для коммерсанта Хурдевика настоящим унижением. Правда, они были друзьями по спорту и по разным комитетским делам. Но между такого рода дружбой и дружбой в частной жизни с равными людьми существовала огромная разница. Хурдевик разозлился, но заставил себя улыбнуться и ответил:
– Вам следует расспросить обо всем Юнсена, Пойс. Я полагаю, вам известно, что этот человек никогда не станет болтать зря.
И, обратившись к Лассену, добавил:
– Ты понимаешь, Лассен, в такое время самое главное – держаться правильной линии. Ты мне нравился всегда, но… да, итак, прошу прощения.
– Я понимаю, – любезно ответил Лассен.
Но он весь кипел.
Лассен и Пойс пошли дальше, не разговаривая друг с другом. У Пойса был совершенно отсутствующий вид. Теперь ему самому важно было доискаться истины. Лассен уныло плелся позади. Он весь дрожал. Только теперь комиссионер окончательно понял, как может обернуться для него вся эта история в будущем. Ни в коем случае не следует допустить, чтобы через несколько лет о нем спрашивали: «Это не тот, который, по слухам, был связан с гестапо?». Лассен застонал. Пойс быстро взглянул на него. В его глазах появилось ледяное выражение, которое в эти годы встречалось довольно часто в глазах честных людей. Но была в них и неуверенность. Лассен заметил это.
Юнсен вынул трубку изо рта и сухо сказал:
– Нет, на такие вопросы я не отвечаю.
Пойс сказал:
– Но теперь дело касается и меня, а также того, чем мне приходится заниматься. Для нас это очень важно, и мы хотим узнать ваши источники. Это уже не безобидное дело, затрагивающее отдельное лицо, некоего господина Лассена, с которым, должно быть, знакомы вы или Хурдевик. Вам понятно?
Юнсен поднялся со стула. Ему стоило большого труда сохранить достоинство, и он процедил сквозь плотно сжатые губы:
– Черт возьми, Пойс, я не могу припомнить… Да, да, верно – что-то в этом роде я говорил Хурдевику. Меня ведь самого предостерегали, но я считал это чистой сплетней. И не стоит обращать на это внимание, Лассен…
Пойс прервал его:
– Вам придется всё-таки припомнить, Юнсен!
Тут Юнсен разозлился. Что он воображает о себе, этот модельщик, как смеет он являться к нему и допрашивать честного коммерсанта в его собственной конторе? Он покажет ему… Но тут Юнсен прервал свои размышления. Во взгляде Пойса он прочитал нечто, заставившее его понять: дело здесь весьма серьезное. Да вдобавок у этого парня, Пойса, был такой вид, словно он знал: за ним стоит сила. Юнсен откашлялся, вынул трубку изо рта, положил ее на письменный стол и, помолчав, произнес:
– Это Крам рассказал мне, что Лассен ходит по ресторанам с весьма сомнительными людьми.
– Он называл гестапо? – спросил Пойс.
– Я не знаю точно. Послушай-ка, Лассен, я никогда ни единой минуты не думал о тебе, что ты…
– До свидания, Юнсен, – прервал его Пойс и направился к двери.
Оба они ушли, а Юнсен остался на месте, покусывая трубку. Его, Юнсена, унизили в собственной конторе, его… Чертов Хурдевик, этот… Он схватил телефонную трубку…
В конторе Крама царило оживление: у телефонных аппаратов сидело множество молодых дам, ящики на полу стояли открытые, а хлопья мелкой древесной стружки летали в воздухе. Там толпились мужчины в плащах и мальчики рассыльные с квитанционными книжками в руках. Крам без пиджака стоял посреди комнаты.
– Ужасное время, – сказал он, предостерегающе подняв руку, но вдруг смолк, словно вспомнив о том, что позволил заглянуть посетителям в святая святых своей души. Деловое выражение мало-помалу покидало его улыбающуюся физиономию. И он гневно воскликнул:
– Это вам сказал Юнсен?
Он обернулся к Лассену:
– Дорогой Лассен, я никогда ни одной минуты не сомневался, что у тебя всё в порядке! – Его слова дышали теплом и доверием, но Пойс лаконично спросил:
– Кто рассказал вам об этом и что именно?..
Крам повернулся к письменному столу, переставил какую-то безделушку, а потом проницательно взглянул на Пойса. Тот сделал шаг вперед. Никто не проронил ни слова.
– Я и в самом деле не припомню, – ответил Крам, потирая лысину… – В самом деле не помню.
– Вам придется припомнить, – сказал Пойс, не сводя с него глаз.
Искоса взглянув на Лассена, Крам сказал:
– Это был Бархейм. Он говорил, что за ресторанным столиком ты заключаешь грязные, ну, если не грязные, то сомнительные сделки с подозрительными личностями.
– Какие сделки? – коротко спросил Пойс.
– Этого я не припомню, я не придал особого значения словам Бархейма…
– Он называл гестапо?
– Нет, – решительно возразил Крам, – слава богу, этого он не говорил, нет. Сохрани боже, чтобы я так понял. Чего только не наговорят эти мерзавцы!
– Благодарю вас, Крам.
– Вообще-то вы правы, Пойс! У людей очень длинные языки. И, может, самые длинные у тех, о ком обычно все хорошего мнения.
Лассен со странным чувством грусти заметил, что Пойс только теперь с облегчением вздохнул. Даже и он в какой-то миг усомнился в нем… Лассена била дрожь, когда он семенил вслед за Пойсом. Как было бы хорошо, если бы этой истории не было вообще…
Целый час просидели они в конторе Бархейма, пока конторщицы, обзвонив все рестораны, нашли хозяина в клубе. Он пришел, сдержанно поздоровался и сказал:
– Стало быть, у вас важное дело, раз вы послали за мной?
Пойс представился, отрекомендовал Лассена, а затем рассказал, зачем они пришли. Бархейм сидел, удобно откинувшись на спинку стула. Выражение лица Бархейма, как и его предшественников, постепенно менялось: смущение сменилось возмущением и, наконец, откровенным негодованием. Не хватало еще, чтобы люди связывали его имя, имя человека безукоризненно честного, с грязными сплетнями. И вдобавок еще он должен выдать друга… Нет, черт побери! Он злобно посмотрел на Пойса, но быстро опомнился и вежливо сказал:
– У меня нет никаких оснований в чем-либо подозревать вас, господин Лассен. По-моему, не стоит ворошить это дело. Это может его только ухудшить.
– О, теперь мы уже почти добрались до сути, – сухо сказал Пойс.
Бархейм выпрямился. Он переводил свой властный взгляд с одного на другого, как бы раздумывая, и в конце концов весьма неохотно сказал:
– Хорошо, если вам непременно надо узнать правду, то пожалуйста. Хойбакк сказал, что видел вас, господин Лассен (да, я ведь знаю, кто вы такой) в компании с некоей личностью, которая несомненно является сомнительной.
– А Хурдевик тоже говорил об этом? – спросил Пойс.
– Хурдевик? Я с ним незнаком, знаю его только по виду. Но вам, господин Лассен, я хочу сказать, что у вас, вероятно, будет много хлопот, если вы примете слишком близко к сердцу эти пересуды, эту проклятую болтовню, бабьи сплетни…
– Вы правы, Бархейм, – вставил Пойс, – такими бабьими сплетнями занимаются только бабы. Вот так-то, до свидания, тысяча благодарностей.
Бархейм стоял как вкопанный, глядя на дверь. На что он, черт побери, намекал, этот модельщик?
Хойбакк сидел, осторожно разглаживая табачный лист, и тихо ругался. Он покосился на вошедших и собрался заговорить, но Пойс опередил его. Хойбакк удивленно выслушал Пойса, повернулся к Лассену и просто сказал:
– Да, меня предупреждали, что вы ходите с этим миллионером военного времени. Ну, такой – гладко прилизанный! По словам людей, он в высшей степени сомнительная личность. А я собственными глазами видел вас с ним вдвоем в ресторане. Да, я видел вас, черт побери! Мне лично не хотелось бы сидеть за одним столом с таким человеком. Так что от правды не уйдешь, господин Лассен.
Пойс шумно вздохнул. Лассену показалось, что лопнул воздушный шар.
– Как звали этого типа, с которым вы видели Лассена? – спросил он.
– Коммерсант Хурдевик – чрезвычайно скользкий тип, один из опаснейших. По словам людей, он, как видно, спекулирует на бирже. И еще он скупает за бесценок картины, принадлежащие арестованным.
Пойс внезапно повернулся к Лассену и устало сказал:
– Ну вот и всё. Здесь уж Хурдевику придется всё взять на себя.
Ни тот, ни другой даже не улыбнулись. И неизвестно, улыбнулся ли коммерсант Хурдевик, услыхав весь этот рассказ. Но самым важным для всей этой истории были слова Пойса, сказанные на прощание Лассену:
– Знаешь, такие люди – это страшная сила. И она заставляет страдать тысячи маленьких невинных Лассенов. Но мы зажмем эту силу в тиски. Мы будем бороться с ней!
В полночь является привидение
(Перевод Ф. Золотаревской)
Все в округе единодушно утверждали, что Пер Гранбаккен – парень хоть куда! И тем более было обидно, что ему пришлось лишиться отцовской усадьбы. А всё вышло из-за того, что дядюшка Пера слишком уж надежно упрятал завещание и его никак не могли отыскать. Правда, документы были зарегистрированы, но записи в протоколах не сохранилось. Были и другие неувязки, которые еще больше запутывали дело.
И вот усадьба Гранбаккен пошла с молотка. Трое братьев, живущих в Америке, получили свою долю норвежскими кронами, которые были им вовсе ни к чему, а усадьба досталась некоему оригиналу из Осло.





