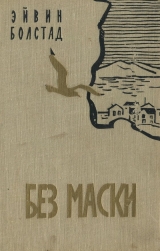
Текст книги "Без маски"
Автор книги: Эйвин Болстад
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)
Она спокойно сказала:
– Когда я ходила к колодцу Биспебрённен, чтобы принести воды для поливки гороха, я встретила старшего лекаря Даниельсена. Он считает, что разумнее всего забрать детей с собой, если только я буду держать их всё время в каюте, пока мы не прибудем на место.
– А, так ты хочешь, чтобы весь город совал нос в наши домашние дела? – зарычал Вейдеман, захватив такую большую понюшку табаку, что остатки просыпались на его сапоги. Он был страстным любителем нюхательного табаку.
– Не весь город, а только умные люди. – Сара выпрямилась.
– Неделю на размышление! – заявил Вейдеман, хлопнув крышкой табакерки. – Неделю! Поняла? А теперь – вон! Вон! Ступай с глаз долой! Иди к себе наверх! Чтобы глаза мои не видели тебя до самого обеда!
Однако Сара и не подумала опрометью выскочить из комнаты, как делали обычно другие слуги Вейдемана, когда хозяин бывал не в духе. Она стояла, перебирая черные ленты, а потом тихо и настойчиво сказала:
– Как бы господин Вейдеман не раскаялся в своих словах и не просчитался, не ставя ни во что мнение горожан! У нас в городе проще простого стать козлом отпущения. Уж что-что, а это-то мне хорошо известно!
Вымолвив эти слова, Сара, словно настоящая дама, выплыла из комнаты.
Молва о дерзости Сары облетела весь город в тот час, когда почтенные хозяйки распивали кофе, и стала буквально притчей во языцех. Слава богу, что речам этой девчонки, этой ничтожной служанки, не нужно придавать значения. Но дело кончилось тем, что все эти мадамы и фру, откушав кофе с сахаром (сахар свешивался на веревочке с потолка, и они энергично его сосали по очереди), подобрали свои юбки и бросились домой. Им не терпелось излить раздражение на своих кормилиц, которые обычно на рождество бывали для них самыми надежными помощницами. Кормилицы присматривали за детьми и были всему дому голова, когда гости напивались и приходилось укладывать их в постель. Кормилицы же улаживали вспыхивавшие в доме незлобивые свары и любовные ссоры, грозившие большими неприятностями. Раздосадованные мыслью о возможности потерять своих незаменимых во время рождественской суеты помощниц, все эти мадамы и фру стали страшно придирчивы.
Ну и досталось же им потом!
Во время наступивших затем раздоров забылись даже старые семейные распри. Небывалое событие, если не считать 1814 года[38]. А то, что ненависть этих семейств друг к другу еще сильнее вспыхнула после окончания истории с кормилицами, уже совсем другая история.
Старший лекарь Даниельсен из городской больницы, получивший всемирную известность за свои фундаментальные труды о проказе, был заядлым ненавистником рождественских пирушек. И он как раз целиком и полностью поддерживал Сару. Климат Йольстера был гораздо здоровее сырого бергенского. А кроме того, любой корабль мог завезти в Берген холеру.
Люди останавливались на улицах, чтобы посудачить. Даже самый серьезный коммерческий разговор они ухитрялись сдобрить разнообразными и яркими новостями на извечную тему о кормилицах. Все только и говорили о них…
Но скажем сразу же: чувствам достойных и уважаемых бергенских кормилиц, которые привезли в город обломки традиций старого норвежского матриархата, был нанесен почти смертельный удар, – удар по тем самым чувствам, которые давали им силы обречь себя на добровольное изгнание из дому. Правда, у всех, кроме Сары, дела обстояли вполне благополучно. Им не угрожал никакой поверенный, и никакие вести из родных мест не лишали их сна. Но они хорошо понимали Сару. Да к тому же, ведь речь шла и об их собственном достоинстве.
Каждый день всё больше и больше кормилиц, как бы случайно, встречалось в центре города, на площади Торгалменнинген. И говорили они только о Саре. Она получила от своих хозяев уже новое, еще более строгое предупреждение. Времени оставалось совсем мало. Что-то надо было предпринимать, и как можно скорее!
И вот в городе с ясного неба вдруг грянул гром.
В этот день на бирже[39] в Брюггене собралась целая толпа купцов, облаченных в высокие цилиндры. Вдруг один из этих цилиндров начал медленно отрываться от табакерки. Видимо, что-то привлекло внимание его владельца.
На площади перед церковью св. Николая появилась кормилица с ребенком на руках. Она, вероятно, уже прогулялась по улице Эврегатен и возвращалась домой. Но почему-то, пройдя Брюгген, она направилась в Старый город, в Дрегген[40]. Ах, вот что! Должно быть, ей поручили показать юного отпрыска рода какой-нибудь тетушке, от которой ожидали наследства. Кормилица величественно проплыла мимо купцов в цилиндрах. Высоко подняв голову, она гордо поздоровалась с ними. Взглянув на младенца, отцы города увидели, что он пышет здоровьем. Это вселяло бодрость, особенно потому, что холера только что пронеслась над городом. Почтенные купцы удовлетворенно кивали вслед кормилице. Но они недовольно сморщили носы, когда какая-то миловидная девушка из Мангера просеменила мимо них безо всякого головного убора, даже не устыдившись этого. Купцы переглянулись, но вскоре внимание их было привлечено другим зрелищем. Появилась еще одна бывшая кормилица, ставшая уже нянькой. Она тащила за руку своего выкормыша – тощую девчонку, которая всё время хныкала. Рассерженная нянька не поклонилась купцам, собравшимся на галерее. Она неожиданно повернулась в сторону занимавшей, как видно, все ее мысли лавки торговца омарами Александра Грига[41], предоставив купцам лицезреть лишь свою широкую могучую спину. Потом она двинулась дальше. И тут все цилиндры повернулись в сторону площади. Там явно что-то затевалось. Обычно ни кормилицы, ни няньки не разгуливали здесь, в Брюггене. А тут купцы увидели, что с холма спускается еще какая-то кормилица. И еще одна. А за ней – еще.
В эту минуту никто не проронил ни единого слова ни о ворвани, ни о вяленой рыбе, ни об омарах. Все вышли из помещения биржи на галерею. Глаза у мужчин расширились от изумления. Ведь в Дреггене было не очень много тетушек, от которых ожидалось наследство. Купцы уже пораскинули умом на этот счет. Вейдеман подпер мощный подбородок своим увесистым кулаком и вспомнил вещие слова Сары. Купцы услыхали, как старый Лоссинг, не то брандмейстер, не то начальник дорог, и большой весельчак, заржал от смеха.
– Господи помилуй! – Раскаты его громового хохота слышны были даже на другом конце города. – Вот уж никогда бы не подумал, что в Бергене столько кормилиц! Как видно, мужчины в нашем городе вовсе не похожи на вяленую рыбу!
Последней явилась Сара. Кухарка Ловисе помогала ей тащить ребят. Младенцы были плотно укутаны в одеяльца и платки. Видно было, что они пышут здоровьем. Служанки медленно проплыли мимо отцов города. Вейдеман, бывший тут же, забеспокоился. Это была настоящая демонстрация.
Сыновья Меркурия[42], онемев от изумления, провожали глазами Сару. Более неприятного сюрприза им не осмеливался преподнести никто, никогда и нигде. Тем более в Брюггене.
Эту смутьянку надо во что бы то ни стало немедленно удалить из города!
Сара быстрыми шагами подошла к купцам, остановилась и сказала звонко и внятно:
– Нынче вечером в гавани пришвартовалась голландская торговая шхуна. Даниельсен говорит, что поставил ее в карантин. Но паромщик Антонацци ходил вчера вокруг этой шхуны на веслах. И матросы на борту сказали, что шли-то они в Тронхейм к старому Пине, но, не добравшись до Тронхейма, запродали свой груз в Бергене по бросовой цене. И если Вейдеман знает имя бергенского купца, забравшего товар у голландцев, пусть назовет его. Он обязан сделать это, даже рискуя жизнью, даже если в дело замешаны его друзья или родичи. Завтра, быть может, будет слишком поздно! Два трупа с этой шхуны уже лежат в водах фьорда. У меня на руках грудные младенцы. Вообще-то они здоровы. Но холера не разбирает, чьи они дети – богачей или бедняков! Боже упаси нас от этого несчастья! Убраться бы подальше от города, пока здесь снова станет безопасно!
Никто не проронил ни слова. Все только смотрели на Сару, которая в их глазах превратилась в предсказательницу, в Норну[43]. И еще Сара добавила:
– Нынче с этой посудины продавали голландское сукно, так что кое-какой товар уже попал в город. – Сара еще сильнее выпрямилась и прошла мимо купцов.
Но, как известно, толстобрюхий Вейдеман вовсе не был нерешительным человеком. Одним прыжком перескочил он через балюстраду в стиле рококо и вцепился в Сару. А на пристани замелькали высокие черные цилиндры, торопившиеся домой, к своим вешалкам. В городе – холера!
Вейдеман стоял, продолжая держать Сару за руку. Она сделала реверанс и казалась столь кроткой и почтительной, что Вейдеман решил: она издевается над ним. Он смерил ее таким взглядом, что Сара испугалась. Ей никогда не доводилось видеть Вейдемана в таком истерическом состоянии, даже после празднования его серебряной свадьбы, когда он совершенно упился.
– Стой, девка! – закричал Вейдеман, потрепав кареглазую кормилицу по щеке. – После обеда возьмешь каюту на пароходе и отправишься в Салхюс. Да смотри во всем слушайся Даниельсена. В Салхюсе переночуй у Юнаса из Бреккена. Да держись в стороне от народа. А на следующий день отправишься дальше на барже. Не возражай мне! Фру и остальные дети поедут вместе с тобой, потому что нынче мы отменяем празднование рождества на улице Страннгатен, даже если весь город оскорбится. Будь она промята, эта шхуна!
Сара, прижавшись щекой к личику малютки – любимца Вейдемана, сказала:
– Будь добр, милый Вейдеман, дай мне с собою какую-нибудь бумагу, чтобы заткнуть глотку крючкотвору поверенному. А за это я буду долго служить тебе не за страх, а за совесть. То же самое советовал сделать и старший лекарь Даниельсен.
С минуту Вейдеман смотрел в ее полные решимости глаза. Потом он понял, что это – ультиматум. Но, чтобы о нем не судачили в городе, он быстро повернулся и сказал так громко, что все люди на набережной услыхали его слова:
– Я заплачу поверенному! Я спасу твою усадьбу! А теперь пошли! Живо!
На следующий день (Саре не удалось тронуться в путь сразу же после обеда, потому что фру Вейдеман понадобилось взять с собой много вещей) их отвезли на пароходе в Салхюс. И у Сары были с собой бумаги и еще доверенность.
Когда они уехали, помощник старшего лекаря Даниельсена рассказал, что команда шхуны болела вовсе не холерой, а краснухой.
Проклятия Вейдемана смолкли лишь в тот день, когда Сара вернулась обратно. Тогда приостановился поток трехнедельной утонченной ругани по адресу кормилицы по имени Сара, которой купец грозил увольнением и всяческими унижениями на глазах у посторонних. Ох, как он обрадовался! Рождество это было невыносимо скучное, еще невыносимее – скверный грог. И самым невыносимым была старость, которая сильно давала себя знать. Короче говоря, Вейдеман был очень возбужден! Но новость, привезенная Сарой, сразу же заткнула его пасть, обросшую пышной бородой. Кормилица сообщила ему, что к северу от Сюля появился огромный косяк сельди и что ей, Саре, кормилице в доме именитого купца Вейдемана, удалось уговорить шкипера баржи сделать большой крюк, чтобы сообщить об этом рыбакам Вейдемана. Пока еще никто эту новость не проведал.
– А много ее было? – на этот раз учтиво спросил повелитель Сары. Ему было известно, что кормилица знала толк в сельди, хотя была родом из Йольстера.
– Станг-фьорд битком набит сельдью и твои люди придут туда первыми. Но этот улов будет слишком велик, тебе с ним не справиться. Пригласи кого-нибудь из купцов, у кого тоже есть такой промысел. Дело не терпит!
– Ко всем прочим достоинствам, ты и в делах разбираешься. Жаль, что ты родилась не в богатстве, а в бедности. Ну, теперь хватит комплиментов! И пусть каждый знает свое место – и господа и слуги. Слава богу, все эти рождественские увеселения позади. И еще тебе совет, Сара… Не смей предсказывать холеру, когда речь идет всего-навсего о краснухе. Один раз прощается. Два – это уже слишком. Так что баста!
Сара не ответила ему ни слова. Она радовалась, что отвоевала родную усадьбу. Радовалась она и воспоминаниям о мягкой широкой соломенной постели в Йольстере. Ведь они с мужем так молоды, а встретятся, видно, еще не скоро. Теперь она, по крайней мере, сможет жить воспоминаниями.
Сара и в самом деле прожила в городе еще свыше двадцати лет и стала совершенно своим человеком в доме Вейдемана. Она была всему дому голова.
Но воспоминание о рождественской поездке никогда не изгладилось из ее памяти. С годами оно становилось всё более и более прекрасным. Правда, Сара никогда больше не бывала в Йольстере, а муж ее никогда не приезжал в Берген. Но их сыну досталась усадьба, свободная от долгов. Он не знал свою мать и никогда о ней не думал.
Композитор или торговец омарами?
Рассказ о том, как была решена судьба маленького Эдварда Грига
(Перевод Ф. Золотаревской)
В доме торговца омарами Александра Грига шли последние приготовления к приему гостей. Ожидали приезда Большого Уле. Из погребов доставали выдержанные тонкие вина, блюда наполняли самыми изысканными деликатесами европейской кухни. Всемирно известный скрипач, должно быть, очень разборчив в еде.
Александр Григ казался немного встревоженным. Тревога его была вызвана именно предстоящим визитом знаменитого земляка Уле Булля[44]. Григ подозревал, что его обожаемая жена, эта прелестная и талантливая скромница, что-то такое затевает. Ах, она, верно, всё еще не может позабыть свои мечты об искусстве, хотя никогда об этом не заговаривает. Да, немногого она достигла! А ведь когда-то ее концерты в филармонии снискали ей громкий успех. Все были очарованы ее игрой на фортепьяно. Она, видно, раскаивается в том, что стала женой обыкновенного купца.
Купец Григ, стоя перед зеркалом, тяжело вздохнул и быстро завершил свой туалет.
– Да, да, да! – пробормотал он. – Но всё же, когда наступает засуха, то скучный водоем оказывается надежнее самого веселого ручейка. Ни за что не допущу, чтобы маленький Эдвард пустился странствовать по пустыне, именуемой искусством… Нет, он будет, так же как и я, торговцем омарами! Не правда ли?
Изображение в зеркале кивнуло ему в ответ. А купец продолжал еще более горячо:
– Нет, разрази меня гром, ежели мой Эдвард станет музыкантом и будет терпеть нужду, лишения и невзгоды, которые всегда сопутствуют судьбе этой братии. Верно?
Изображение в зеркале снова энергично кивнуло.
Купец Григ отвернулся к окну, взял понюшку табаку и задумчиво погладил себя по подбородку. Нет сомнения, что у жены его с этим вечером связаны какие-то планы. Она хочет, чтобы Уле Булль познакомился с мальчиком и послушал его игру на фортепьяно. Но, слава богу, чутье преуспевающего купца и на этот раз не подвело хозяина дома. Он предусмотрительно пригласил в гости ядовитого шутника и острослова Юхума Прома, который заранее был посвящен в суть дела. Ему-то и надлежит ринуться в бой за судьбу маленького Эдварда. Но в гостиной, как будто, уже собираются гости? Хозяину показалось, что он слышит скрипучий голос Юхума. Да, так оно и есть. А затем раздалась отрывистая речь этого неугомонного англичанина, который всюду сует свой нос и непременно хочет везде побывать – то карабкается в горы, то мчится во весь дух с откоса и, основательно разбившись, всё-таки незамедлительно отправляется ловить форель.
Александр Григ поспешил вниз. Теперь Юхуму предстоит затеять спор с Уле Буллем и раззадорить его до такой степени, чтобы тот позабыл и о мальчике и о хозяйке дома, этой очаровательной маленькой интриганке. О, за это Григ готов даже простить Юхуму его мошенническую проделку с рыбой прошлой осенью!
Не успел хозяин дома войти в гостиную, как сразу почуял опасность. Жена с мальчиком уселась около самого рояля! Итак, бастионы готовы к бою… Маленький Эдвард заметно нервничал из-за того, что находится в одной комнате со своим божеством Уле Буллем. Фру Григ улыбаясь беседовала со старой болтливой тетушкой. Но сегодня изящная фигурка жены выражала упрямство и вызов. Муж невольно улыбнулся. Вот уж поистине напряженный момент. Он пробормотал: «Что ж, посмотрим!» – и принялся обходить гостей, громко провозглашая: «Добро пожаловать!»
Уле Булль уже развлекал гостей разговором и, кажется, отлично чувствовал себя в роли хозяина дома. Его оглушительный хохот сотрясал медные блюда на стенах. Они звенели, словно колокола, предвещая борьбу не на жизнь, а на смерть. Похоже, что так оно и есть.
– Ты уже выработал какой-нибудь план? – тихо и взволнованно спросил Григ Юхума, наклонясь к нему.
– Этого я бы не сказал, – сухо ответил Пром. – Однако долговязый скрипачишка уже начинает меня раздражать. Он и слова не дает вставить в разговор! Такого со мной еще в жизни никогда не бывало. Но ты сделал бы доброе дело, если б спас меня от этого дурня-англичанина с его записной книжкой. А вот и он, легок на помине! Помилуй меня, боже! Если он еще хоть раз скажет мне «господин директор», я просто лопну от злости, ей-ей!
Жизнерадостный субъект в платье английского покроя алчно набросился на достопочтенного купца Юхума Прома: в одной руке он держал карандаш, словно фехтовальщик шпагу, а в другой – объемистую записную книжку. Англичанин нацелился острием карандаша в тощую грудь Юхума.
– Много ли дождей выпадает летом в Бергене, господин директор? – спросил он, держа наготове записную книжку. – Что вы об этом думаете, господин директор?
С минуту Пром шевелил губами, а затем ответил тем вкрадчивым голосом, которого особенно боялись его друзья на бирже:
– Да уж измеряем мы, можно сказать, с большой точностью. Вот однажды так за день целую бочку нахлестало. Она стоит у меня в саду, господин Сэссекс. Так, кажется, вас зовут?
– Don’t matter[45], – ответил англичанин и принялся усердно записывать что-то в свой блокнот. – Целую бочку!
– Ей-богу, всё это чистая правда! – сказал Пром с ангельским выражением лица. – Запишите хорошенько. Пусть почитают об этом в Лондоне… А вот один бергенский весельчак, который клялся, что отродясь не говорил ни единого слова неправды, рассказывал мне такую историю: давным-давно, когда на свете еще и зонтиков-то не было, на небе появлялось три, а то и четыре радуги зараз. А по большим праздникам так даже пять!
– That’s impossible, – сказал англичанин, опуская записную книжку. – Это совершенно невозможно, господин директор.
– Да, пожалуй, – согласился Пром. – А когда все радуги соединялись, то с неба лил красный, синий и зеленый дождь. Это, знаете, даже бергенцам показалось в диковинку. Чудеса, да и только! Пропечатайте об этом в своей книге.
– Непременно, господин директор! – воскликнул англичанин, продолжая усердно записывать.
– А вы знаете, ведь у нас есть еще два вида дождя: большая изморось да малая изморось, – сказал Пром.
– И какая же между ними разница?
– Да вот такая, что при большой измороси человек быстрее промокает и схватывает простуду, – авторитетно заявил Пром. – В Бергене простуду схватывает больше людей, чем на всем белом свете. А вас она не мучит?
– О нет, нет, господин директор!
Юхум Пром шумно вздохнул, закатил глаза и только после этого снова обрел душевное равновесие.
– Я не директор, я купец! – сказал он.
Как раз в это время к ним подошел Александр Григ и, расточая любезности, увел англичанина с собою. Молниеносный взгляд Грига Пром воспринял как отчаянный сигнал тревоги. Он обернулся, и его чуть не хватил удар. Долговязый Уле оживленно беседовал с фру Григ, а рука хозяйки дома уже тянулась к нотам, лежавшим на рояле. Это были композиции маленького Эдварда. Готовясь ринуться в бой, Пром выпрямился, поправил шейный платок и, приблизившись к Уле, ткнул его в бок пальцем.
Уле Булль повернулся к Прому, и рука фру Григ, готовая взять ноты, осталась лежать на крышке рояля.
– Здравствуй, здравствуй, дорогой друг! – сердечно проговорил король скрипки.
– Спасибо на добром слове, – холодно ответил Пром. – Долго же ты на сей раз околачивался в чужих землях.
– Да, – сказал Уле Булль, возвысив голос, – но поездка моя была сплошным праздником. Это было нечто незабываемое.
– Уж ты мастер расписывать! – насмешливо сказал Пром.
Уле Булль разразился хохотом, от которого гости похолодели.
– Наконец-то я слышу недоброе шипение своих земляков, – сказал он весело. – Ах, эта благословенная бергенская злость, как мне ее недоставало! В ней есть что-то приятное для меня. Странствуя по свету, я совсем забыл, как душен и тесен мирок, в котором живут наши бергенские сплетники, и меня, словно раненое животное, потянуло к родным местам. Люди искусства всегда чувствительнее, чем обыкновенные смертные.
Он резко повернулся к фру Григ:
– Покажите-ка мне сочинения мальчика.
Но Пром опередил его.
– Верно, дорогой Уле! – громко сказал он. – Видишь, теперь для тебя наш город и тесен и мал. А что ожидало бы тебя, ежели бы ты не прославился, а остался обыкновенным музыкантом? Нужда, убожество: скиллинг там, скиллинг здесь… Вот ты купаешься в славе да золоте, а можешь ли ты гарантировать хотя бы кусок хлеба тем, кто пойдет по твоей дорожке? Да и потом, дано ли тебе решать, выйдет из человека музыкант или нет, и вмешиваться в его судьбу, не разобравшись в сути дела?
Уле Булль задумался.
– В твоих словах есть доля правды, – неуверенно проговорил он.
Фру Григ хотела что-то сказать, но Пром не дал ей вставить ни слова. Он решительно продолжал:
– Вес в обществе, солидная фирма, чутье коммерсанта – вот о чем должны мечтать бергенцы. Ты думаешь, у всех такая здоровая глотка, как у тебя? А ведь без нее музыканту так же не обойтись, как купцу или маклеру.
– Нет, милый друг! – запальчиво возразил Булль. – Музыкант пробивает себе дорогу не глоткой и не локтями, а своим талантом, своим искусством!
– Да ну! – ядовито сказал Пром. – А не тебе ли пришлось драться зубами и ногтями, когда дела твои шли как нельзя хуже? А скажи, что станется со скромным и слабосильным бергенцем, ежели его то и дело станут обмеривать да обвешивать на жизненном пути?
Знаменитый музыкант улыбнулся этой купеческой метафоре и украдкой взглянул на хрупкого мальчика с задумчивым, отсутствующим взглядом.
Он снова обратился к Прому:
– Ты большой шутник, дядюшка Юхум, но то, о чем ты говоришь, отчасти верно.
– Отчасти? – вскричал Пром. – Нет, не отчасти, а всё как есть чистая правда! Да вот у нас в городе, разве мало отличных музыкантов? А ведь кормятся-то нашими подачками!
– Это не их вина! – взорвался Уле, совершенно забыв о фру Григ и маленьком Эдварде. – Позор городу, где музыканты вынуждены бедствовать!
– Позор? – негодующе воскликнул Пром, увлекая Уле Булля в угол, подальше от рояля. – Никакого позора! Тем, кто уже прославился, мы оказываем почет и поминаем их в торжественных речах. А до остальной голытьбы нам дела нет.
Александру Григу, который тайком наблюдал за женой, показалось, что друг его немного переборщил. У хозяйки дома был удрученный вид, а мальчик нервно сжимал кулаки. Но всё-таки купец был доволен, что его собственные доводы звучат столь убедительно и в устах Прома.
Фру Григ решительно направилась к Уле. Она видела, что многие из гостей готовы наброситься на своего знаменитого земляка с расспросами и разговорами, как только Пром отпустит его. А ведь завтра Уле уедет, и бог знает, когда снова вернется в Берген.
Пром заметил ее. Он стал еще красноречивее говорить об исполненной лишений судьбе музыкантов. В конце концов он сказал:
– Здесь, в Норвегии, мы держим музыкантов в черном теле, пока они не прославятся на весь мир. Стало быть, им надо иметь железное здоровье, чтобы вынести это. Помни, Уле, какую ты берешь на себя ответственность, увлекая кого-нибудь на этот путь.
Уле Булля всего передернуло, и он сердито ответил:
– У тебя вместо сердца приходо-расходная книга!
– Да, уж я знаю разницу между дебетом и кредитом, – сказал Пром. – А вот ты-то не знаешь. И я не на последнем счету в городе.
– Ну, а мое имя с уважением произносят во всем мире! – гордо сказал Уле Булль.
– Это ни к чему, если его не произносят с уважением в банке!
– О ты, прозаический Берген! – сказал Булль. Только и разговору, что о деньгах.
Пром покачал головой.
– Ты поражаешь меня, Уле. Неужто ты забыл своих земляков? Разве ты не знаешь, что бергенцы держат деньги в банке, а поэзию – в ящике стола?
Уле Булль рассмеялся. Он положил руку на плечо купца Прома и добродушно сказал:
– Ты, как всегда, прав, дорогой друг. Это я, видно, сошел с ума.
– Ну вот с этим согласен! – без обиняков ответил Пром.
– Нет уж, не мне решать чью-либо судьбу в этом городе здравомыслящих торгашей.
Пром гордо кивнул. Уж теперь-то Александр Григ отблагодарит его! Но для верности он еще добавил тихо:
– И не забивай своими фантазиями голову маленького Эдварда. Из него выйдет дельный конторщик!
– Быть может, ты и прав, – задумчиво ответил Уле.
В это время до их слуха донеслись слабые звуки рояля. Уле насторожился. Рояль звучал всё громче. Прозрачная нежная мелодия заполнила гостиную. Наивностью и чистотой повеяло от этой музыки. Уле Булль вмиг оказался в ее власти. Он совершенно позабыл о своем споре с Промом.
Маленький Эдвард играл свои сочинения и свои вариации на тему Моцарта. Уле Булль медленно подошел к роялю и встал у мальчика за спиной. Все гости расступились. И когда Эдвард кончил играть, знаменитый скрипач бережно взял ноты и стал перелистывать их. Затем он обернулся и поглядел на окружающих так, словно видел их впервые.
– Кто сказал, что маленький Эдвард должен стать конторщиком? – загремел он, и медные блюда на стенах дружным хором ответили ему.
– Не я! – быстро ответил Пром, который славился среди купцов своим уменьем предвидеть поворот событий.
– Мальчик будет композитором! – решительно сказал Уле Булль. – И не возражайте мне. Он прославит родной город, и его имя будет звучать во всех торжественных речах!
Маленький Эдвард стал композитором. И кто знает, может быть, не случись этого события и не прозвучи его сочинения однажды на званом вечере в родном доме, он действительно сделался бы «дельным конторщиком», потому что торговцем омарами он уже не стал бы наверняка.
Чековая книжка и любовь
(Перевод Л. Брауде)
Юхум увидел ее впервые в субботний вечер на холме Санктхансхойген. Там были танцы, костры, пирожницы, а от веселья дым шел коромыслом. Она стояла возле самой площадки, и казалось, что всё ее прекрасное тело дрожит от желания пуститься в пляс. Она притопывала в такт музыке. Но каждый раз, стоило кому-нибудь приблизиться и пригласить ее танцевать, она удрученно мотала головой и отказывала, глядя на мать. Та стояла тут же рядом, гордо задрав тройной подбородок. Верхний этаж ее тела, утопавший в жиру, был крепко перетянут. Глаза смотрели весьма настороженно, а на лбу залегли глубокие морщины.
– Ты не вздумай вертеться здесь, милая моя Ане, – время от времени повторяла она. – Ты слишком хороша для этих мужланов. Чего только я не делала в свое время, чтобы выбиться в люди! И ни в коем случае не верь кавалерам, с которыми встречаешься на танцах. Я-то знаю, о чем говорю! Хотя твоего отца я как раз здесь и встретила, но он сдержал свое слово. Нынче таких уж больше нет. Молодежь теперь вконец испорчена. А все обещания мужчин – один обман, поверь мне, доченька. Кто-кто, а я знаю их с молодых лет!
Юхум покрутился возле них. Девушки красивее и нарядней Ане он в жизни не встречал. Нынче вечером – или она, или никто! Вдруг ему в голову пришла счастливая мысль. Он подошел к палатке, где продавались пирожные, и сказал Петрине-пирожнице:
– Послушай-ка, Петрине, хочешь оказать мне услугу потехи ради? А?
Немного погодя к толстухе подошла Петрине и сказала, что у той из-под платья торчит нижняя юбка. После чего фру, сразу же утратив свой горделивый вид, побежала в кусты, чтобы привести себя в порядок.
Тут рядом с девушкой откуда ни возьмись, словно из-под земли, вырос Юхум. Он отвесил ей самый изысканный поклон, а когда выпрямился, Ане увидела стройного и статного юношу с развевающимися волосами. Юхум отлично умел кланяться. Немало времени он потратил, чтобы выучиться этому.
– Я не знаю, можно ли мне, – сказала она, закусив губу.
– Зато я знаю, – ответил Юхум с улыбкой фавна, беря ее за руку и выводя прямо на танцевальную площадку. – Меня зовут Юхум Хиириксен, – добавил он, обхватив рукою ее стан. От одного этого прикосновения его сразу бросило в жар. – А как тебя зовут?
– Меня зовут всего-навсего Ане Клойсен, – робко ответила девушка, опустив из скромности свои огромные голубые глаза.
Не успела Ане опомниться, как уже была в кругу танцующих. А тут она позабыла и о матери и о позднем времени, потому что танцы были для нее совершенно непривычным праздником. Ей ведь никогда не разрешали водиться с простонародьем. До «благородных» же она не дотянулась, и поэтому, при всей своей цветущей красоте и молодости, девушка продолжала оставаться комнатным растением. Теперь она забыла все наставления матери и так кружилась в танце, что шелестевшие юбки веером разлетались вокруг нее. А Юхум ухитрялся танцевать так, что стоило толстой матроне в поисках дочери проплыть с одной стороны площадки, как он и Ане, надежно укрытые плотной массой танцующих, танцевали уже совсем в другой стороне. Под конец фру с развевающимися лентами шляпки скрылась где-то в поле, чтобы взглянуть, не отправилась ли Ане домой. А Юхум и Ане увидели ее лишь в тот момент, когда она вынырнула у проезжей дороги. Но тут снова заиграла музыка.
Несколько минут спустя Ане меланхолически сказала:
– Ну, теперь уже слишком поздно просить прощения. Скоро все костры погаснут. Господи помилуй, что я скажу дома?
– Хорошо бы мне зайти к вам и с самым невинным видом наврать с три короба, – сказал Юхум, когда они шли полем. – Но ты, пожалуй, не осмелишься привести меня в дом?
– Матери-то бояться нечего, – задумчиво ответила Ане, весьма решительно, хотя и не очень строго, отстраняя его от себя локотком. – Она так влюблена во всех благородных! А отец одинаково груб со всеми, будь они благородные или простые… И потом, нечего обнимать меня за талию. Я вовсе не нуждаюсь, чтобы ты меня поддерживал. Я достаточно твердо держусь на ногах. Убирайся! Я этого терпеть не могу.
– А вот и врешь, Ане! – пылко воскликнул Юхум. – Я так влюбился в тебя, что у меня вовсе нет надобности врать. Я мог бы сложить песню о своей любви. Расскажи-ка мне, как у тебя устроено в спаленке? Поди, обои у тебя белые, с позолотой и мелкими цветочками?
– Ты уже, верно, не раз говорил это другим девушкам, – сухо сказала Ане, спрыгнув с пригорка и нечаянно толкнув Юхума. Тот чуть не клюнул носом землю.
– Я скажу, что встретила Янну и была с ней, а потом мы всё время искали матушку. Ну, прощай!





