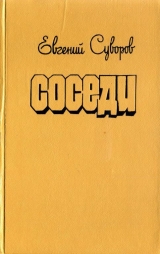
Текст книги "Соседи (сборник)"
Автор книги: Евгений Суворов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц)
За три дня в Белой пади ничего существенного без Петра Ивановича не произошло, если не считать мелких событий: все три дня пил конюх Павел Аншуков; Сергей Лохов, старший сын Дементия, без согласования с бригадиром устроил себе выходной и целый день держал на приколе трактор ДТ-54. Первый факт, пьянство конюха, Петр Иванович выслушал от Александры Васильевны спокойно: Павел был неисправим, и единственное, что оставалось с ним делать, – отстранить от всякой ответственной работы. Второй факт огорчил Петра Ивановича самым серьезным образом. Сергей был одним из тех белопадцев, на кого Петр Иванович возлагал немалые надежды.
– Это он зря-я-я сделал, – нервно садясь на край постели, низким хрипловатым голосом сказал Петр Иванович. – Из него бы хороший руководитель получился.
– Ну, какой из него руководитель? Кем ты его поставишь?
– Бригадиром.
– Не будет из Сергея бригадира.
– Если не перестанет самовольничать, ты права, – не будет.
Александра Васильевна не хотела, чтобы муж расстраивал свои нервы, не успев приехать, и она, успокаивая его, сказала:
– Как хочет, так пусть и живет. Что он, маленький? У него уже четверо детей.
– Как хочет? Не-ет, так не пойдет.
– Ну, а как пойдет? – из-за здоровья же Петра Ивановича начинала сердиться Александра Васильевна. – Ты про весь лес, а про тебя ни один бес. Погоди, вот увидишь!
– А мне благодарности не надо. Я прежде всего коммунист.
– Это же все твои ученики – что Сергей, что Павел… Я ничего, люди говорят.
– А что говорят люди? – насторожился Петр Иванович.
– Пьяниц держите.
– Павла мы исключили.
– А Сергея?
– Ты Сергея с Павлом не равняй. Далеко не родня!
– Такой же. Напьется и поет на всю деревню: «Ой вы, кони, вы, кони, стальные…» Я б ему таких стальных коней показала и дня бы не держала в партии!
– Не спорю, есть у Сергея недостатки. Но если тебя послушать, то в первичной организации Белой пади из девяти человек останется трое, четверо.
– Зато люди не кивали бы головами.
– В партии такие же люди, – убеждал Петр Иванович жену, – их надо воспитывать. А как ты думала?
– Одного уже воспитали.
– Кого?
– Павла.
– Я же тебе сказал: это человек неисправимый. Ты же знаешь, я говорил с ним тысячу раз. Что это за чудо такое? – спрашивал Петр Иванович, начиная снова ходить по комнате. – Если водку, вино и самогонку, которую он выглушил, слить в цистерны, состав получится! Другой бы десять раз сгорел, а ему ничего не делается. Это ж надо быть такому пузырю!
– Детей жалко, – сказала Александра Васильевна, подойдя к окну.
– Что ты там увидела? – Петр Иванович вопросительно смотрел на жену, выражение лица которой с каждой секундой менялось.
– Иди-ка посмотри: Павел с Варкой ругаются. Это ж она похмелиться не дает!
Качая головой, она со вздохом отошла от окна и села около печи на стулике. Петр Иванович повернул голову к окну, в которое только что смотрела Александра Васильевна, и сказал:
– Третий день пьет?
Александра Васильевна кивнула.
Петр Иванович остановился около огромного фикуса, вытянул руку и стал загибать пальцы, начиная с мизинца:
– Кони не кормлены и не поены – беда! Детям – беда! Варке – беда!
– И сам же черный сделался, – посочувствовала Павлу Александра Васильевна.
– Пусть чернеет – не жалко!
Сказав эти слова, Петр Иванович сорвал пожелтевший фикусовый лист, который он заметил еще в самом начале разговора. С листом фикуса прошел, сел на стул и, срываясь на шепот, с какой-то безнадежностью сказал:
– Как жить с таким народом? Ну вот что делать с Павлом, какое ему нужно воспитание?
– Пропащая душа, – согласилась Александра Васильевна и зевнула, так как дальше говорить о недостатках в колхозе не хотела и пожалела, что сказала про Илью и Павла, потому что знала, что Петр Иванович легко не остановится.
– Пропащая душа, ты сказала? Правильно: пропащая! Илью выгоним – другого такого же Павла получим. Ты этого хочешь?
– А ну их! Что тебе Сергей, что тебе Павел?
– Из Сергея можно человека сделать.
– Делай, делай, только не шуми много.
– Я не шумлю.
– А что говорить по-пустому. Павел – Павел, Сергей – Сергей… Ни один из них не придет, не спросит: Петр Иванович, ну как здоровье?
– Здоровье? Последнее отнимут!
Он повертел в руках лист фикуса, как бы удивляясь, откуда он у него, хотел подняться и выбросить лист в ведро, на кухне, но, поднявшись и сделав один шаг, согнулся над кроватью и бросил лист на подоконник.
– К нам идет! – весело сообщила Александра Васильевна.
– Кто?
– Павел.
Минуты через две, самого Павла еще не видно, раздается его хриплый голос:
– С приездом, Петр Иванович!
И от порога с вытянутой рукой для приветствия, подошел к Петру Ивановичу, поднявшемуся со стула, пожал ему руку. Александра Васильевна хотела подать стул, но Павел замахал руками: не надо! Он сел на пороге, разделявшем кухню и большую комнату, на короткое время свесил голову, тяжело вздохнул и, ничего не говоря, уставился мутными глазами на Петра Ивановича.
Петр Иванович смотрел на Павла чуть-чуть с улыбкой и сострадающе.
– Тяжело, Павел Дмитриевич?
– Тяжело…
– Несчастный ты человек, Павел Дмитриевич!
– Да, Петр Иванович…
Павел медленно перевел взгляд на Александру Васильевну, собравшуюся оставить мужиков одних, и, несмотря на свои неимоверные страдания, хитро-хитро подмигнул ей. Перед обедом, до приезда Петра Ивановича, он уже приходил и просил у Александры Васильевны три рубля на похмелье, но Варка успела побывать у Мезенцевых раньше, и Павлу было отказано. Он не обиделся – знал, что это Варкина работа, и теперь надеялся получить три рубля у Петра Ивановича. Но как только Павел перестал смотреть на Александру Васильевну, она, уходя, неумело подмигнула Петру Ивановичу: не давай. Павел перехватил ее взгляд, и положение его теперь затруднительно: послушает Петр Иванович жену или не послушает.
Павел сидит на пороге, о деньгах не спрашивает, а все время смотрит в глаза Петру Ивановичу.
Не говоря ни слова, Петр Иванович идет к красному шкапику с голубыми створчатыми дверками, возвращается и энергичным жестом протягивает Павлу две хрустящие бумажки – шесть рублей.
Павел прячет деньги в карман не сразу, а некоторое время держит их перед собой, чтобы ощутить, прочувствовать, что они у него в руках. Только после этого он вытягивает на полу правую ногу в кирзовом сапоге, засовывает шесть рублей в карман новеньких, сильно измятых брюк. Щупает, на месте ли деньги, сгибает ногу, ставит коленом к колену, прицеливается в Петра Ивановича долгим взглядом, кажется: Павел сейчас заснет.
– Павел Дмитриевич! Когда пить бросишь?
– Сегодня, Петр Иванович. Три рубля пропью, а на три сахару возьму – ребятишкам.
– Попадет и мне, и тебе от Варки.
– Не-ет, она на вас не за это сердится.
– А за что?
– За дом.
– Это дом государственный.
– А был когда-то ее.
– Ее? Никогда не был.
– Как не был? Родилась-то она в этом доме! И жила, пока вы отца не раскулачили. Я маленький был, а помню.
– Так и скажи: это был дом ее отца.
– Ну, маленько не точно сказал.
– Надо точно говорить.
– Какая разница, – примирительно сказал Павел, медленно разгибая затекшую ногу.
– Разница больша-а-ая… Тебе известно, сколько коней было у твоего отца. Помнишь?
– Помню, а как же. Ни одного не было!
– А у Варкиного?
– Двенадцать.
– Это только коней!
– Знаю, как же! Я сколько раз замечал: Варка, когда мимо вашего дома идет, смотрит себе под ноги, будто сто рублей потеряла! Я сколько раз хохотал над ней!
– Зачем же хохотать? Лучше бы объяснил ей.
– Бесполезно.
– Почему?
– Баба есть баба, не поймет.
– Ты пробовал хоть раз объяснить?
– Объяснял.
– И что?
– Слушать не хочет.
– Плохо объяснял, – сделал заключение Петр Иванович.
Зашел Володя, вылил в бачок два ведра воды. Павел послушал, как Володя, позванивая ведрами, сбежал с крыльца, проскрипел воротами на огород.
– Он мне помогал мешки с пшеницей на плечо наваливать. Не поверите, вот таким был! – Павел показал от пола с полметра. Заметив, что Петр Иванович с интересом слушает, добавил: – Я, конечно, беру мешок порезче, а Володьке кажется, что это он так подбрасывает мешки! Вот такой был! – повторил Павел, снова показывая ладонью от пола. – Что говорить, ласковый парень.
Какую ласковость имеет в виду Павел? Что-то Петр Иванович не замечал за Володей такого качества. Он не стал ни о чем допытываться, сел на стуле, отвернувшись от Павла, задумался.
Павел, кряхтя как старик, встал с порога, посмотрел в окно и сел на прежнее место. Он несколько раз откашливался, царапая покорябанными ногтями стриженный наголо затылок, поправлял коротенькую, как у мальчишек, челку; прямые, черные волосы не слушались и ложились так же, как они лежали всегда, – чуть-чуть наискосок, направо.
Петр Иванович ни о чем больше не спрашивал Павла, не шутил и не смеялся, и Павел так объяснил молчание Петра Ивановича: сердится, что Павел опять загулял и забыл все на свете. Ничего нового тут для Павла не было. Сделать, как предлагал Петр Иванович, – бросить пить совсем или сократить хотя бы наполовину, – Павел не мог, но слушать Петра Ивановича, когда он говорил об этом, было приятно.
Звякнули дужки ведер, поставленных около ворот. Послышались бег, окрики, и Петр Иванович понял, что Володя гоняется за полугодовалым красным бычком, который не хотел пастись за мостом с другими телятами и мог часами мычать у крыльца, требуя капустных или свекольных листьев и мучного пойла. Бычка, наконец, удалось выгнать со двора, крики теперь слышались на улице, где Володя состязался с красным бычком в беге и хитрости.
Вошла Александра Васильевна, постояла на кухне, открыла шкафик, положила в горлач свежие куриные яйца, которые она достала из нового гнезда на стайке. Выдвинула из печи большой чугун с теплой водой, оставила его на загнетке, подошла к Павлу. – Чего сидишь?
– Не ругайте меня, тетя Шура.
– Как это не ругайте? Скажу Варке, пусть палку возьмет да палкой тебя! Какой у тебя праздник?
По улице, взглянув на дом Мезенцевых, прошла Варка. Походка бережная, голова с тоненькими завязанными косичками запрокинута, руки безвольно висят вдоль располневших бедер. Кажется: Варка идет так медленно, плавно и бережно потому, что спит, и боится себя разбудить. Под ногами у Варки путаются, ловят друг друга девочка лет четырех и крохотный, недавно научившийся ходить мальчик. Варка не замечает их.
Унылый Варкин вид придает Александре Васильевне смелости.
– Коням сегодня давал?
Павел крутнул головой.
– Поил?
Павел еще раз покрутил головой.
– Сейчас же чтоб напоил и накормил коней!
Поднимаясь с порога, Павел слабо засмеялся:
– А если я в колоду с водой завалюсь? Кто будет отвечать?
– С Володей пойдешь.
– А, с ним можно! Вас, тетя Шура, послушаюсь. А бригадира только что подальше послал. Надоел.
Павел с Володей ушли. Беспокойство Петра Ивановича усилилось. Ему начинало казаться, что окружающие знают Володю лучше, чем он, Петр Иванович, что они как будто состоят в заговоре с Володей и действуют против Петра Ивановича.
Стоя у окна и барабаня по нему пальцами, глядя на давным-давно знакомую картину, – широкое болото внизу, разрезанное посредине узкой извилистой речкой, два моста с перилами, дорогу и вдоль болота вогнутую стену леса, гудевшего и трещавшего в бурю, – Петр Иванович понял, что надо делать.
– Вот так фунт изюму! – сказал он вслух и перестал барабанить пальцами.
Внутреннее чутье подсказывало ему, что делать ничего не нужно, то есть все делать как можно точнее и спокойнее. Это на поверхностный взгляд и означало, что будто бы ничего делать не нужно. Володя должен видеть, что Петра Ивановича не задели слова насчет учебы, сказанные на днях Володей, что Петр Иванович забыл их, что ничего на самом деле не произошло. Наоборот, считал Петр Иванович, если начать говорить об э т о м, придать э т о м у значение, то все может оказаться хуже.
У Петра Ивановича заныло под ложечкой, когда он, только что успокоившись, подумал: а что, если это х у ж е окажется сильнее?..
В такую ситуацию, как с Володей, Петр Иванович попал впервые. Никогда еще не было, чтобы он боялся сказать своему ребенку то, что он считал нужным сказать. И вот получалось, что он должен поступать против своих правил, что не Володя, а Петр Иванович должен подстраиваться.
«Я ему хочу добра, и он же куражится!»
От этой мысли, оформившейся окончательно только, вот сейчас, когда Петр Иванович чистил картошку, его широкие кустистые брови поползли вверх, нож с большой деревянной ручкой перестал скользить по картофелине, и длинная зигзагообразная шкурка неподвижно повисла над ведром.
Петр Иванович, выпрямившись на стуле, с картофелиной в левой руке и с ножом в правой сидел, соображая, что же все-таки сделать: действовать, как начал, – притворяться, что ничего не замечаешь, нервничать, ждать, что получится… или самому ускорить события?
Надежда на то, что само собой все получится лучше, заставила его вспомнить одну любопытную мысль, которая до последнего времени работала безотказно. Мысль Петра Ивановича, изобретенная им, когда он стал учителем, заключалась в следующем: он разделил своих детей – пятерых сыновей и двух дочек – на похожих на себя сильно и похожих чуть-чуть. Физические признаки – нос, глаза, цвет, голос, походка – в счет не брались. Петр Иванович признавал больше всех похожим на себя того из детей, кто лучше учился. Хорошо учишься – похож! А то, что нос или глаза одинаковые, лоб высокий, это само по себе еще ни о чем не говорит.
К шестерым эта теорийка – «похож и не похож» – подходила как нельзя лучше. Ничего искусственного в ней не было, ничего никому не навязывалось: не хочешь быть похож, не надо, никто сильно просить не будет, но ты все равно будешь чувствовать себя как будто в тени. Купят тебе такие же валенки, такие же ботинки, мать сошьет такую же рубашку, как и остальным, кто лучше учится. Наденешь ты все это, а – не то! И валенки, и ботинки, и рубашка на том, кто лучше учится, покажутся тебе лучше твоих. Отец и мать скажут тебе что-нибудь так же, как и тем, кто похож, а тебе будет казаться, что им лучше сказали, лучше на них посмотрели…
Даже когда ты точно будешь видеть: вот в этом, этом и этом все одинаково, похож ты или не похож, но сразу же или немного погодя вдруг у тебя ни с того ни с сего возьмет и испортится настроение, и, скорее всего, окажется, если хорошенько посмотришь, что все это оттого, что – не похож. А потом и сам очень скоро разглядишь: тот, кто похож, реже сердится, все у него получается; а у тебя, смотришь, явный пустяк – и не вышло! Вот тут и решай, что лучше, – «похож» или «не похож»?
Конечно, первое лучше, даже несравнимо лучше! А потом и человек уж так устроен, что долго в тени ему сидеть не хочется, – непременно захочется на солнце, чтобы о нем, и чем скорее, тем лучше, сказали: «Похож!»
И вот эта теорийка играла свою положительную роль, пока все наконец выучились, разъехались кто куда и дома остался с родителями один Володя. Его не с кем стало сравнивать, – хороший пример на расстоянии, если это даже братья и сестры, как ни говори, а все ж таки не то! Эта или еще какая-то шестеренка сломалась, а только на Володю пример прилежной учебы старших братьев и сестер должного действия не оказывал.
Сколько раз Петр Иванович останавливался с Володей перед каждым из портретов братьев и сестер! Володя всматривался в лица и, казалось, совсем не воспринимал того, что говорил отец. С тех пор как он пошел в третий класс, братья и сестры домой приезжали редко, даже летом все вместе давно не собирались, и Володя стал отвыкать от них, все время путал, где живут теперь Ваня и Ольга.
Все шестеро то чаще, то реже писали домой, спрашивали, как учится Володя. Просили его учиться лучше, так как «в наше время без грамоты не проживешь». Каждое письмо Петр Иванович, надев очки, зачитывал вслух, некоторые места повторял по два раза и никогда не выбрасывал писем: сначала они хранились в столе, а затем целую пачку он уносил в амбар и прятал в красном дубовом ящике. Лежали там и тетради его детей по чистописанию. Иногда Петр Иванович доставал их и любил рассматривать.
Можно сказать, известность учителя Мезенцева началась с тетрадей его учеников. На районных и областных выставках учителя подолгу рассматривали тетради учеников с Белой пади, как завороженные перелистывали страницы, не в силах понять, как удавалось учителю привить такую любовь не просто к чистописанию, а именно к красивому почерку. Вроде бы не нарушались образцы письма, но что-то оригинальное и неуловимое присутствовало в почерке: страницы, строки, буквы, заглавные и прописные, словно были выплавлены и отлиты из голубоватого серебра; содержание написанного возникало как бы с помощью формы и блеска букв.
Ученика видишь во все времена года, – на тонком прозрачном льду, в котором хорошо видны вмерзшие болотные травинки и листья; в зимнем сверкающем лесу, где среди берез, густого осинника и сосен-великанов появилась широкая заячья тропа, ее только что пересек лыжный след охотника; в прошлом году этой тропы здесь не было… Первый весенний гром; первые душистые копны сена… и – лесное эхо работающего на краю поля комбайна. Озерко на болоте, обрамленное пылающими шарами кустарников и ярко-желтыми листьями тонкого березняка, стало виднее, в нем уже никто не купается… Звонче разносится по лесу за деревней лай собак…
Каждый год приезжали в Белую падь учителя из окрестных сел, инспектора из района и области. Сидели на уроках, смотрели, как преспокойно справляется Петр Иванович с двумя классами, не замечая ни учителей, ни инспекторов, изумлялись разросшимся кленам с широкими резными листьями, с крупными желто-красными цветами и гигантскими, под потолок, фикусами, посаженными в пирамидообразные голубые ящики. С какой робостью и восторгом заглядывали на перемене ученики в кабинет учителя, дверь которого, с длинной стеклянной ручкой, была слегка приоткрыта… Школьный двор, просторный, с тенями от берез и кустов черемухи, с высокими поленницами дров, приготовленными к зиме, оглашается голосами ребят, бегающих по зеленой траве…
11Две ночи Володя и младший лейтенант милиции Василий Емельянович дежурили около дома, и никого не было. И все равно спокойствие в доме кончилось. Пока Петр Иванович не приехал с конференции, Александра Васильевна даже днем боялась ходить к колодцу.
С утра Володя проверял амбар, приамбарок, где был погреб, стайку и напоследок осматривал баню. Александра Васильевна обязательно сопровождала его.
Уходя даже на короткое время, она всякий раз теперь замыкала дом. Дальше своей усадьбы никуда не выходила.
Когда печь была истоплена и можно было на часок-другой прилечь, она продолжала ходить по ограде с озабоченным видом, как будто что-нибудь делала, или выносила стул на террасу, садилась и, отдыхая, поглядывала на соседний, Нюрин, огород. За Нюриным огородом, через дорогу в проулке, еще один огород – с разноцветными ульями, дом с такими же разноцветными ставнями, – там живут Петрачок с Петрачихой. Дальше, через падинку, гора, лес, песочные ямы. В сосняке, только поднимешься на гору, новый телятник. На его постройку ушло почти все здание бывшей колхозной электростанции. Свежеобтесанные бревна и драньевая крыша яркими пятнами желтеют из-за деревьев. На Песочной горе тихо, пусто – молодняк на отгонных пастбищах.
Нюра живет одна. В молодости выходила замуж, родила мальчика и оглохла. Мальчик, не прожив года, умер. Через год или два муж бросил Нюру.
Она ходила доить колхозных коров в другой конец деревни, и Александра Васильевна видела ее то рано утром, то в обед, то вечером, идущей на ферму или с фермы. Хозяйство у нее оставалось такое же, как при отце и матери. Нюра накапывала полное подполье картошки, солила бочку огурцов и бочку капусты, держала корову, свиней, кур. Как и раньше, росли на больших грядах горох, морковь, свекла, бобы… Столько же росло на огороде подсолнухов: ими были усеяны межи, вся картошка, и это не считая отдельной гряды подсолнухов!
По проулку, в сторону Саянских гор, шло и ехало много народу. Нюры почти весь день не было, и каждый, кому не лень, мог перелезть через старый покосившийся заплотник. Всего у Нюры насажено было много, и она как будто не замечала поредевших стручков гороха, исчезнувших огурцов, грубо открученных голов подсолнуха… Ей некогда было за всем смотреть, да она ничего и не жалела: когда начинались праздники, Нюра созывала всю родню и соседей, и в ее доме в это время было так же шумно и весело, как и в других домах.
За зиму гости опустошали Нюрины запасы. Весной опять она садила много картошки, делала гряды, поливала их, откармливала свиней, и так же, как у всех, в конце лета по ограде ходила квохтушка с желтыми цыплятами, и Нюра, счастливая, кормила их творогом и размоченным хлебом…
По правую руку от Мезенцевых жила Варка. Первое, что бросается в глаза на Варкином огороде, колодец: сруб хоть и старый, выщербленный, но высокий, чтобы никто не упал в него. В этом краю у Варки и Павла самый глубокий колодец, на дно страшно заглядывать. Зато близко: выйдешь в огород, – и колодец. Длинный журавец на могучем столбе виден из любого конца деревни, с любой дороги, когда подъезжаешь или подходишь к Белой пади. Считается: в Варкином колодце самая холодная и самая чистая вода.
Мост и дорога тоже были под наблюдением Александры Васильевны. Если кто-то шел из леса, она издалека пыталась узнать, кто идет – свой или чужой?
Кто-нибудь сворачивал с моста в поскотину, шел по тропинке мимо огородов. Все это были свои люди – Александра Васильевна узнавала каждого еще на мосту. Человек делал от моста шагов тридцать, перелезал плотную зигзагообразную изгородь, соскакивал вниз и на некоторое время исчезал из виду – шел по глубокой падинке, захваченной от реки камышом и осокой, и неожиданно выныривал напротив Варкиного огорода.
Приехал Петр Иванович – и как будто гора свалилась с плеч Александры Васильевны: пропали страхи, что-то темное и неизвестное отодвинулось от дома – пряталось где-нибудь далеко от Белой пади, а может, исчезало совсем, – ведь не было же никого три дня.
Перед тем как скрыться за лесом и предгорьями Саян, из-за туч выглянуло тяжелое солнце и высветило кухню дрожащими ярко-красными лучами. Мезенцевы по одному подходили к окну взглянуть на закат.
Вечером Петр Иванович рассказывал интересные случаи из своей жизни.
Дементий Лохов, сдав коня сторожу, задержался у старшего сына Сергея и домой шел в потемках. Еще издали он увидел ярко освещенные окна в учительском доме, услышал громкие голоса, смех и догадался, что приехал Петр Иванович.
Пройдя магазин, Дементий свернул на сторону Мезенцевых и теперь шел так близко к дому учителя, что мог коснуться рукой белевшего в темноте штакетника. Свет из окон, глядевших на дорогу, не пробивал густо разросшегося сада, задерживался в его глубине, и сад, освещенный изнутри, казался еще более огромным и таинственным.
Медленно подвигаясь вдоль штакетника, Дементий задел свисавшую над головой черемуховую ветку, обломанную на конце и острую; зацепившись за козырек, ветка, изогнувшись, потянулась за Дементием, сорвалась, резко ударила листьями по соседней ветке. Какая-то птица, собравшаяся заночевать в палисаднике, со страху затрепетала во сне крыльями, затаилась, а затем с шумом вылетела из палисадника.
Смех в доме прекратился, и Дементий услышал густой, легко проникающий на улицу голос Петра Ивановича, как будто говорившего в классе или на собрании.
Ноги сами собой обогнули палисадник и несли Дементия к высоко темневшим воротам с двускатной крышей. Не дойдя до калитки, Дементий взял левее, от угла палисадника до угла учительского амбара прошел по длинной вытянутой полуокружности. В другой бы раз он непременно зашел к учителю, но сегодня – разговор с Колей.
К этому разговору Дементий готовился весь день, пока был в лесу. Кое-какие советы дал Сергей. Пока Сергей говорил, а Дементий слушал, советы были толковые. А вот прошел Дементий по улице – и как будто Сергеевы слова растворились в вечерней темноте, в теплом августовском воздухе, и Дементию хоть садись где-нибудь на скамейке и опять думай.
Он не заметил, как прошел мимо длинной стены сарая, – как будто сделал один большой шаг, – и оказался рядом с Нюриной елкой, нижние ветви которой прикрывали высокий бревенчатый забор. Когда-то собирался здесь табор парней и девчат… Сейчас посидит около ели Арина с Нюрой, присоединится к ним Александра Васильевна, и на этом, кажется, все. Иногда сделают одолжение, придут на лавочку Дедурихины дочки. Бывает, даже запоют что-нибудь, но тут же оборвут песню.
Тихо под елью…
Ступая между высоких изогнутых корней, выходивших на самую дорогу, Дементий сел на лавочку и слился с темнотой, которая особенно была густа здесь, под елью.
Глянул через дорогу на окна своего дома, в одном из них увидел Колю, что-то делавшего за столом. Потом Арина задернула штору, и ничего не стало видно, но Дементию как раз и нужно было увидеть только то, что Коля был дома.
Он посмотрел вдоль деревни, в ту сторону, откуда он только что пришел, и его взгляд невольно задержался на учительском доме: кто-то не закрыл калитку, и окно из ограды желтой длинной полоской смотрело на улицу. И оттого, что калитка была не закрыта и в нее ярко светилось окно, дом Мезенцевых казался еще более праздничным. Ни у кого, считал Дементий, в Белой пади так ярко не горели окна. Казалось бы, ну что тут невозможного: купи две большие лампочки, включи разом – пусть горят! – будет так же светло, празднично… Так же, да – не так! Будет только светло, а остального ничего не будет, и получится, что зря будут гореть большие лампочки.
Опять – и это в который раз! – Дементий не был уверен, что сможет поговорить с Колей так, как нужно. Он знал, что сказанное, даже хорошо продуманное, все равно слабее после того, как скажешь, и сильно, пока не говоришь, а только думаешь об этом.
Кто-то шел по дороге. Дементий пересел на край лавочки, теперь он защищен от постороннего глаза не только темнотой, но и широким стволом ели. По походке, по тому, что в этом краю за Нюрой, через проулок к реке, оставался еще один дом, последний, в котором был мужчина, Дементий узнал в медленно шагавшем человеке Петрачка, своего соседа через дорогу. Несмотря на пожилой возраст, Петрачок был всегда румян, как девушка, доволен собой, сдержанно-весел, и, глядя на него, можно было подумать, что в Белой пади он самый счастливый человек. Видимо, и сам Петрачок так считал, потому что ходил по деревне с большой важностью, никогда и никуда не торопился, хотя и чину-то у него было – ветеринарный техник в бригаде. За много лет у Дементия сложилось впечатление, что главное в работе Петрачка, – бывать в каждом доме на жаренине. Вот и сейчас, конечно, ветеринарный специалист идет из гостей: сыт, пьян и нос в табаке. «Таким бы специалистом и я был», – подумал Дементий, поворачиваясь все более и более вправо по мере того, как Петрачок подходил к своему дому.
В последнее время поговаривали, что образования у Петрачка мало и что его скоро снимут. Такое обстоятельство Петрачка как будто не огорчало: или он привык к своему положению и не верил, что его можно сиять с работы, или, наоборот, считал, что его давно пора снимать, и поэтому держался и вел себя так же, как раньше. Петрачок, поговорив с собакой, встретившей его у дома, проскрипел воротами, и Дементий, как будто это было сигналом, поднялся с лавочки.
Заслышав шаги и покашливание Дементия в сенях, Арина стала налаживать на стол.
Дементий сказал, что ужинать не будет, только чаю попьет – что-то никак не может напиться, – и прошел сначала к столу, где Коля, оглянувшись на отца, снова занялся каким-то своим делом – что-то искал в столе.
Арина два раза допытывалась, точно ли Дементий не будет ужинать, сказала, что чай на плите, и пошла в гости к Мезенцевым, захватив сито, которое она брала четыре дня назад, как раз перед отъездом Петра Ивановича на конференцию.
– Куда это ты? – спросил Дементий, когда Коля начал старательно причесываться у зеркала.
– Пройдусь по деревне. Может, где увижу что-нибудь или услышу.
Садясь около стола на лавку, Дементий так тяжело вздохнул, что Коля, усовестившись, сразу же отошел от зеркала, спрятал в карман пиджака расческу и спросил:
– Уморился?
– Нет.
– А что вздыхаешь?
– Мучает меня один вопрос тридцать два года! И знаешь, кто на него может ответить и точку поставить?
– В школу я не пойду, – сказал Коля, чтобы опередить отца и не попасть на какой-нибудь ловко заброшенный крючок. – Хватит восьми классов. Мы договорились с Володей учиться на шоферов и до армии работать в колхозе.
Школу Дементий приберегал к концу разговора, когда Коля должен был понять «вопрос жизни», который не давал покоя Дементию и который мог разрешить один Коля, и больше никто. Два раза Дементий начинал со школы – и все без толку. И в третий раз приходилось начинать со школы, то есть вынуждал Коля. Снова упрется, как в первый раз и во второй, а потом и «вопрос жизни» не поможет… Будет отвечать, как отвечал раньше, Дементий начнет сердиться, не удержится, схватит что-нибудь, вот тебе и культурный разговор будет! Не-ет, не зря все эти дни размышлял Дементий и кое-что придумал!
То, что придумал Дементий, вроде как и придумывать не нужно было, – оно всегда жило в нем, только не было видно, пряталось где-то глубоко и лежало там, как на дне глубокого колодца, дожидаясь своего часа. Можно все сделать, только не надо бояться этого чувства, уговаривал себя Дементий, им только нужно воспользоваться, а не заглушать в себе, как это он чаще всего делал.
Коля не узнавал отца: если бы отец рассердился, закричал, дернул бы за вихор или крутанул за ухо, было бы понятно, и на этом бы все кончилось… Ну, пусть бы погонял еще немного… А то он как будто радовался чему-то…
Дементий наконец поверил, что справится, с чего бы не начался разговор, – со школы или с «вопроса жизни», потому что и то и другое было связано, одно вытекало из другого. Любой ценой Коля пойдет в школу, и возлагалось на него закончить не восемь, а десять классов, и учиться потом не на шофера, не в техникуме, а в институте.
Дементию нельзя было останавливаться, и он говорил, говорил и говорил, стараясь исчерпать «вопрос жизни».
Потом он спросил у Коли:
– Нравится тебе, когда дети Петра Ивановича приезжают домой из города?
– Нравится.
– А мы ниоткуда не приезжаем…








