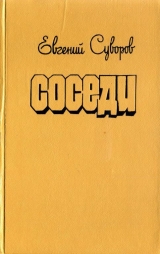
Текст книги "Соседи (сборник)"
Автор книги: Евгений Суворов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц)
Коля и Володя поднялись до половины пологой горы, желтой от песка и глины, изрезанной после дождя частыми колеями.
Слева, из густого ельника, на таежный тракт выходила глубокая лесная дорога; ее последний изгиб перед трактом делился на несколько мелких тропинок и заканчивался длинной узкой канавой, заросшей сосняком и кустарником. При заходе в лес одна из тропинок огибала старую яму, в которой когда-то брали плитняк для каменок в банях. Яма с годами делалась мельче, но все еще была глубокой. На дне ямы даже в сильную жару вода не высыхала, и оттуда тянуло холодом и сыростью. Пологие края захватили кустарники, ближе к ржавой воде росла желтовато-красная реденькая трава.
В детстве ребята боялись глубокой и страшной ямы. Возвращаясь из леса с ягодами или грибами, они всегда около ямы прибавляли шагу… Теперь это были ушедшие навсегда страхи, и все же Володя и Коля незаметно следили друг за другом: каждый из них знал старую привычку подталкивать на краю ямы. Следя друг за другом, они не выдержали, рассмеялись и побежали от ямы, работая согнутыми локтями и оглядываясь, точь-в-точь как раньше, когда им было по пять, шесть, семь лет…
Дорога часто изгибалась, была засыпана сосновыми шишками. В лужах отражались трава, деревья и небо; по краям отпечатались следы тележных колес и резиновых сапог – кто-то до обеда побывал в лесу и вернулся в деревню. В глазах рябит от брусничника, прячущего под глянцевитыми панцирями листьев красные брусничины. Кусты голубики зовут к себе кой-где сохранившимися переспелыми холодно-синими ягодинами. Зайдешь – и ягод не наешься, и время потеряешь.
Справа, перед Шкуратовым покосом, стало светлеть небо за деревьями. Ребята свернули на едва приметную в густом ольшанике тропинку и скоро вышли на лесное болото, охраняемое лиственницами-великанами. Одна из лиственниц расколота грозой, издалека видна ее красная сердцевина. Тихо. Сумрачно. Прокричала желна. Молча перелетел на другую лиственницу, подальше от людей, ворон. До этого он внимательно прислушивался к лесным звукам и шорохам, доносившимся из глухой пади с мелким засохшим лесом, который был завален когда-то росшими здесь огромными деревьями. Только так кажется, что здесь тихо. Не мало драм разыгрывается на болоте и в его окрестностях: во многих местах лежат кучи перьев, большие и маленькие кости.
Эти двое не опасны для ворона, но… нельзя доверяться слишком, и ворон перелетел на лиственницу с более густой кроной. Засохшая толстая ветка была очень удобной: ворон, как только сел, сразу же укрепился на ней, пригнул голову и, невидимый, продолжал наблюдать за людьми.
Лесное болото сверкало маленькими чистыми озерками.
Ребята ходили по мягким, изумрудно-коричневым кочкам, насобирали в ведре на толстое дно красно-белой клюквы. Они бы еще собирали, но вдруг со стороны Шкуратова покоса в кустах затрещало, ребята увидели, как закачалась верхушка тонкой березки, и все стихло.
На болото несколько раз наведывался медведь. Правду говорили или кому-то ягод было жалко, но лучшее, о чем подумали и Володя и Коля, это дать стрекача на дорогу, добежать до Каменной ямки, а там никакой медведь не страшен – близко деревня. Показывать свою трусость никому из них не хотелось, и они, хорошо видные со всех сторон, стояли на болоте, ожидая, кто выйдет: человек или зверь? Они снова начали собирать клюкву, и в это время из кустов раздалось:
– Вы что здесь делаете?!
Опоясанный бичом, в самошитных ичигах на болото вышел пастух Яков Горшков. Ребята ждали, когда он подойдет к ним, и заранее побаивались: Яков – мужик строгий.
– Рано, однако, клюкву собирать, в сентябре надо, – сказал Яков, заглядывая в ведро.
– В сентябре от нее одни следы останутся! – ответил Коля.
– Это правда – одне следы, – согласился Яков. – Но ниче, я вам скажу, где много клюквы: на Третьем Индоне! А здесь пускай маленькие ребятишки с бабами собирают.
– Дядя Яша, коров потеряли?
– Потерял.
– Помочь вам?
– Если делать нечего, помогите. Только за мной не успеете, я быстро.
– Успеем!
Яков, мужик хоть и строгий, но веселый, даже в соседних деревнях известен своим замечательным качеством: его никогда не огорчала неудачная охота. На привале он готовил на вертеле подстреленную кем-нибудь из охотников ворону, дятла или сойку и под дружный хохот односельчан, похваливая, съедал жаркое. Об этом его умении поджарить и съесть самую погань, «лишь бы птица была», как любил говорить Яков, знали в деревне все до единого. Те, кто был с ним в близких отношениях, имели право шутить по этому поводу, и, что было не менее удивительно, Яков не только не обижался на шутника, а самым искренним образом смеялся вместе с ним. Закончив смеяться, он, например, вполне серьезно говорил:
– А ты хоть раз пробовал сорочье мясо? Под голодком будешь, от рябчика не отличишь! Я все это на практике знаю, а не с чужих слов!
Отбившихся от стада коров они нашли около Второго Индона. Коровы перешли сухое болото и паслись около узкой и глубокой речушки, сверкавшей у самого подножья Марьиных бугров, возвышающихся над болотом несколькими уступами. Вверху каждого уступа, прерываемая поваленными в несколько этажей деревьями, была тропинка, выходившая на главную тропинку, петляющую по краю леса вдоль болота. Такая же главная тропинка, только более проторенная, была и по другую сторону болота.
Втроем они легко перегнали коров через болото, и на Шкуратовом покосе, около дороги, сели отдохнуть.
– А правда, – спросил Коля, – что дед Аким из-за учебы хотел тебя застрелить?
– Меня-то? – Яков посмотрел на Колю и на Володю, как бы решая: имеют ли они право задавать ему такой вопрос? И, не без значительности, ответил: – Было дело. – После небольшого молчания Яков, оправдывая и себя и Акима сказал: – Вам-то что не учиться! Те годы с теперешними и сравнивать нельзя! Хотя нам-то, Горшковым, легче маленько было: отец старый был, в армию его не взяли.
Ребята уговорили Якова рассказать, так как знали эту историю смутно и не от самого Якова.
Все сыновья Акима Горшкова (дочерей у него не было) дальше четвертого класса учиться не хотели. Чего только в войну не делал старик Горшков: самому младшему, Яшке, купил велосипед, патефон. Попросил Яшка матросскую форму, – на тебе форму! В Черемхово на базаре достал. Бескозырка была самая настоящая, корабельная!
Надел Яшка матросскую форму, ходит по деревне матросом, а учиться не хочет. Тогда Горшков пошел на крайнюю меру. Очень уж ему хотелось, чтобы сын вырос грамотным. Сам Горшков, как он считал, всю жизнь в темноте прожил, даже читать путем не умел, так пусть хоть сын покажет, на что способна Горшкова родова.
Надо заметить, единственная книга, которую осилил Аким до конца, была повесть Гоголя «Тарас Бульба». И так как это была единственная книга, прочитанная до конца, то Аким Горшков и считал, что это самая лучшая книга. И что бы ему ни говорили, Аким, не колеблясь, отвечал:
– «Тараса Бульбу» знаешь? Нет? Прочитай, тогда говорить будешь! А сейчас тебе говорить со мной нечего!
Одним словом, старшие Яшкины братья сумели отговориться от учебы, а Яшке не повезло, да и время такое наступило – учиться все стали.
Дело было в сентябре. Несколько дней кряду дождик как раз сыпал, мелкий, с туманом, не поймешь – середина дня, утро или вечер. В общем, погода для Акима самая подходящая – ничего никому не видно, не слышно… Как потом говорил Аким, ненастье на него повлияло: маялся он, маялся от безделья, от дождя монотонного и надумал проучить стервеца Яшку как следует.
Пришлепал откуда-то Яшка мокрый, как лягушонок, раскисла на нем вся матросская форма. А надо было ходить ему в пятый класс.
– В школе был? – сурово спросил Аким, зная, что ни в какой школе Яшка не был.
– Какая школа, всю дорогу расквасило! – нудным голосом попытался оправдаться Яшка.
– Где был? – не отступался Аким.
– В зароде играли.
– Кто разрешил?
– Никто. Надо же где-то прятаться.
Яшка ничего не боялся и никогда не врал: глаза выпучит, рот откроет – и слова сыплются, как из пулемета. Уж на что Аким бывал скор на расправу, и то не удержится, разулыбается: сын-то, Яшка, за словом в карман не лезет! Это уж точно, старших братьев, туды их растуды, обскачет! Но оказывается, и самый младший дальше четвертого класса двигаться не хотел.
Аким снял со стены ружье, заложил в него патрон с картечью и говорит:
– Переоденься в сухое, и пойдем.
– Куда? – обрадовался Яшка. Он готов был идти в любой дождь в любую грязь куда угодно, только бы не учиться.
Аким рассердился:
– Чего обрадовался?
– Люблю ходить по дождику!
– По дождю любят ходить дураки.
– Ну и что, мне дураком хорошо.
– Этому тебя в школе учили?
– Нет.
– А чего болтаешь?
– Я не болтаю. Ну пошли, что ли. Чего стал? – сердился Яшка на мешкавшего отца.
Аким не замечал, как включался с Яшкой в словесное состязание, прибегая нередко к запрещенным приемам, – мог щелкнуть Яшку по затылку или рвануть за ухо. Этот прием отца Яшка знал в доскональности и, быстро отвечая, не менее быстро увертывался от щелчков и оплеух.
На этот раз словесный поединок никто не выиграл – ружье, которое Аким все время держал в руках, несколько отвлекало Яшку. Отец прикинул, как увеличатся его шансы на улице, и он бодро махнул прикладом ружья, указывая на дверь. Яшка, оттолкнув приклад, снисходительно глянул на отца и, не торопясь, вышел в сени. Отец, не опуская ружья, шагнул за ним следом.
– Подними ружье! – приказал Яшка. – Иль повесь на плечо, я не арестованный.
– Шагай-шагай.
– Подними ружье, кому сказано!
– Я тебе сейчас подниму. Кричишь, чтоб соседи услыхали? Где же твоя смелость?
– Куда идти? – пренебрежительно спросил Яшка.
– К зароду.
Яшка, не разбирая, сначала по самой глубокой луже, а потом по самой большой грязи направился к зароду.
Аким не выдержал:
– Дороги не видишь, лезешь то в грязь, то в воду?
– Хочу и лезу, – огрызнулся Яшка. Он развязал ворота, хмуро глянул на отца. – Вперед пойдешь, что ли?
– Драпануть хочешь?
Яшка, не удостоив отца ответом, пошел, слегка согнувшись, вперед. Но тут же он вспомнил, что красные идут на расстрел с гордо поднятой головой, и он пошел на расстрел в точности так же. Пройдя шагов двадцать и оглянувшись, точь-в-точь как оглядывались красные, он, не останавливаясь, предупредил отца:
– Будешь стрелять, скажешь, я не люблю, чтобы мне стреляли в спину.
– Ладно, – пообещал отец.
Яшка шел так, будто руки у него связаны за спиной. Ни то, как шел Яшка, ни то, как он держал руки, Акиму не понравилось, и он скомандовал:
– Поднять руки вверх!
Находясь в наивыгоднейшей позиции, Аким не ожидал от сына новой дерзости: Яшка, продолжая шагать к зароду, все так же, не оглядываясь, вытянул назад правую руку и показал отцу сложенную по всем правилам фигу. В другой бы раз Аким изловчился и треснул Яшку по пальцам, но сейчас надо было дойти до места без тычков.
– Стой! – скомандовал он Яшке.
– Не дошли еще, – ответил Яшка. Он нехотя остановился среди мокрого зеленого луга, медленно оглянулся и, сожалея, что все скоро кончится, сказал: – Около зарода интереснее.
Аким зашел вперед Яшки, отпнул подальше в сторону увесистый белый голыш и укоряюще произнес:
– За тобой если не смотреть, схватишь голыш и залепишь родному отцу в голову.
– А ты не лезь первый.
Не дожидаясь разрешения, он двинулся к зароду. Аким с ружьем наперевес поспешил за сыном, ругаясь, что тот пошел без команды. Яшка шел нарочно медленно и соображал, что лучше: быть до конца смелым или, пока не поздно, дать стрекача? И еще одно соображение удерживало его от позорного бегства: Яшка верил, что в последний момент, когда отец прицелится, запоет труба, налетят всадники, отец оглянется – и в эту секунду один из всадников на скаку выхватит у отца ружье…
Яшка подошел к зароду, выбрал травянистый бугор, встал повыше, вглядываясь, не покажутся ли с какой-нибудь стороны красные. Но ниоткуда не было слышно пения трубы, лошадиного топота, и он вздохнул. Отряд явно запаздывал.
– Руки вверх!
Щурясь, Яшка с ненавистью посмотрел на отца и хриплым, не своим голосом ответил:
– Красные не сдаются.
Аким опустил ружье.
– Это ты красный, полная тетрадь двоек?
– Стреляй-стреляй, – сказал Яшка, и в его голосе Аким почувствовал угрозу.
В это время старуха соседка, Кирпичениха, вышедшая по нужде на улицу, поднялась из крапивы и крикнула:
– Ты что делаешь?!
Аким чуть не выронил ружье. Он увидел старуху, перелезавшую через прясло, потерялся совсем и не знал, что делать. Старуха, воспользовавшись заминкой, подошла к Акиму и без особых усилий разоружила его.
– Старый ты треснутый горшок! – ругалась старуха, волоча за собой ружье. Другой рукой она удерживала Яшку, который не знал, как поступить: вырваться из цепких старухиных клешней и подойти к отцу или подчиниться старухе, которую такой смелой он еще ни разу не видел? Оглянувшись, Яшка замешкался, и старуха сильно дернула его в свою сторону так, что Яшка едва не растянулся на мокрой и скользкой траве.
Подведя Яшку к пряслу, старуха пихнула ногой ружье, оставив его на горшковом огороде, а Яшке скомандовала:
– Лезь через прясло! – и выпустила его руку. Яшка перелез и кинулся бежать и от отца, и от старухи.
Аким обошел вокруг зарод, подбил снизу клоки сена, растеребленного ребятишками, подобрал ружье, валявшееся под пряслом, и, провожаемый суровым старухиным взглядом, поплелся домой, ругая себя и старуху, которой приспичило выйти на улицу именно в это время.
Случай этот всеми троими – Акимом, Кирпиченихой и Яшкой – рассказывался по-разному. Как самый правдоподобный воспринимался старухин рассказ: Горшок, не зная, как заставить сына учиться, повел его на огород и хотел застрелить, а старуха оказалась рядом и спасла Яшку. Позднее в старухин рассказ Яшка внес некоторые изменения, и дальше эта история рассказывалась так, как требовал Яшка.
Он так и не пошел больше в школу. Вырос и безвыездно жил в своей Белой пади. Его дети, двое старших, закончили по восемь классов и уехали дальше учиться. Младшие, еще двое, звезд с неба не хватали, но и отца не подводили: учились себе потихоньку и учились, и Яков был спокоен за них так же, как за двух первых.
9Жизнь в Белой пади без Петра Ивановича не была полной. И если находились в ней люди, которые с успехом могли что-то делать без Петра Ивановича, будто его не существовало на свете, то, по крайней мере, эти люди составляли меньшинство. За тридцать два года пребывания в Белой пади он настолько вошел в жизнь каждого дома, что даже короткое отсутствие Петра Ивановича чувствовалось.
Да и самого Петра Ивановича, – куда бы и насколько он не уезжал, очень скоро начинало тянуть домой.
На этот раз в особенности ему казалось, что даже за три дня в деревне может случиться что-нибудь, что без него никак нельзя будет, что ему непременно нужно быть дома, что все будет и произойдет без него не так, как должно произойти.
Конференция шла первый день. Было приятно, когда его узнавали учителя из других деревень, которых он, казалось, или не знал совсем, или забыл. Происходила сцена узнавания, припоминались подробности знакомства – и Петр Иванович снова и снова видел, что людям приятно, что они знакомы с ним, и острее чувствовал, что жизнь в главном шла у него верно. Конечно, если бы вернуть лет тридцать – сорок, то Петр Иванович кое-что улучшил, учел бы те моменты, где он промахнулся. Но и так все шло хорошо.
Огорчал его Володин поступок.
Первый раз он вспомнил о Володе, когда заведующий районо читал доклад о всеобуче. Петр Иванович ждал того места в докладе, где о нем должно упоминаться как об одном из опытнейших учителей района. Еще ни разу не было, чтобы имя Петра Ивановича не прозвучало из доклада, и, волнуясь и не показывая своего волнения, только слегка пересев, как будто ему неловко было сидеть, он и на этот раз услышал свое имя, и снова, как прежде, оглядывались в его сторону молодые и старые учителя, улыбаясь ему и молча поздравляя, – но впервые Петр Иванович не ощутил той радости, которая была раньше. Он провел ладонью по коротким синевато-серебряным волосам, обрамляющим широкую лысину с затылка, тяжело наклонился вперед, так, что стул не выдержал и скрипнул, а Петр Иванович продолжал сидеть в такой позе, будто что-то уронил и внимательно разыскивал на полу глазами. Не меняя позы, он исподлобья долго, не отрываясь, смотрел на заведующего, читавшего доклад страстно и непримиримо, и невольно сравнивал чтение доклада заведующим с обвинительной речью прокурора.
Петру Ивановичу казалось: хоть заведующий читает доклад и в зал взглядывает редко, но когда он взглядывает, то успевает увидеть лицо каждого и подумать о некоторых сидящих: а годятся ли они для работы, может быть, их надо заменить? И все сидели с хорошими праздничными лицами, и, глядя на эти лица, невозможно было определить – у кого из них какие-нибудь дела идут совсем плохо?
Петр Иванович глянул на себя со стороны, глазами заведующего, понял, что сидеть согнувшись, с кислым видом нельзя, – и он рывком сел прямо, и его серебряная голова с поблескивающей лысиной стала видна всему залу.
Второй раз он вспомнил о Володе, когда конференция кончилась. День был на редкость жаркий, не хотелось ни двигаться, ни о чем думать. Было желание сесть на первую попавшуюся в тени скамейку, расстегнуть воротник и сидеть, но он тут же победил в себе это желание – сделал движение локтями назад, как бы расправляя грудную клетку, побольше набрал в легкие воздуха, раздувая щеки, медленно выдохнул и прибавил шагу.
Во дворах на помойках гудела с тонкими перезвонами мухота, и от ее гудения, монотонного и липкого, казалось еще жарче и хотелось пить. Петр Иванович ступил с высокого тротуара на раскаленную землю, пересек Московский тракт, сделавшийся от частого подсыпания песка и гравия каменным, и вдоль заборов по пыльной траве с редкими кустами белены и крапивы двинулся было к себе на квартиру, чтобы в самую жару полежать в прохладных сенях на старой железной кровати с досками вместо пружин, а уж потом собираться домой.
Мимо Петра Ивановича, перескочив через забор, к киоску легкой и красивой походкой направлялся молодой человек в форме курсанта военно-морского училища. Петр Иванович, не скрывая восторга, посмотрел вслед курсанту. «Если он встанет в очередь, тогда и я подойду… Пить хочется!» Курсант встал в очередь. Петр Иванович подошел к киоску, занял очередь и сразу же отошел к углу киоска, облокотился о дощатый выступ и, отдыхая в таком положении, не отрывал глаз от курсанта и в особенности от его формы. Даже в тени стоять было жарко, и Петр Иванович снял кепку.
Никакого действия, казалось, жара не оказывала на двух человек – на молоденького блестящего курсанта, который стоял в очереди как будто для того, чтобы его хорошенько могли рассмотреть. Другим человеком, не обращавшим на жару никакого внимания, был старик татарин, живший неподалеку от киоска, рядом с фотографией.
Каждый раз, приезжая в райцентр, Петр Иванович видел его сидевшим на одной и той же скамейке около длинного, приплюснутого к земле дома, и всегда с одним и тем же выражением лица: а не случится ли сейчас что-нибудь интересное на улице! Старику ничего не делалось: голова его на толстой и крепкой шее время от времени запрокидывалась к небу, и было удивительно, как держалась на его стриженой голове разноцветная тюбетейка. Казалось, на нем была та же, что и все годы, темно-серая рубаха, застегнутая на все пуговицы, те же рабочие ботинки, та же тюбетейка… Красноватая щетина оставалась красноватой, глаза блестели так же зорко и весело, как будто он стоял не за квасом, а ради развлечения.
Напившись, курсант, к окончательному восторгу Петра Ивановича, достал из кармана сложенный вчетверо белоснежный платочек, вытер губы, положил платочек в тот же самый карман. Оглянувшись в обе стороны, он пересек тракт, по которому с шумом проносились машины, и зашагал по тротуару с той удивительной легкостью и значением, будто новый тротуар был сделан для того только, чтобы по нему, приезжая в отпуск, ходил розовощекий молоденький курсант. Петр Иванович смотрел ему вслед с видом человека, выпустившего нечаянно из рук жар-птицу.
Курсант и квас хорошо подействовали на Петра Ивановича: шагалось легче, голову держал он выше и вовсе не был похож на разморенного жарой человека, хотя только что, до встречи с курсантом, Петр Иванович едва передвигал ногами. Желание полежать в прохладных сенях, пока не спадет жара, исчезло.
Он вспомнил, что не купил Володе ни костюмчика, ни ботинок, ни портфеля, и еще более утвердился в мнении, что правильно сделал, что не купил.
«Пусть то износит… Сейчас идти на поводу, а что будет через два, три года?»
Окончательно оформлялась у Петра Ивановича и другая мысль, которая была у него, казалось, всегда: Володя непременно будет учиться в военном училище. В семье Мезенцевых это будет третий офицер. А всего в ближней и дальней родне Петра Ивановича одиннадцать военных. Вспомнив, сколько в его родне военных, Петр Иванович подумал:
«Если кто-то ходит вокруг дома с серьезным намерением, то все равно не тронет – побоится».
Держа туго набитый, почти круглый портфель под мышкой, Петр Иванович, длинно размахивая свободной левой рукой, вдохнул с огородов запах вянущих трав, приободрился еще более, и его неудержимо потянуло домой, в Белую падь, где все было лучше, – и трава, и вода, и хлеб, и воздух…
Пока он перекладывал на квартире из портфеля в сумку часть книг для себя и для Володи, кое-каких мелких покупок для хозяйства и гостинцев, из головы не выходило одно и то же: как там на Белой пади?
Пришел хозяин дома, Анисим. Когда-то работал он в районной милиции. Мог бы дослужиться до начальника милиции, исполнителен был и строг, но из-за болезни оставил службу. Жил на пенсию и подрабатывал в какой-то конторе переписыванием каких-то бумаг. Петр Иванович как-то спросил Анисима, что у него за работа, но тот тоскливо махнул рукой, и Петр Иванович больше не спрашивал.
Анисим был моложе Петра Ивановича лет на десять, а выглядел старше и был похож на сморщенный соленый огурец.
«Да-а, – подумал Петр Иванович, глядя на Анисима, – был красавец, а теперь одна кожура осталась…»
– Приезжай-ка ты в деревню, – прощаясь, говорил Петр Иванович. – Моя старуха тебя парным молоком отпоит. Воздух сосновый! Приезжай!
Анисим смотрел на Петра Ивановича с таким видом, будто не сегодня-завтра собирался на кладбище, и на приглашение старого приятеля едва-едва кисло улыбнулся.
– Лучше ты заезжай, когда будешь, – сказал Анисим. – Тебе по пути. – И он улыбнулся одними морщинами.
Петр Иванович шел «на угол», где останавливались машины, и никак нынешний Анисим в гражданской одежде не укладывался в его голове с Анисимом, который был раньше.








