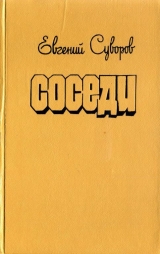
Текст книги "Соседи (сборник)"
Автор книги: Евгений Суворов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 22 страниц)
После разговора об Ушканке был обсужден поступок младшего лейтенанта милиции Василия Емельяновича – что заставило его стрелять в доме у Лоховых?
Петр Иванович считал, что не было в этом никакой необходимости, участковый только себя скомпрометировал. Если Дементий простит, тогда другое дело, а если рассердится и сообщит куда следует, то для Василия Емельяновича это может плохо кончиться. Участковый дал возможность говорить о себе кому как вздумается! Получалось, что он только тем и занимался, что стрелял из пистолета в чужих избах…. Петр Иванович жалел участкового, но в то же время не мог простить его за необдуманный поступок: подозревать в чем-то подозревай, а стрелять – не имеешь права.
– В таком деле, – говорил он, – ошибок не должно быть, народ таких ошибок не прощает.
Участковый, как только набедокурил, зашел к Петру Ивановичу и рассказал, как было дело. Он сразу же согласился с Петром Ивановичем, что стрелять не надо было, но что-то такое, настаивал участковый, сделать надо было. И он для устрашения сделал…
Похоже было на то, что Василий Емельянович, имея пистолет, куражился, тем более заложил у Дементия за галстук… Дементий тоже хорош: обязательно надо оглушить человека водкой! Земляки-то земляки, соседями были на Татарской заимке, – но нельзя же забывать, что человек находится при исполнении служебных обязанностей… И участковый виноват: мало ли сколько и чего не подадут, а ты – не пей! Так что, если разобраться, Дементий тут ни при чем: его дело угощать, а участкового – отказываться.
Было за полночь, когда Яков рассказал о том, что они видели с Дементием на Ильиной заимке, недалеко от которой пасли сегодня коров.
Дементий на днях проскакивал на Ильинку, но никаких следов чужого человека не обнаружил: в пустой избе с широкими нарами давным-давно никто ни к чему не притрагивался; воду из колодца как будто тоже никто не доставал…
Яков был удивлен тем, что увидел на Ильиной заимке сегодня. Еще издали он почувствовал какую-то перемену на заимке: чем-то непохожей показалась ему изба с односкатной крышей, что-то было не так, и только Яков не мог понять – что именно? Вблизи он сразу все понял: кто-то выставил в избе рамы; они хоть и без стекол, но придавали более уютный вид, а сейчас изба казалась ограбленной.
Яков зашел в избу. На него пахнуло затхлым, нежилым духом, глиной и кирпичом – от размокшей и полуразвалившейся плиты…
Он вышел из избы, не найдя там никаких особенных следов, не считая того, что на оконных переплетах увидел свежие коричневато-белые царапины: кто-то вынул рамы недавно.
Таких маленьких рам в домах на Белой пади теперь не было, и Яков подумал: кто-то взял рамы для стайки или бани. Он прикинул, кто из белопадцев мог взять рамы, и, точно не зная кто, ругнул сразу всех.
Потом на Ильинке побывал Дементий. Он разглядел: нары не так чтобы грязные, даже, можно сказать, чистые; на полу, напротив изголовья, если хорошо приглядеться, папиросный пепел, а в ногах на нарах кусочки грязи – кто-то лежал и курил! И нигде ни одного окурка не брошено, вот что интересно! Куда, спрашивается, девались окурки? Не в карман же тот, кто курил, складывал? А если в карман, то зачем? Кому понадобилось отдыхать, а может, и спать ночью на заимке?
Перед тем как зайти к учителю, Яков встретился на Ушканке с бригадиром, возвращавшимся на своем Воронке с Харгантуйских полей. Дороги за Длинным мостиком плохие, и бригадир ездил по корням и ямкам, а кое-где и по болоту не на мотоцикле, а на ходке или верхом. Сегодня он ехал с полей на ходке, и Яков, пока они стояли на Харгантуйской дороге, любовался сбруей на Воронке, которую бригадир выменял в прошлом году у цыган.
Не замечая нетерпения Воронка, не желавшего стоять на месте, бригадир говорил с Яковом, время от времени молча натягивая новенькие ременные вожжи. Каждая медная бляшка на Воронке – крестики, кружочки, звездочки – были натерты до блеска, от многочисленных солнц на шлее и уздечке рябило в глазах.
Похвалив Воронка и в особенности цыганскую сбрую, Яков спросил у бригадира (в это время бригадир старательно счищал грязь с копыт Воронка), не давал ли он кому-нибудь из колхозников задание сменить в избе на Ильинке старые рамы.
– Зачем их менять, – ответил бригадир после того, как закончил счищать грязь с переднего копыта Воронка. – Пускай Игнат застеклит, и они еще пять лет простоят!
– Рамы утащил кто-то, – сказал Яков.
– Как утащил? – не понял Михаил. – Вчера рамы были, своими глазами видел.
– Значит, кто-то утащил после того, как ты уехал. Сегодня с утра их уже не было.
Оглядывая молчаливый лес, в котором не слышно было ни одной птицы, Яков сделал решительное и глубокомысленное лицо, как будто речь шла не о трех рамах, а о трех тысячах, которые они только что потеряли с бригадиром в лесу, и он не знал, в какой стороне их искать.
– Совсем нет рам? – переспросил Михаил.
– Я на сарай заглянул, по кустам проехал посмотрел, по лесу около дороги – нигде не видно. Куда они девались…
– Кому они нужны, – не дослушав Якова, сказал бригадир. – Это, точно, баловался кто-нибудь. Ну, возьмусь я за этих ушканских! – начал сердиться бригадир, но тут же раздумался. – А может, Игнат без моей команды решил новые рамы вставить? Так нет, когда ему: с утра до вечера на овощехранилище, там работы еще на неделю хватит. Я ему про избу ничего не говорил…
– Вот и я думаю, – сказал Яков.
– Ну, дела! – Бригадир неожиданно засмеялся. – Что ни день, то новость! Вчера Ковалев поймал меня на раскомандировке и давай жаловаться:
«Ищи, – говорит, – другого сторожа».
«В чем дело?» – спрашиваю.
«Заболел».
«Что-то, – говорю, – не видно, что-то не похоже, чтобы ты заболел».
«Что я, – говорит, – должен лежать перед тобой? У меня в груди что-то ломит».
Я ему отвечаю:
«Это у тебя, дед, от страху».
«От какого, – говорит, – такого страху? Я сроду никого не боялся!»
Смотрю, куда у деда болезнь девалась: раскричался, раздухарился… Я на попятную пошел, дед – на меня:
«Отвечай, – говорит, – где и кого я боялся? Я месяц выходил из окружения! Имею благодарность от самого маршала Малиновского!»
Ну, я и сказал:
«Позавчера доярки никак не могли до тебя достучаться – закрылся в красном уголке! В окно заглянули, а ты спишь с ружьем в обнимку!»
«Задремал перед утром. Посиди-ка да походи вокруг фермы ночь не спавши!»
«А я, дед, слышал, что ты не вокруг фермы ходишь, а возле красного уголка!»
Дед насторожился:
«А кого мне бояться?»
«Ну, этого, – говорю, – который ходит».
«А ты, – говорит, – его хоть раз видел? Нет? И я не видел».
Я деду вопросик:
«Чего же ты закрываться стал?»
Дед отвечает:
«Надо часок утром придремнуть. Дома спать некогда, да и ребятишки не дадут».
«Неужели ты, дед, за ночь на ферме не высыпаешься? Неужели тебе ночи не хватает?»
«Раньше хватало. Два-три раза прогуляюсь по ферме, сделаю проверку, чтоб корова какая не залезла куда и не задушилась, – и на боковую!»
«А сейчас?»
Тут дед и признался начистоту:
«А кто его, думаю, знает: вдруг зайдет ко мне? Вот и сижу ночь, и хожу – и по ферме, и за фермой. А ну, как возьмет да подожгет! Что тогда?»
«Будешь, – говорю, – спать, дед, он тебе, этот мужик, ночью твои гвардейские усы опалит!» Все хохочут, а деду понравилось, что я его усы гвардейскими называю. Я помню, он после войны долго гвардейский значок носил! Ну, дед уже не одному мне, а всем отвечает:
«Вот и не сплю, а иначе какой же я гвардеец!»
«Будешь сторожить?» – спрашиваю.
«Буду, – говорит, – а куда денисся!» Беда мне с этими стариками! И смех, и грех! А Дементий, что толкует про избу на заимке? – спросил бригадир у Якова. – Он старый охотник, от него ничто не ускользнет.
– Дементий мало говорит, он сейчас молчком смотрит, – ответил Яков.
Бригадир понял, что имел в виду Яков, и засмеялся совсем по-мальчишески и беззлобно.
– Ну да, его участковый погонял, он теперь долго будет оглядываться! Как думаешь, – спросил Михаил, – зачем он стрелял у Лоховых?
– Это надо с Василием Емельяновичем поговорить, – уклончиво ответил Яков. – На то у него были какие-то свои причины, я откуда могу знать.
– Я смотрю, все такие дипломаты стали! – громко сказал бригадир, взглядывая на Якова. – Кого ни спросишь, никто ничего не знает!
Яков, стоявший на дороге, как будто ждал этих слов, как будто они были сигналом для чего-то: сел в ходок рядом с бригадиром и, удерживая своего Гнедка, в поводе, сказал:
– Если на Ильинке ночевал тот мужик, то, как думаешь, мог он выставить рамы?
Бригадир посмотрел на Якова неузнавающим взглядом.
– А зачем ему выставлять рамы?
Яков объяснил:
– Чуть что, можно выскочить! Люди в избу, а он – в окно и в лес!
– Ты, Яков, как профессор рассуждаешь! На кой леший ему выставлять рамы? Можешь ты мне толком объяснить?
– Я сказал: чтобы легче убежать было!
– Вы с Дементием как сговорились! За рекой кто-то ходит, за Длинным мостиком и в Листвяках – ходит! За фермой – ходит! За Песочной горой кого-то видели. На Ильинке… Вас послушать, вечером по нужде на улицу побоишься выйти!
– Один и тот же воду мутит, – нисколько не сомневаясь, сказал Яков. – Мы ему спокойно не даем сидеть ни в балагане, ни на заимке. Пасем коров то в одном, то в другом месте, – вот он и бегает взад-вперед!
Бригадир сердито вскрикивает на Воронка и резко дергает вожжи, сильно натягивает их – так, что Воронок круто выгибает шею. От того места, где бригадир с Яковом начали разговор, Воронок отошел метров на двадцать и остановился как раз у самой лужи – с травой по краям, чистой и от этого казавшейся глубокой.
Бригадир, пока они сидели в ходке с Яковом, никак не мог выбросить из головы странную мысль: может, Яков ходит около дома учителя?
Бригадир понимал, что эта мысль вздорная, но она лезла и лезла в голову, и он ничего не мог поделать с этим. Стараясь избавиться от этой мысли, он отодвинулся от Якова, как будто давал ему побольше места.
Яков сел свободнее, вобрал голову в плечи и медленно, по-ястребиному, оглянулся. Упрек бригадира, что Яков как будто в чем-то виноват, казался ему незаслуженным. Яков даже в анекдот попал из-за этого мужика! Жена, как узнала про случай в бане, на весь дом скандал закатила! Яков два часа объяснял, что не было у него никакого греха с Фениной дочкой. Жители Белой пади, особенно родственники Котовых, стали коситься на Якова… Хоть выступай на бригадном собрании и объясняй всем сразу!
От Мезенцевых Яков вышел в первом часу ночи.
Как только Петр Иванович простился с ним на террасе и исчез за дверью, Якову стало неприятно, что он допоздна засиделся в доме учителя. С крыльца он спускался медленно, как будто заносил ногу не над ступенькой, а над пропастью. И дело было не в том, что он плохо видел или совсем не видел ступенек, – на террасе горел свет, – Яков вдруг подумал, не притаился ли тот, о ком они говорили весь вечер, за террасой у камня или где-нибудь в ограде, или на огороде, и он, пока спускался по освещенным ступенькам, изо всех сил смотрел в темноту за крыльцом.
Яков знал, что об камень – валун, лежащий за террасой, убился Лаврен Чучулин, когда его пришли раскулачивать, и Якову казалось: как только он спустится с крыльца, кто-то зловещий выскочит из-за камня и нападет на него. На всякий случай он был наготове.
Петр Иванович гулко прошел по коридору, открыл и закрыл за собой двери и с кем-то заговорил – не то с Володей, не то с Александрой Васильевной.
Спустившись с крыльца, Яков остановился шагах в четырех от камня. Постоял, послушал. Усмехнувшись, что он вроде как чего-то боится, заглянул за камень – там было пусто.
В темноте он чуть не сбил со стены умывальник. Под ноги несколько раз плеснулась вода. Яков поправил умывальник, свернул за угол террасы, прошел вдоль стены дома, где из коридора чернели окна, – в них только что погас свет, – и остановился: перед ним, в полуметре, был уличный забор, слева – изгородь для загона, справа – стена дома. Пока он стоял, не зная, что сделать, – выйти на улицу по ограде или перелезть через забор, – услышал, как шелестят над ним листья высоченной черемухи, как постукивают об забор и угол дома черемуховые ветки…
Яков встал на завалинку, протянул руку вправо, влево, еще левее – везде черемуха!
Он заглянул в сад, – может, кто-то стоит под окнами! – но, кроме черных стволов и теней, ничего не увидел. В саду шуршало, вздрагивало, и как будто шептались несколько человек, поджидая, когда Яков перелезет через забор… Он смотрел в сад, пока не привык к шорохам, вздрагиваниям, и пока не отделался от ощущения, что в саду шепчутся какие-то люди.
Вернулся к крыльцу. Света на террасе уже не было.
Ограда у Мезенцевых чуть-чуть поменьше школьной, и так же, как в школе, заросла травой… Яков остановился, слушал, – ему казалось: именно в такую ночь, как сегодня, кто-то должен появиться около дома учителя.
Выйдя на улицу, он почувствовал себя свободнее и спокойнее. Нигде ни в одном доме не было света, только около магазина и еще на одном столбе горели две маленькие лампочки. В темноте дом Мезенцевых казался настолько огромным, что Якову было непонятно, как в нем живут всего три человека.
Послушав, как зашумел от ветра учительский сад, как ожили и закачались деревья, он, о чем-то сожалея, медленно пошел по улице, держась левой стороны, на которой жил Петр Иванович. Неясное сожаление Якова оформилось в четкую мысль: почему он все-таки пошел домой по деревне? Ведь он, пока сидели у Петра Ивановича, несколько раз думал, что пойдет по огороду Мезенцевых? Глядишь, встретился бы с ночным гостем… Может, он в эту минуту как раз на огороде! А если никого нет, спокойно бы пришел по задам домой.
Дорога от магазина свернула влево, к реке, и стало видно Боковскую улицу, на которой горел свет в одном-единственном доме – у Володи Петренко. «Скорее всего, кому-то мастерит новые оконные рамы к зиме», – подумал Яков. Есть еще один дом, в котором всегда поздно горит свет, – у Пашки Герасимовой. Сейчас ей за семьдесят, все давно разъехались, казалось бы, зачем ей сидеть допоздна?
Перед тем как спуститься в падинку и перейти проулок, ведущий к кузнице, Яков заподозрил что-то неладное: только что он слышал шаги в проулке, чей-то разговор, – и вдруг все смолкло! В кузнице в это время никто не работал; за кузницей – поскотина, болото… Человеку здесь ночью делать нечего… Снова послышались шаги в проулке, и Яков на слух определил – около его прясла! Кто-то засек, что Яков пошел к учителю, передал тому, кто ходит, и тот решил проучить Якова, чтобы не лез не в свое дело… А может, затеял похуже что-нибудь? Петра Ивановича боится тронуть, а Якова – можно… «Я покажу сейчас, кого можно трогать, а кого – нельзя! – обозлившись, едва не вслух сказал Яков. – Я не Петр Иванович, я сразу зашибу!» В ичигах Яков неслышно и быстро двигался вдоль своего прясла, чувствуя, как бешеной силой наливаются мускулы… С кем-то столкнулся…
– Ой, не надо, не надо, – пробормотал пьяный голос, и Яков узнал ветеринарного фельдшера.
– Что ты здесь делаешь? – спросил Яков, едва удерживаясь, чтобы не отколотить фельдшера.
– Домой иду, – совсем мирно ответил фельдшер, все еще не узнавая Якова. – Только навалился на прясло – хотел отдышаться, тут меня и схватил кто-то…
– Наваливайся на свое прясло и дыши сколько хочешь, – сказал Яков.
– До своего прясла надо дойти, – ответил фельдшер, – а я дорогу потерял… Это ты, Яков? Это же я в проулке около кузницы?! Ну, спасибо. А то я чуть в болото не зашел…
– Откуда идешь? – спросил Яков.
– С Ушканки.
– У Игната на жаренине гужевался?
– Было маленько, – ответил фельдшер, все еще побаиваясь, как бы Яков за что-нибудь не отколотил его.
Фельдшер и раньше с опаской проходил мимо Якова, а сейчас, когда стали поговаривать, что его скоро снимут с работы, он ожидал, что кто-нибудь из мужиков обязательно его отлупит, и, скорее всего, это сделает Яков.
Мужиков, в особенности Якова, фельдшер боялся больше, чем бригадира или председателя. Главного ветеринарного врача он совсем не боялся – тот со дня на день должен был уехать из колхоза. А пока что они пили и гуляли вместе, и фельдшер гордился этой дружбой больше всего на свете. Что будет потом, он не думал.
– Скоро тебе лафа отойдет, – говорил Яков, выводя фельдшера из проулка.
– Отойдет, – согласился фельдшер.
– Да ты вроде не пьяный, – сказал Яков фельдшеру. – Чего же ты шатаешься?
– Пьяный… Никак не могу выйти…
У Якова стало спокойнее на сердце, что это всего-навсего заблудившийся Петрачок. Он вывел его на дорогу, подтолкнул в спину, и Петрачок, пытаясь затянуть песню, пошатываясь, двинулся по улице. На его пьяный и хрипловатый голос изредка лениво взлаивали собаки.
Придя домой, Яков поужинал молоком с хлебом и, только лег, сразу же уснул. Всю ночь снилось ему, что кто-то огромный, низко наклонившись, заглядывает в окно, убегает, снова пытается сорвать дверь с петель – дергает ее часто, – так, что весь дом дрожит…
2320 сентября ударил заморозок, и погода установилась. С утра разъяснило, угнало последние маленькие тучки, все лето стоявшие на страже в «гнилом углу» над Харгантуйским болотом. Из-за Школьного леса выкатилось солнце – чистое, свежее. Кочаны капусты, умытые росой, вот-вот лопнут – такие они крепкие, ядреные… Земля мокрая…
Не дожидаясь, когда поднимется солнце, Александра Васильевна взяла ведро, большую корзину из приамбарка и пошла к колодцу. Она издали присматривалась к гряде: так ли уж сильно досталось огурцам, как это сказал Петр Иванович, когда пришел утром с огорода? Пока не поравнялась с баней, ей казалось, что гряда такая же, как вчера. Только вблизи она поняла: огурцов на земляной гряде больше не будет, – сегодня она соберет последние, которые уцелели. То там, то здесь она видела почерневшие, словно сварившиеся листья и стебли.
Смелее, чем обычно, она перешагивала рядки, ставила корзину, не боясь, что сломает лист или стебель, и выбирала огурцы: хорошие летели в корзину, а пожелтевшие или подмерзшие – на дорожку.
Огурцов набралось много: полная корзина! Александра Васильевна за два раза перенесла их к колодцу. Она бы унесла корзину за один раз, но боялась Петра Ивановича: увидит – будет ругаться. Вот-вот он должен подойти из школы и помочь открыть две большие кучи с картошкой.
Она высыпала огурцы в бачок, залила водой. В это время проскрипели ворота на огород, к колодцу быстро спустился Петр Иванович. Он с удовлетворением посмотрел на поблескивающие огурцы в бачке, выбрал самый лучший, ополоснул его из бадьи и с хрустом стал есть. Потом взял вилы с коротеньким чернем, подошел к самой большой куче картошки и начал стаскивать с нее тяжелую, слежавшуюся ботву.
Развешивая около бани кошму и клеенку, которыми была накрыта картошка, Петр Иванович увидел выехавшего из леса всадника и стал присматриваться, стараясь издалека угадать, кто едет. Он разглядел коня ярко-рыжей масти, а потом, когда всадник шагом проехал по мосту, узнал в нем Дементия. Петра Ивановича удивило немного, почему Дементий едет со стороны Татарских полей, – ведь коров сегодня угнали за Ушканку. Подумав, он тут же забыл об этом и пошел открывать вторую кучу картошки. Сбросив ботву, Петр Иванович остановился передохнуть и увидел: Дементий к кому-то шел по задам вдоль реки. Конь стоял привязанный около Нюриного тына.
Опуская бадью в колодец, Александра Васильевна с тревогой смотрела, к кому свернет Дементий.
– К нам идет, – сказала она. Словно чего-то испугавшись, Александра Васильевна вылила в огурцы не полбадьи, как хотела, а всю бадью. Она была уверена, что Дементий приехал из леса с какой-нибудь дурной вестью.
Александра Васильевна угостила его огурцами и пошла смотреть картошку, а Петр Иванович с Дементием сели под баней на старых плахах. Отсюда открывался вид на реку с широким болотом, за которым стеной стоял лес, на два моста с перилами – один около деревни и другой – у леса, соединенных высокой стланью; ее чуть не каждый год весной затапливало, и тогда колеса телег и фургонов скрывало по самые ступицы. Делая за мостом большой полукруг, дорога уходила в тайгу, к Саянам. От бани видно Школьный лес и Песочную гору, – туда на большой перемене любят бегать ученики. Для Петра Ивановича нет ничего радостнее, когда он слышит, как оглашается лес их звонкими голосами.
– Петр Иванович, – без всяких предисловий начал Дементий. – Я его убил.
– Что-что? – переспросил Петр Иванович, считая, что он ослышался.
– Застрелил, как собаку! – с мрачным восторгом сказал Дементий… – И мозги вылетели!
Петр Иванович уставился на Дементия:
– Кого застрелил?
– Того мужика.
– Где ты с ним встретился?
– Около Сергеева озера.
Дементий замолчал, опустив голову, как будто раскаиваясь в том, что он сделал. Петр Иванович сказал, взглянув на Дементия, как на привидение:
– У меня шевельнулось в мозгу, что неспроста ты едешь в деревню среди белого дня.
Дементий встал, убедился, что по низу никто не идет, и снова сел. Александра Васильевна тоже была далеко – что-то разглядывала на черемуховом кусте: или птицу увидела, или хотела достать переспевшие ягодины на высокой ветке и не знала, как подступиться.
– Я этих полмесяца, Петр Иванович, не столько коров пас, сколько все время шел по следам этого человека. Думаю, ты хитрый, а я еще хитрее! Я вижу, – Дементий ударил себя кулаком по колену, – кому-то понравилось около Сергеева озера! Там же и балаган, и ключ… Чувствую, ходит кто-то около нас с Яковом, видит нас, а мы его не видим! Не поверишь, Петр Иванович, другой раз что-то зайдет в голову, едешь по лесу и ждешь пули из-за каждого дерева. А что? Думаешь, он не видит, как мы проверяем за ним? Пасешь коров в одной стороне, а ездишь в другой! Но, Петр Иванович, ты ему нужен был, – нас он не тронул.
– Как ты его убил, расскажи? – Петр Иванович и верил и не верил тому, что говорил Дементий. – Яков знает об этом?
– Нет, ни одна душа на свете не знает. Я его так запрятал, что и с собаками не найдешь. Теперь, Петр Иванович, живи спокойно. Случилось, как я ожидал. Мы как стали пасти за Ильинкой, я не трогал ни Татарск, ни Сергеево озеро; дай-ка, думаю, погляжу, что будет? Если ты, думаю, прятался в последнее время на Ильиной заимке, то теперь побежишь на Татарскую! И еще я один момент учел: раз ты ночью ходишь, значит, будешь спать, пока солнце не припечет. Договорился я с Яковом и поехал с утра. Не будет, думаю, никого, уток на Сергеевом озере постреляю.
Петр Иванович сидел, отодвинувшись от Дементия, и бросал короткие, изучающие взгляды на его одежду, Дементий продолжал рассказывать:
– Не стал я заезжать на Татарскую заимку. Думаю: что он, дурак сидеть в Марьиной избе! Там же дорога рядом проходит. Чудное дело, Петр Иванович, когда от такой деревни один дом останется! Внизу Индон синеется; мостик, на котором бабы белье полоскали, цел и невредим, только наполовину под воду ушел. Соскочил я с коня, сам напился, коня напоил. За Широким болотом на Марьиных буграх лес в самое небо упирается… Около леса темно, воронье каркает. Гора, на которой был Татарск, вся белая – заросла ромашкой. Сел я на коня, скачу по нижней дороге вдоль болота, где раньше трактора лес возили, а сам думаю: ты меня ждешь с Белой пади, или с Исаковки, а я проверю тебя с тыла! Или, думаю, завязну с конем или подкрадусь, откуда, не ожидаешь!
Петру Ивановичу казалось, что Дементий все это сочиняет, – бывает же, хвастануть хочется, – но сапоги у Дементия мокрые, он их только что около моста вымыл, и штаны в грязи чуть не до пояса. Петр Иванович даже уловил запах болотной гнили, и это подтверждало правдоподобность рассказа Дементия.
Глаза его с короткими ресницами, с припухлыми красноватыми, веками, сверкнули живее, в лице появилось хищное выражение:
– Смотрю, дымок около балагана, и никого нет. Я из кустов не вылезаю, – что дальше будет. Костер вовсю разгорается, недавно кто-то разложил. Если, думаю, сейчас никто не появится, то и ждать нечего. Только я так подумал, из-за ключа по белопадской дороге человек с дровами идет. Я его узнал. Подошел он к ключу, воды набрал в котелок, идет к балагану. В одной руке дрова, в другой – котелок. Я к нему наперерез. Увидел меня. Бросил дрова, котелок на траву поставил, вроде как отдыхает. Кричу:
– Большой тебе привет от Петра Ивановича!
Двустволка у меня в руках и курки взведены. Он не боится, подходит ближе. Котелок держит аккуратно, чтоб вода не разливалась.
– Не знаю, – говорит, – никакого Петра Ивановича.
– Как же ты будешь знать, если ночью ходишь? Что ж ты, как человек, днем не зайдешь?
Усмехается:
– Ты меня с кем-то спутал.
Я ему новый вопрос:
– И меня не знаешь?
Отвечает:
– Первый раз вижу.
– Что-то, – говорю, – память у тебя короткая. Забыл, как за мостом около Первой дороги встретились? Ты про Петра Ивановича спрашивал.
Кинулся он в балаган, котелок по земле покатился. Выскакивает с ружьем.
– Теперь поговорим на равных.
– Нет, – говорю, – на равных не придется говорить: может, ты и хорошо стреляешь, а я – лучше. Собирайся, – говорю, – пойдем в контору. Там разберемся, кто ты такой и зачем ходишь?
Он мне дерзить начинает:
– Катись, дед, пока цел!
– Ах ты, – говорю, – выродок белогвардейский, я тебе покачусь и такого деда покажу…
Петр Иванович поморщился:
– При чем тут белогвардейский?
– . Враг он и есть враг, – ответил Дементий. – Он думал, что я промахнусь… А Дементий, ты сам знаешь, не промахивается, у Дементия еще рука твердая! Четыре месяца в войну снайпером был, – это что-нибудь да значит! Чего ты насупился? – спросил он, горделиво взглядывая на Петра Ивановича. – Чем ты недоволен? Может, я тебе опять не угодил?
– Не угодил – это не то слово…
Петр Иванович сидел, подперев рукой подбородок, и смотрел на дорожку около бани. Трава на дорожке красновато-бурая, с уродливо изогнутыми стебельками; листочки маленькие, круглые или продолговатые… Цвет травы впервые показался ему неприятным – напомнил цвет крови.
– Ты понимаешь, что ты натворил?
Взгляд учителя был холодным, неумолимым, как выстрел из пистолета. Дементий опешил.
– Что ты говоришь, Петр Иванович. – В голосе Дементия испуг и недоумение.
– А ты что говоришь?
– Мне больше сказать нечего. Ты лучше меня знаешь, для кого я старался.
– Для кого?
– Брось, Петр Иванович, мозги мне пудрить! Я из-за тебя рисковал жизнью.
– Я тебя не просил рисковать.
Дементий обиженно заморгал глазами:
– Вот-вот, за добро злым плата. Зря я, дурень, старался.
– Ты не для меня, ты для себя старался!
– Как так?
– Хотел показать, какой ты добрый за чужой счет! Какое ты имел право стрелять в человека?
– А он имел право ходить и угрожать тебе? Что ж мы в своем лесу не можем разобраться?
– На это есть люди, они и разберутся.
– Где они, эти твои люди? Василий Емельянович? Что он один сделает?
– Василий Емельянович не один.
– Ас кем он? Скажешь, есть еще районная милиция? Где она, твоя милиция?
– Василий Емельянович не один, – упорно повторил Петр Иванович.
– А с кем он?
– С народом.
– С каким народом? Кто за тебя заступился, скажи? Дементий! А никакого народа нет! Нечего разбираться, – переходя на мирный тон, сказал Дементий. – Я тебя выручил, и пусть это останется между нами. Пусть думают, что этого человека забрала милиция, Что тебе хуже будет?
– Надо выяснить, кого ты убил.
– Можешь не сомневаться: убил, кого надо.
– Сердись не сердись, Дементий Корнилович, а я вынужден заявить на тебя в милицию.
– За свою жизнь, Петр Иванович, врагов ты себе нажил много.
– Ошибаешься: никаких особенных врагов у меня нет, и ты это прекрасно знаешь. Раньше, не спорю, были.
– И теперь будут.
– Кто это, интересно? Уж не ты ли?
– А хоть бы и я!
– Какой же ты враг? Ты мой сосед!
– Жестковато берешь, Петр Иванович. Не забывай, ты уже старый…
– От старого бывает больше толку, чем от молодого!
– Бывает, но реже.
– А я и не говорю, что чаще.
– Из твоих слов, Петр Иванович, выходит, что на Белой пади ты лучше всех!
– Я так не считаю, и это не мне решать.
– А кто должен решать?
– Люди.
– Что люди, каждый за свою шкуру трясется!
– Я, как ты видишь, не трясусь. И ты, я тебя знаю больше тридцати лет, о себе не заботишься. Я не помню, чтоб у тебя хоть один год была легкая работа.
– Не было, – подтвердил Дементий и доверчиво взглянул на учителя. – Нам с тобой, Петр Иванович, не из-за чего ругаться. Столько лет мирно жили…
– А я с тобой не ругаюсь.
– Ты сказал, что заявишь в милицию.
– Заявлю.
– Спасибо, Петр Иванович. Теперь буду знать, что ты за человек.
– А ты что, не знал?








