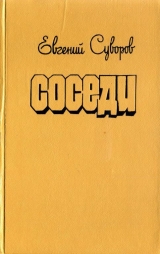
Текст книги "Соседи (сборник)"
Автор книги: Евгений Суворов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 22 страниц)
Для нас, шангинских ребятишек, Иван был тем самым лешим, о котором мы много слышали от бабушек и дедушек, а еще больше – от старших братьев и сестренок. Обыкновенный человек не станет жить в лесу, а Иван – живет, знается с лесной силой. Мы жадно прислушивались к разговорам взрослых, старались понять: кто такие Иван с Марьей, зачем они живут на Татарске?
Никто из нас ни разу не был в избе у Ивана. Даже близко к дому подходить боялись и рассматривали Иванов дом издалека – с мостика на берегу Индона, откуда до Иванова дома чуть не полкилометра, – сильно-то не разглядишь, что там делается, – или из леса, который подходит к заимке со стороны Шангины. Лес около заимки – молодой сосняк – так густ и непролазен, что в нем спрячется вся Шангина, и Иван не увидит, но пока через этот лес продерешься к поляне, на которой стоит Иванов дом, весь исколешься иголками, вымажешься в смоле, а после дождя вымокнешь в этом лесу до нитки, да и идти по нему как-то страшновато – лес этот совсем не такой, как около Шангины. И вечно в этом лесу хлопает крыльями, вскрикивает, потрескивает… Оглянешься, а никого нет. И воронье около поляны злее каркает, и ястребов здесь много, и кричат они не так, как над шангинским болотом, а громче и тоскливее… Нет ветра, а лес около Татарска шумит, и от этого шума и от тоскливого крика ястреба делается не по себе. Бывает, так и не удастся посмотреть Иванов дом.
Интересно было и возле Татарска: пади там глубже, трава в них высокая, чуть не всего тебя скроет, полно смородины, на буграх дорожки кто-то понаделал. Пройдешь по такой дорожке или пробежишь, – и покажется в этот миг, что нет счастливее тебя человека, и ничего тебе, кроме этой дорожки и этого леса, не надо, только бы еще раз пройти или пробежать по ней…
Мы дожидались того дня, когда вырастем и сможем побывать в гостях у Ивана с Марьей. Взрослым мы не доверяли, хотелось самим обо всем расспросить…
А пока мы проводили лучшее свое время в лесу около Татарских полей. Это еще сколько оттуда до заимки, а мы переговаривались чуть не шепотом, под нашей ногой ни один сучок не треснет, ни с одной колодины кора не обвалится. Ходили мы все босиком: пройдем – нас и не услышишь. Собираешь ягоды или только нагнешься гриб сорвать, а в это время как кинется что-то рядом из кустов от тебя в сторону со стоном и ревом. Ты и про гриб забудешь, уже далеко от того места окажешься, и только тогда догадаешься, что это Иванова свинья от тебя шарахнулась, тоже испугалась. Надо бы вернуться – большой и рясный куст ягод или грибов много, а уже что-то не хочется возвращаться. Уговариваешь себя, как будто не ты испугался, а кто-то другой, и уже сделаешь несколько шагов в ту сторону, откуда только что убежал, и, скорее всего, не пойдешь. А если вернешься, то собираешь ягоды с оглядкой, даже если ты не один, а втроем или впятером, потому что надеяться не на кого – те, кто с тобой, еще больше испугались. А кто испугался больше, с того уже толку мало: делает вид, что собирает ягоды, а в ведре у него, сколько ни заглядывай, все время пусто – как будто дно дырявое!
Когда ты самый старший в лесу с мелюзгой, которая и в школу-то еще не ходит, то стараешься показать, что нисколько не испугался, а просто побежал вместе со всеми. Кто-нибудь визг поднимет от страху, пока бежим спасаемся, расплачется, домой станет проситься, начнет пинать грибы или рвать ягоды с корнями. Отдадим ему остатки хлеба, посадим около ведра, – сиди, ешь с ягодами, домой еще рано. Как пойдешь, когда до самого широкого не добрал, когда у тебя только полведра? Скажут, зачем ходили в лес? Снова собираешь ягоды, ждешь и опять слышишь, только уже где-то в стороне, как треск и шум идет по лесу…
А если Марья покажется?
Но ее ни разу мы в лесу не видели. Промелькнет в ограде или по огороду что-то черное, высокое и вроде в избу не зайдет, а исчезнет, как сквозь землю провалится! Стоишь в сосняке, смотришь на дом, ломаешь голову: куда девалась Марья? Или это пугало птичье покачалось, покачалось от ветра и упало?
Около Татарска бывает все, что хочешь! Попадется брусника – за час можно ведро набрать! И обязательно что-нибудь да помешает: крик раздастся, и ни за что не поймешь – чей он? Послушаешь-послушаешь, и деру домой. А если никто не кричит, дождь проливной или гроза начнется! Если дождь без грозы, стоишь под сосной, ждешь, когда он кончится, проливной дождь недолгий. А если гроза, то лучше всего спрятаться под березой. Гроза подолгу не бывает на одном месте: прогрохочет над тобой – и уйдет в сторону.
На Татарской поляне и в дождь светло, а за Татарском, за Широким болотом, лес уступами поднимается в самое небо, и внизу, под уступами, темно, – как будто там все время ночь. Деревья на уступах стоят как попало и лежат на земле в несколько этажей. Это место называют Марьиными буграми. Внизу – пропасть смородины, но ходить туда надо со взрослыми.
Марьины бугры с Широким болотом и светлую поляну любят и птицы, и звери. Иван или Марья может сидеть на берегу Индона, недалеко от своего дома, и смотреть, как дикие козы купаются. Но стоит кому-то из шангинских появиться из лесу на поляне, козы перестанут купаться, повернут головы в ту сторону, постоят, не двигаясь, и, стараясь не поднимать больших брызг, выскакивают на берег, скрываясь по кустам и в тонком березнике. Иван ругнет шангинца, не вовремя появившегося на заимке, поздоровается с ним, если тот подойдет к берегу, и на вопрос: «Что это за брызги летели, вроде как кто-то купался в Индоне?» – ответит: «Собака мой!»
Индон около Татарска разливается в два больших озера. У круглого мостика всегда стояло две долбленые лодки. Теперь – одна. Другая лодка прогнила и давно лежит на дне, обитая длинными полосками жести и оттого похожая на маленькое военное судно, погибшее в жестоком бою. Жалко лодку! Отцы и матери, которые живут теперь в Шангине, и те, которых давно нет, когда-то плавали на этой лодке.
Бывает, два лета пройдет, и ни разу не удастся сплавать к Марьиным буграм – не берут, и все. Мал, говорят, когда подрастешь, возьмем. И нет ничего хуже, когда тебя сначала возьмут, а потом чуть не с полдороги отправят домой. Вот уж наплачешься!
От спрятанной лодки, когда переплывешь озеро, идти по длинному переходу. Если бревна, жерди и доски, обросшие мохом или травой, по ним приятно идти, радостно, а когда они в воде да еще прыгать надо с бревна на бревно или идти по жердочкам, которые и не видно под водой, то, бывает, и ухнешь в воду или в болото по колено, а то и по пояс. В воде отполощешь штаны от болотной тины – и догонять. Редко ждут: не подскальзывайся, не падай! Младшие, конечно, подождали бы, ты же всегда ждешь, но взрослые не хотят останавливаться: мол, не надо было проситься, не брали, а ты пошел. Догоняешь молчком.
Тропинки нет, кругом, куда ни глянешь, кочки чуть не с тебя ростом, трясина, засохший кустарник с дикой крапивой и шиповником встают на твоем пути непроходимой стеной, не пускают дальше, как будто там чье-то царство, в которое не каждому дано ступить ногой. Продираешься через колючую преграду, осыпающую тебя мелкими сухими листьями и желто-коричневой пылью, удерживающую то за штаны, то за рубашку, пытающуюся отнять чайник, с которым ты идешь за смородиной. Душно, жарко. Не видно ни солнца, ни Марьиных бугров, – и хоть бы кто-нибудь окликнул тебя! Что они все – провалились в болото? Но нет, слышно, как идут. Догонишь последнего и идешь, как будто не отставал. На ремешке висит у тебя за спиной полуведерный темно-синий чайник.
Ждешь не дождешься, когда покажутся Марьины бугры! Тогда мы будем идти по заросшей тропинке вдоль маленькой и быстрой речки, которую можно переходить, где захочешь, и смотреть, как уходят в небо вершины лиственниц и сосен, встречающих нас сумрачной тишиной и прохладой, приглашающих отдохнуть на своих причудливо изогнутых корнях, напоминающих кресла и стулья. Теперь не прогонят домой – смородина рядом! Правда, это только хочется думать, что она – рядом, а до нее еще идешь-идешь… Кажется, что медленно спускаемся под землю, – дорога все ниже и ниже, солнце за Марьиными буграми, делается темнее и прохладнее, как будто сейчас не утро, а вечер.
Как манила, притягивала к себе дорога на Татарск, как, казалось, далеко до него было! А ведь всего каких-то четыре километра! Потом – на лодке, по переходу, вдоль Марьиных бугров, – и ты окажешься в таком непролазном лесу и так далеко, что сам же с собой соглашаешься: сегодня не удастся вернуться. Говорят, что к вечеру будем дома, но не веришь. Ты как будто на дне глубокого зеленого колодца, из которого еще выбраться надо. Но это потом, а сейчас ты даже куст со смородиной бросишь – только бы не отстать, только бы не затеряться… и опять бултыхнешься в ручей или в ямку с водой такую холодную и неожиданно глубокую, что дыхание пресекается. Обожжет тебя водой, как огнем! И после этого ничего не страшно – и у ямки с водой есть дно! А если нет, то всегда можно схватиться за траву, какую-нибудь валежину или корень. И вот когда во второй или в третий раз выжмешь штаны и рубаху, согреешься, такая радость охватит, как будто ты в целебном источнике искупался! И ты нисколько не завидуешь тому, кто осторожно прошел мимо ямок с водой и ни в одну из них не бултыхнулся по-настоящему – штаны замочил не выше колен, и только. И если кто-нибудь над тобой засмеется, что ты уже два или три раза искупался, а он ни разу, то это за смех не считается, ты-то знаешь, что это за ямки с ледяной водой, скрытые зелеными и желтыми листьями. Тому, кто смеялся, еще придется бултыхнуться в такую ямку! А тебе ничего, если ты еще раз искупаешься, – мокрому не страшно.
Свернули с тропинки, зашли в лес, и никого не надо догонять, как это было вначале. Застрянешь где-нибудь в кустах и доволен, что никого нет рядом, что ягоды тебе одному достанутся. Только что крупные ягодины ударялись о широкое дно чайника, заставляя его позванивать коротко и удивленно, и вот уже ягоды сыплются в чайник бесшумно. Тебя кричат, а ты откликнешься не сразу: мол, не кричите, никуда не денусь, здесь я! А когда долго никто не зовет, то надо самому крикнуть. Ожидаешь открика далекого, едва слышного, и вдруг кто-нибудь отзовется рядом с тобой. А когда ты к нему подойдешь, он упадет на куст, бьет ногами, давится от смеха… Тут уж ничего не поделаешь, бывает, что со страху крикнешь раньше, чем нужно, а потом молчишь до тех пор, пока не начнут тебя кричать, и ты с удовольствием отзовешься.
Вот так с криками, с купаниями в ледяной воде, доводящими до озноба, продираешься от одного куста к другому, идешь по упавшим деревьям высоко над водой, боишься рассыпать ягоды, и вдруг покажется, что ты заблудился, что тебе отвечают чужие голоса, что ты никогда не выберешься из этого темного кустарника и леса, затопленного водой. Идешь быстро, где и пробежишь, и всегда в это время, как нарочно, один куст ряснее другого вырастает перед тобой, протягивает ветки с черной смородиной прямо в руки, прямо в чайник!
Бывает, отобьешься от старших и заблудишься. И сразу же вспомнишь Ивана с Марьей, и начнешь звать не шангинских – их уже все равно не слыхать, – а Ивана. Чудится тебе, что он где-то здесь, рядом, надо только подольше покричать. Кого еще встретишь в лесу возле Татарска к вечеру, когда солнце скрылось за тучами и вот-вот начнется дождь и гроза?
Было несколько случаев: найдет Иван заблудившегося человека, выведет на дорогу, покажет, в какую сторону идти домой.
7Ни через день, ни через два Иван не зашел в контору и не сказал главному бухгалтеру, что согласен дать взаймы или подарить десять тысяч.
Он старался во всех подробностях вспомнить разговор в бухгалтерии. Его интересовали не только слова Михаила Александровича, но и то, как он сидел, как смотрел на Ивана и на своих помощников, какое у него при этом было выражение лица – серьезное или нет? И дело вовсе не в том, что Ивану нужно, чтобы весь тот разговор оказался несерьезным. Он только старался выяснить – пошутил Михаил Александрович или нет. Если пошутил, то даже лучше: главный бухгалтер не ждет, а Иван заявится и отдаст деньги!
Казалось бы, чего проще, чтобы ни над чем не мучиться и себя не обманывать, – пойти, отдать деньги, и делу конец! Но как это сразу сделать? Сразу не получится…
Отдать деньги Иван вроде бы готов, – но что такое Дом культуры?
Как-то он хотел выйти из конторы, – засиделся у Михаила Александровича, – и не то что не мог пройти, а испугался содома, который увидел на первом этаже.
Он шел через фойе, в котором опять начались танцы, и хотел только одного – благополучно дойти до дверей, которые то и дело оглушительно хлопали, и было непонятно, как на первом этаже не вылетали стекла. Пока за Иваном не захлопнулись двери, ему все время казалось: в него обязательно швырнут чем-нибудь, ударят, в лучшем случае, так подтолкнут, что он не выйдет, а кубарем выкатится на улицу.
Опомнился он за бабагайской стланью, когда в сумерках промелькнули последние дома Полыновской улицы. Перед Шангиной он как будто успокоился. Этому помог свежий пшеничный воздух полей и придорожных трав и дорога, которая всегда его успокаивала, обещала впереди что-то радостное, и он, оглянувшись на Бабагай, пробормотал:
– Это ж надо – танцев испугался! Народ веселится, а мне страшно!
Почему-то именно из-за танцев, можно сказать, из-за одного этого случая, Ивану не хотелось отдавать деньги на Дом культуры. Ему казалось: тогда его сбили с ног, пели, танцевали на нем, и у него до сих пор болят руки, ноги, бока…
Михаил Александрович, ладно, он всяко может сказать, на то и главный бухгалтер, но у Ивана-то выходило что-то совсем непонятное: вы мне так, а я вам – по-другому! Вы на меня ноль внимания, а я вам – полное внимание! Вы надо мной смеетесь, а я иду к вам навстречу и как будто не вижу и не слышу вашего смеха!
Пока главный бухгалтер жил в Шангине, Иван заходил к нему запросто. Михаил Александрович был не очень разговорчивым, но держался так, будто не Иван у него в гостях, а он у Ивана. Может, по этой причине заходить к нему было намного приятней, чем к другим.
Около Михаила Александровича Иван мог сидеть молча хоть час, хоть два. Изредка тот или другой спросит что-нибудь, и опять они молчат, вроде как стараются понять, что было сказано. Надо Михаилу Александровичу что-то по хозяйству сделать, – воды принести или сена корове дать, – то в это время все жена делает. Она редко когда вмешается в разговор, а если вмешается, то скажет что-нибудь веселое и сама же смеется. Ребятишек у них пятеро. Они что-то делают, уходят и приходят, и ни одним словом не обмолвятся при чужом человеке, все взглядом, – как отец.
У Ивана детей нет, и он тайком старался понаблюдать за которым-нибудь.
Только теперь, в конце жизни, Иван пожалел, что не взял никого в дети. Чужих он не хотел брать, а свои никто не отдавали. Крепко подвела Наталья: обещала отдать пятого ребенка, потом – шестого, потом – седьмого… Из одиннадцати Иван так ни одного и не выпросил. Теперь-то он понял, что и чужого хорошо было бы, но – поздно. Куда им теперь? Чужого даже лучше было: он бы по-настоящему стал своим, а Натальин убежал бы или в гости бы ходил домой…
Что ни новый председатель, Ивану печаль: так и чешутся у них руки, хочется им прогнать Ивана с заимки!
«Чего ты переживаешь? – скажет ему Михаил Александрович. – Ну, распашут Татарскую поляну, посеют там зеленку или клевер – дом твой никто не тронет!»
Иван сразу же сникнет.
«Нельзя распахивать поляну».
«Почему?»
«А ты съезди, посмотри. Только обязательно летом».
«Я был на заимке…»
«Когда был?»
Прошло четыре года, как Михаил Александрович приезжал на заимку еще со старым председателем колхоза. Иван им тогда карасей наловил. Уху сварили на берегу Индона. Уж на что председатель крикливый был, а на заимке притих: сидит, карасей лопает, по сторонам оглядывается, красотой не может налюбоваться. Черемуха, правда, к тому времени давно отцвела, но зато столько цветов, а больше всего – ромашка, вся поляна и весь бугор – белые. Тут же тебе река, озеро, Марьины бугры с поваленным лесом в небо упираются, под уступами, хоть и солнце ярко светит, темно, и кажется, что там, в бездонной пропасти, живет Кащей Бессмертный, с которым один на один борется Иван Федосов и никак не может победить.
Михаил Александрович не первый раз на заимке, его не удивишь, а тоже сменился с лица – сидит с Иваном на поваленной березе, смотрит на другой берег и как будто чего-то ждет оттуда.
Председатель долго ходил по поляне, сорвал большую ромашку, сел рядом и говорит:
«Живи, Иван, не трону я тебя!»
Так с ромашкой в руке и к машине пошел. Ивану повезло тогда – хороший был день!
В апреле исполнился год, а новый председатель еще ни разу не был у Федосовых, и в этом Иван видел дурной знак. Вся надежда на Михаила Александровича… Но вот беда: переехал Михаил Александрович в Бабагай – и как отрезало: Иван перестал к нему заходить. Михаил Александрович отодвинулся от Ивана не только по расстоянию (теперь до него не четыре, а девять километров), он сделался важнее и как будто недоступнее с тех пор, как его дом стоит недалеко от председательского дома. А может, дело не в километрах и не в соседстве с председателем, а в том, что в колхозе «Большой шаг» теперь не четыре, а семь бригад: стал крупнее колхоз – и сразу же сделался крупнее Михаил Александрович!
Иван сначала сильно огорчился этому, а потом вслух сказал себе:
– Правильно, что не надоедал Михаилу Александровичу… Сейчас друг тот, кто редко заходит!
Иван представлял, как заговорит родня, как на него рассердятся, когда он отдаст деньги колхозу!
8– Марья, оденься как невеста! Поедем в сельсовет регистрироваться!
Каждый раз, когда она первая заговаривала об этом, Иван начинал сердиться. Как-то так совпадало, что Марья звала в сельсовет зимой, после тех дней, когда он сильно болел, и она торопилась расписаться с Иваном, чтобы не переживать за деньги.
Марья рада не рада, что Иван позвал в сельсовет. Суховатые черты ее лица сделались мягче – Марья пыталась улыбнуться, и эта улыбка никак не могла вырваться наружу.
Иван взял ведра и пошел к колодцу. День теплый, солнечный, с пяти часов утра можно ходить в одной рубахе, и он, встречая первый такой теплый день, снял пиджак и бросил на лужайку. Возле широкого колодезного сруба, с той стороны, куда выливали из бадьи лишнюю воду, трава вырастала сочная, высокая, с цветами одуванчика, клевера и медуницы, горевших среди метелок пырея ярко-желтыми, розовыми и синими огоньками, целое лето не отпускавших от себя шмелей и пчел. Ивана оглушил птичий гам, он долго стоял и слушал, удерживая бадью с водой на краю сруба, ему казалось: на заимку прилетели все птицы от самой Шангины, Исаковки и Артухи, чтобы сообщить Ивану, что сегодня началось лето.
Поднялось солнце, птичий базар примолк, и теперь можно было различить отдельные тихие и радостные голоса птиц, продолжавшие славить приход лета. Тепло волнами разливалось по широкой поляне, заставляя кусты черемух еще больше дурманить воздух. Вчера не было, а сегодня летали разморенные жарой и уже чем-то недовольные мухи.
Иван, как будто опять было Первое мая, надел все самое лучшее: новый шерстяной костюм – синий, в полоску, хромовые сапоги, зеленую рубашку. Прошел по ограде, увидел, что не все сделано, чтобы идти в Шангину: не налита вода в желоб, не спрятаны топоры… Таких мелких дел набралось много, и он, нисколько не осторожничая, – как будто не был одет по-праздничному, – налил воды в желоб, все, что нужно, убрал, занес в сени и под сарай.
Марья вышла на крыльцо в старом простеньком платье, только что не разорванном, в красной кофте, которая тоже была не новая, но которую Марья любила, и в ботинках с высокими голяшками. Ботинки были что надо – старинные и модные, – и гарусный, с красными цветами и зелеными листьями черный платок на плечах…
Марье казалось, что она нарядилась как принцесса. Она ждала, что Иван похвалит ее, а он и платье и кофту сразу же забраковал.
Марья оглядела себя в зеркале и сказала:
– Люди будут смеяться, если все новое надену!
Иван согласился.
– Все сделал? – вежливо спросила Марья, считавшая, что теперь ей, так красиво одетой, ни к чему прикасаться не надо.
– Как будто все, – ответил Иван, оглядываясь и припоминая, не забыл ли чего, чтоб потом не пришлось возвращаться с полдороги.
Марья замкнула двери, ключ отдала Ивану.
– Ну, пошли? – сказала Марья, а сама не двигалась с места: она не понимала, как можно бросить все без присмотра?
Иван кое-как дождался Марью, закрыл ворота, и они, как будто под музыку, медленно пошли по дороге, по очереди оглядываясь на свой дом. Только Иван оглядывался не потому, что до вечера дом оставался без хозяина и ему что-то угрожало, – он всегда так делал, когда уходил куда-нибудь, как будто обещал: я скоро вернусь!
Дом оживлял поляну. И речка, и озеро, и мостик из круглых бревен, уходящих в воду, на котором теперь полощет белье одна Марья, березы, разбросанные по берегу Индона, воронье и ястребы, маленькие птицы, летавшие над поляной, небо и предгорья Саян были для дома! В этот яркий летний день дом казался особенно приветливым, сказочным, как будто он стоял на поляне с незапамятных времен. Убери дом – и не будет так светить солнце над поляной, не будут такими синими река и озеро, меньше останется птиц…
– Дорогу в Шангину не забыла?
Марья не ответила. Она старалась идти: впервые за много лет она шла без ведра или корзины, без косы, без граблей и вил, без веревки, чтобы принести сена, не катила пустую или груженую тележку или санки… Ничего не надо было делать! Она шла, стараясь подражать Ивану, – идти и не замечать за собой, что идет, – но у нее ничего не выходило. Сама не зная зачем, она остановилась и, пока Иван не оглянулся, смотрела в его удаляющуюся спину. Ей казалось: зря она идет, зря послушалась Ивана!
Марья спрашивала у шангинских, когда они заезжали на заимку, сколько ей причитается денег, и поняла, что все деньги записаны на Ивана. Она знала, что в сельсовете надо расписаться, потом бумагу дадут, в которой будет сказано, что Иван с Марьей – муж и жена. Тогда половина денег – Марьины. А она не умела расписываться, и опять ей казалось: обманут, что-нибудь не так сделают!
– Куда ты идешь?
– В Шангину, – спокойно ответил Иван, так как ждал этого вопроса.
– Зачем?
– Поедем в Бабагай.
– Что я там не видала?
– Распишемся, ты же просила.
– Чего раньше не хотел?
– То раньше, а то теперь, – уклончиво ответил Иван, стараясь ни словом, ни жестом не обидеть Марью.
Последние годы Иван скандалит с Марьей из-за одного и того же – зачем он идет в деревню, когда дома есть все?
Марья хороший совет давала Ивану: надо тебе разговор послушать или песни, купи радио, сиди слушай! А в Шангине чего ты не видел?
Есть у Ивана старенькое радио, но его никто не берется отремонтировать, а новое он не решается купить: денег, что ли, на радио жалко или чего-то другого боится, не поймет. Марья от занавесок отказалась, Иван – от радио, и все у них осталось так же, как было и двадцать лет назад, и тридцать!
Марья довольна, что ничего не изменилось в избе.
А Иван?
Жадным он себя не считал, даже слышать об этом не хотел, и в последнее время доискивался причины, старался понять: почему это в избе у него все самодельное – кровать, табуретки, ложки, чашки… Даже гвозди, на которые Иван вешает одежду, – деревянные! В том, что Иван ни себе, ни Марье ничего интересного за всю жизнь не купил, он искал какой-то тайный, скрытый от него смысл, который он должен был разгадать хотя бы сейчас, под старость. Кажется, Иван начал догадываться, в чем тут дело… Не зря он ничего не покупал, не разбазаривал деньги по пустякам! Что из того, что над ним смеялись? Хотели, чтобы Иван был жадным, – а не потому, что он на самом деле был таким. Выходит, люди смеялись не столько над Иваном и Марьей, сколько над собой!
Он похвалил себя, что догадался сделать так, как он собирался сделать, – расписаться с Марьей в сельсовете. Подарит Иван колхозу деньги, узнает Марья и, это уже точно, скажет: «Свои десять тысяч ты бросил коту под хвост! Там и возьмешь! А это – мои!» Иван не станет спорить: пусть Марья поцарствует! Столько лет Иван, можно сказать, один был хозяином двадцати тысяч! Дошло до Ивана и то, что люди хоть и смеялись над Марьей, а все-таки жалели ее. Над Иваном так не смеются, но и не пожалеют, и потому Иван отдаст деньги не частному лицу, а колхозу.
Около моста Марья хотела перелезть через бревенчатую изгородь, зашагнувшую далеко в воду, и идти по задам, вдоль реки, но Иван сказал, что он до этого ходил по деревне, ни от кого не прятался, и сегодня они тоже пойдут по деревне.
Она поднималась за Иваном по проулку, видела много домов и построек, слышала голоса людей, рокот тракторов, лай собак, мычанье коров на колхозной ферме, но сердце ее билось учащенно не оттого, что она столько всего видела и слышала, просто ей тяжело было подниматься в гору в праздничных ботинках, и она не знала, будет ли все так, как говорил Иван.
Иван был уверен: как только Марья ступит ногой в деревню, сразу же что-нибудь не так сделает! Сам это придумал или ему внушили люди, что она обязательно насмешит всех? Но пока ничего такого не случилось. Иван через дорогу поздоровался с мужиками, потом с какой-то женщиной, а Марья даже бровью не повела в ту сторону, как будто не видела и не слышала, что Иван здоровается!
«Молодец Марья, – ничего не замечает! Не то что я: «Здравствуйте!», «Добрый день!» Разве обязательно с каждым здороваться? Надо еще посмотреть, кто идет, может, он недостоин моего приветствия!»
Вслух Иван сказал:
– Ты хоть отвечай, когда с нами здороваются.
– А ты для чего? – сказала Марья, продолжая идти впереди Ивана. Она как свернула от проулка, так и шла по той стороне улицы, которая была ближе к реке, а стало быть, к лесу и к Татарску.
И хорошего коня, и легкий ходок, и сбрую Иван получил без бригадира – тот минут десять или пятнадцать назад уехал куда-то на мотоцикле.
– Оно мне, однако, попадет маленько! – весело говорил Захарка, отдавая Ивану бригадирова Гнедка, ходок и сбрую. – Сам бы он также сделал, – успокаивал себя Захарка. Несмотря на шестьдесят лет, волосы у Захарки черные, как конская грива, не собирались седеть и оставались такими же непокорными, как в детстве. Глядя на Ивана смеющимися и добрыми глазами и по привычке приглаживая густые волосы, нестареющий Захарка продолжал: – Такой случай раз в жизни бывает! А невеста где? – спросил он, как будто предстояла не стариковская поездка в сельсовет, а шумная свадьба двух молодых людей.
– В бригаде, – строго ответил Иван, боясь, что Захарка переступит ту самую грань, после которой веселый разговор превращается в обыкновенную шутку, которую потом ничем не исправишь.
Захарка мигом прогнал с лица веселость, но все таким же бодрым голосом проговорил:
– Давно не было Марьи… Лет десять!
Захарка из тех людей, у которых всегда хорошее настроение, которое победить ничем нельзя, и он, не обращая внимания на ершистый Иванов вид, тут же взялся запрягать коня для Ивана.
Проходившие мимо доярки и скотники видели Ивана, о чем-то говорившего с Захаркой и, чтобы зря не стоять, помогавшего конюху запрягать коня. Никому в голову не приходило, что Марья надумалась выбраться с заимки, сидит сейчас в бригадной конторе и из окна наблюдает, что происходит на Петуховой горе. Раньше здесь ничего не было – с горы катались на лыжах и санках, – а сейчас всего понастроили – и горы вроде как не стало. Никто ни с какой стороны не идет больше, и Марья смотрит на телефон, поблескивающий черной краской… От проводов и лампочек ей страшновато, и она, как к чему-то спасительному, садится ближе к подоконнику, на котором, касаясь стекла железным кольцом, стоит высокий закопченный фонарь – такой же, как у Марьи в доме: откуда-то Иван принес.
Кто-то протопал по крыльцу, замешкался в сенях. Марья приготовилась встретить кого-нибудь чужого, распахнулись двери – Иван.
– Марья, поехали!
Она продолжает сидеть не шелохнувшись.
– Поехали-поехали, – торопит Иван, думая сейчас лишь о том, как бы не вернулся бригадир да не отобрал своего коня, ходок и сбрую, – вдруг на что-нибудь рассердится, – придется тогда ехать на какой-нибудь кляче и на простой телеге с поломанным колесом.
Марья вышла вслед за Иваном и от крыльца увидела: Захарка лихо сидит в ходке, натянув ременные вожжи, удерживает гнедого коня, который никак не хочет стоять на месте.
– Знаешь, кто я? – спрашивает Захарка.
– Знаю. Захарка…
Неизменившийся Захарка всем своим видом говорил Марье, что все на свете хорошо, что люди сами выдумывают себе лишние хлопоты и печали, и она с легким сердцем села в ходок и подумала, что, может, и правда все лучше, чем кажется.
К часу дня Иван с Марьей были в Бабагае.
С середины улицы, по которой въезжаешь в Бабагай из Шангины, Марья увидела под горкой, слева от стлани, поблескивающее озерко, окруженное темными елями; сосны, березы и ели захватили всю низину до самого конца Бабагая, разделив село на верхние и нижние улицы, которые, кроме стлани, соединяет несколько тропинок; по ним редко кто пройдет, чтобы не набрать воды в ботинки. Иван говорил: напротив магазина и почты теперь мостик, по которому идти среди звенящих ручьев одно удовольствие! Но мостика отсюда за лесом не увидишь.
Когда шагом ехали по высокой стлани с глубокими колеями от тракторов и машин, Марья издалека узнала сельсоветский дом из толстых почерневших бревен, немного покосившийся и вросший в землю, с тополями под окнами. Дому этому лет сто, не меньше. Смутил ее огромный двухэтажный дом, который тоже стоял за стланью, только немного правее. Об этом доме она слышала от Ивана, но ни разу не видела и не была в нем. Она почему-то думала, что все равно туда придется идти, и не знала, как она там будет идти, как разберется…
Марья легко вздохнула, когда Иван подъехал прямо к сельсовету.
– Илья бы никуда не уехал… Одна Октябрина ничего не сделает.
Глядя только перед собой, Иван пошел впереди Марьи, ступая медленно и чуть пригнувшись, как будто шел не в праздничном костюме и со свободно опущенными руками, а поднимался по лесенке в амбар с мешком пшеницы и боялся споткнуться.
Сельсоветская ограда Марье понравилась: большая, с крепким высоким сараем, под которым стояла запряженная в телегу лошадь и ела овес. От калитки до крыльца – тротуар. Слова «тротуар» Марья не знала – для нее это были ровные, красиво лежащие на земле доски, по которым красиво идти. Пока шла по тротуару, успела заглянуть в окна с резными наличниками и ставнями, увидела, что там сидят люди. Дверь в сени распахнута настежь. Иван из сеней оглянулся, предупреждая взглядом, что начинается самое главное. Она кивнула, что, мол, понимает, поправила на себе платок и кофту и вслед за Иваном вошла и остановилась в дверях.








